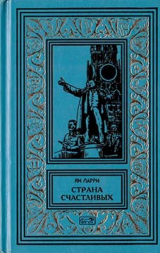
Текст книги "Собрание сочиннений Яна Ларри. Том первый"
Автор книги: Ян Ларри
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 36 страниц)
Башка идет кругом.
Но губошлепством заниматься некогда.
– Ничего. В новой квартире всегда беспорядок, пока вещи по местам не расставишь.
Спим «впритычку». Где ткнулся, там и заснул. Едим на ходу. Отец носит кашу в кармане.
– Ух, делов завернули, – жмурится отец и убегает.
* * *
С солдатами дело налаживается.
Вчера отец рассказывал, как он и какая-то девица партийного звания обезоружили целый эшелон.
– Ничего. Народ смирный, – говорит отец, – хорошие ребята.
– Как же ты это… воевал с ними?
– Очень даже просто. Пришли мы с барышней. Она, говоря по совести, и настропалила меня. Давайте, говорит, товарищ, попробуем. Что ж, можно, говорю, отчего не попробовать. Ну, пришли. Барышня говорит: выступайте. Ну, выступил, конечно. Так и так, говорю, товарищи. Поскольку вы все вооруженные, нельзя ли просить сделать одолжение генералов пощипать немного. Это, говорят, ты, дядя, брось. Мы, говорят, баб своих сколько времени не щипали, а баба – она вкуснее любого генерала, даже при орденах который. А я будто дурачок. Что ж, говорю, баба полезное существо. Щиплите себе на здоровье, но в таком случае нельзя ли попросить оружьица у вас. Мы в таком разе сами генералов почешем. Тут пошел раздор между ними. Кто дать, кто не дать. Однако нашлись партейные среди них, и мне это моментом дело обтяпали. Девица, которая была со мной, так и говорит Зорину на меня: урожденный, говорит, оратор… Во, балда! Видал, какой у тебя отец. Урожденный оратор. Я, брат, и завтра пойду.
* * *
Эсеры бросили в театре во время митинга бомбу.
– Ну и гады ж, – возмущаются рабочие, – ну и стервячья порода. И так голова кругом идет, а эти подлюки с бомбами.
Прихлопнули все газеты, дующие в буржуйскую дудку. Гимназисты в знак протеста объявили забастовку.
Было занятно.
* * *
Говорят, что беда не ходит в одиночку.
Рыжий гимназист в очках, всегда выступавший на митингах, объявил Кушнаревку «Свободной Элладой». Район захватили анархисты и на перекрестках повесили черные флаги. Стащив где-то броневой автомобиль, рыжий гимназист разъезжает по городу под черным флагом и разбрасывает листовки с разной печатной чушью.
Впрочем, броневик у гимназиста отняли какие-то пьяные парни и устроили на главной улице бесплатное катанье. А когда бензин кончился, броневик бросили посреди улицы. Отряд красногвардейцев уволок его на веревках во двор совета.
На другой день гимназист объявил безвластие. На главную улицу вышло около сотни анархистов, одетых в черные кожаные куртки, с револьверами и карабинами в руках.
Распевая во все горло какой-то марш, они прошли несколько раз взад и вперед по главной улице и остановились перед советом. На балконе появился товарищ Зорин. Он устало смотрел на анархистов и чего-то ждал. Гимназист выскочил вперед и крикнул:
– Да здравствует анархия!
Зорин поклонился.
Анархисты заорали:
– Ур-р-ра!
– Мне передали, – громко сказал товарищ Зорин, – что отряд истинных революционеров-анархистов изъявил желание раздавить гидру контрреволюции – генерала Дутова.
Анархисты начали переглядываться.
– Конечно, – продолжал Зорин, – желание это вполне законное. Пока мы не раздавим последышей монархии, – революция в опасности. Совет приветствует ваше мужественное решение. Идите, товарищи. Никто не смеет насиловать вашу волю. Ни запрещать ни разрешать вам, анархистам, мы не можем.
Впоследствии товарищ Зорин говорил:
– Никогда не подозревал, что они такие болваны. Думал, придется красногвардейцев будить… И откуда это они пистолетов себе набрали…
Анархисты, во главе с рыжим гимназистом, реквизировали в городе весь одеколон и, перепившись, укатили куда-то, угнав выпущенный из ремонта паровоз.

Глава XII
Мне шестнадцать лет, и мир лежит передо мною как одна дорога.
Это ничего, что голодно. Неважно, что вокруг груда дымящихся развалин. У нас есть песня и в этой песне – хорошие, крепкие слова:
Мы наш, мы новый мир построим…
* * *
Солдаты бросили фронт. Немцы идут следом, занимая одну губернию за другой. Это злит.
– Какая ж сознательность у них козья? – возмущается Финогенов. – Видят ведь: устал народ от войны. Неужели понять нельзя?
– А им что?
– Как что? Мы им пример показали, пущай и они бросают к чертовой матери…
Евдоха кипятится, будто самовар, набитый горячими углями.
– Встал бы я да закричал им: «Немцы вы дорогие, что это вы, братцы, делаете, сукины вы дети?!..»
* * *
Завод опять остановился. Дядя Вася ходит мрачный и каждый день ссорится с отцом.
– Выходит, правы все-таки меньшевики, – заводит разговор дядя Вася.
Отец незлобиво отмахивается:
– А, брось… Меньшевики да меньшевики. А что меньшевики? Стало быть, меньше их.
– Ты ж пробка! – кричит дядя Вася. – Ты и разбираться-то не можешь в партиях.
– Ну, это уж ты брось! – сердится отец. – Был пробкой, да сплыл.
– А в чем разница, знаешь?
– И знать не хочу, – упрямо говорит отец, – я свое знаю, больше знать ничего не желаю. Ты бы, Вася, бросал своих меньшевиков. А? Пробка ты, пробка!
– Брось, Вася, бро-ось. Я, брат, во всех партиях побывал, все программы насквозь вижу.
– И ни черта ты не знаешь. Немцы-то идут.
– Пойдут да перестанут. Увидят мирный народ и образумятся. Мы ихнего не хотим, и они нашего не тронут.
– А вот трогают.
– Ну-к, что ж… Будут напирать здорово, так мы и в морду сумеем.
– До победного?
– Не до победного, а свое защищать поднимемся.
– Пойдет-то кто?
– Пойдут!.. Все пойдут. Отдохнут немного и встанут.
– Ты-то пойдешь?
– Почему ж не пойти?
– А раньше-то шел?
– Раньше – забывать надо. Раньше – неизвестно за что на убой посылали, а сейчас защищаться станем.
– Храбрый ты очень! – усмехается дядя Вася. – Чего ж ты на генералов не идешь? Пошел бы на Дутова да показал себя.
– Ну-к, что ж, надо будет пойду.
– Ну и ступай!
– Ступать тут нечего. Сколько их, генералов-то. Да им, брат, матросы одни наклепают.
– А Красную гвардию, как курей, щиплют.
– Пустое ты говоришь, Вася. Ей-богу, пустое. Большая ты пробка, как я погляжу. Никак ты в политике не разбираешься.
* * *
Привезли убитых красногвардейцев. Их похоронили на площади и сверху поставили какие-то рогульки.
– Чего это рогульки-то?
– Балда. Не рогульки, а памятник беззаветным героям.
Волосатые ребята в длинных рубахах распоряжаются на улицах, устанавливая памятники, похожие на мышеловки.
– Живописцы! – смеется Финогенов. – А чего наворотили и не понять.
– Ничего! – говорит отец. – Пускай себе стоит. Зачем людей обижать. Может, они от всего чистого сердца, а мы смеемся над ними.
Финогенов покашливает:
– Да мне что. Пускай стоит. Смешно, конечно, но если от чистого сердца, – не возражаю. Может, и ихняя жизнь была несладкая.
* * *
По городу расклеены объявления, призывающие вступать в Красную гвардию.
Партия объявила «десятипроцентную мобилизацию». Об этом сообщил нам прибежавший дядя Вася.
– Слыхал, большевик?
– О чем это? – спокойно спросил отец.
– Партия-то мобилизацию объявила…
– Ну?
– А большевики, герои, в кусты! Половина билеты побросала!
– Ну, это ты врешь! – не поверил отец. – Не может этого быть!
Впоследствии мы узнали, что «это» хотя и было, но насчет «половины» дядя Вася поднавалил. Правда, нашлись и такие, которые бросили партийные билеты, но до половины было далеко.
– Какой мне интерес врать? – усмехнулся дядя Вася. – Говорю – значит, знаю!
Отец встал.
– Ва-ась-ка! – крикнул он, открывая дверь. – А ну-ка, иди сюда!
Вошел Вася.
– Слыхал? Партия мобилизует нас! Что ты скажешь?
– Сегодня мобилизует? – спросил Вася.
– Ну, хоть сегодня!
– Что ж… Сходить надо – узнать!
– А пойдешь? – задал вопрос дядя Вася.
– Нет, сидеть буду с бабушкой!
– Видал? – засмеялся отец. Подойдя к Васе, он положил ему руку на плечо и повернулся к дяде Васе. – Оба пойдем… Ну-ка, где твоя половина? Два нас в квартире? Два и пойдем!
– И я пойду! – сказал я.
– Видал? – захохотал отец, но тотчас же нахмурился. – Ну, тебе-то рано еще. Подрасти надо! Вояка тоже… Стрельнут как, так штаны твои заржавеют.
– У тебя, смотри, не заржавели бы!..
– Вот балда! Да ведь это ж война. Тут, брат, тактику понимать надо. Наступленье там всякое… Сигналы… Запутаешься ты и пропадешь ни за грош…
– Ты-то откуда знаешь сигналы? Телегу от ружья не отличишь, а я-то уж управлялся с винтовкой.
– Управлялся… Посидишь дома. Таковский будешь!
Но дома сидеть я не хотел. С отцом я не стал спорить, считал это лишним. Маленький я, что ли, чтобы советоваться со всеми?
* * *
На другой день я направился отыскивать, «где принимают в Красную гвардию».
Проходя мимо дома, в котором мы жили раньше, я натолкнулся на Евдоху. Он тащил через дорогу полные ведра воды.
– Ну и лешагоны! – закричал Евдоха. – Свой водопровод загубили, а починять носы воротят. К соседям ходить приходится. У вас-то действует?
– Ты, Евдоха, не знаешь, где принимают в Красную гвардию?
– Ну, а хотя бы? Ай воевать захотелось?
– Захотелось, не захотелось, а видать, наше дело под табак. Мобилизацию большевики объявили.
– Всех?
– Не всех, а которые партейные! Ну, и в Красную гвардию набирают народ.
– Стало быть, стряслось что-нибудь! – задумался Евдоха.
– Ничего неизвестно!
Евдоха покорябал пальцами грудь.
– Постой-ка, парень! Я сичас!
Он схватил ведра и, расплескивая воду, побежал во двор. Я остался у ворот.
На улице было пусто.
На заборах висели оборванные афиши. Дремали забитые досками магазины. Загаженные, замусоренные улицы лежали под толстой корой бумаги, лошадиного навоза, остатков пищи и золы.
– Пошли! – выскочил Евдоха из ворот, вытирая о грязный фартук руки.
* * *
Во дворе штаба Красной гвардии уже шумела пестрая разнородная толпа. В углу двора около походных кухонь был слышен задорный смех.
– А ну-ка, посмотрим! – потащил меня Евдоха.
Окруженный толпою, в углу двора стоял монах в черной рясе, с бараньей шапкой на голове. Монах был красив и молод. Большие серые глаза весело смотрели из-под черных бровей. Белое лицо горело румянцем. Пьяная улыбка блуждала на крупных губах.
– Ну и бес! – хохотал до слез стоящий рядом с ним рабочий.
– Вот они, монахи-то! – качал другой головой.
Евдоха подошел к монаху вплотную и приподнял высоко черную рясу:
– С припасом монах-то!
Все захохотали.
– Баб портил? – строго спросил Евдоха.
– Случалось! – светлым голосом ответил монах.
– Та-ак! – растерялся Евдоха. – А водку как?
– Водка – утешительница сердец. Ее же и монаси приемлют.
Все захохотали.
– Та-ак, – опешил Евдоха, – значит, не монах ты, а бандура какая-то!
– Истинно говорите вы! – ответил монах.
Евдоха заморгал глазами:
– Н-ну и… сукин сын!
Растерянный вид Евдохи рассмешил всех еще больше.
– Возьми-ка его за руль, за двадцать!
– Святой, святой, а тоже в Красную гвардию!
Со всех сторон посыпались шуточки:
– Полковым священником метит!
– Первый красный монах!
– А может, девка это?
– Го-го!
– Ну и дьявол!
Монах стоял улыбаясь, радостно и весело посматривая на всех.
* * *
Из штаба вытащили два стола. Началась запись красногвардейцев. Длинная очередь подходила к столу, за которым сидел худой человек. Казалось, у него, кроме длинного носа и больших несуразных глаз, ничего не было. Лицо пропадало где-то между воротником шинели и барашковой папахой с широкой красной лентой, тянущейся к зеленому верху.
Длинноносый махнул рукой и сказал неожиданным басом:
– Товарищи! За последнее время в Красную гвардию проникло очень много разных уголовных элементов. Позоря нашу гвардию разными поступками, они подрывают ее авторитет на каждом шагу. Товарищи! Уголовникам не может быть места в нашей гвардии, и я просил бы вас, товарищи, оказать помощь в этом деле. Подходя к столу, показывайте ваши руки, а если кто из вас покажется мне… ну… Словом, не обижайтесь, если некоторых придется проверять. Принимаются рабочие и крестьяне, всех остальных только по рекомендации.
Он сел.
Вытянув руки, очередь двинулась на длинноносого. По воздуху плыли корявые ладони с короткими, словно обрубленными пальцами, с въевшейся черной гарью на ладонях. Длинноносый коротко спрашивал:
– Ничем не болен?
– Нет.
Некоторые отвечали смешками:
– До хлеба охоч больно!
– Аппетита нет. Больше каравая никак не могу смять!
– Расширенье зрачков на буржуя!
– Нервы шалят против генералов!
– Хозяйские зуботычины беспокоят!
Мои руки не понравились длинноносому:
– Стоп! С какого завода?
– С механического!
– Кто будешь? – подозрительно осматривали меня десятки глаз.
– Кого на механическом знаешь?
Евдоха протолкался вперед.
– Я его знаю!
– А ты кто такой?
– А Евдоха! Сапожник! Вона? – и Евдоха растопырил ладони с крючковатыми черными пальцами. – А этот паренек – сын Ларри!
Отца моего длинноносый знал. Он улыбнулся чему-то и сказал торопливо:
– Знаю… Проходи!
Немного обиженный, я встал в очередь к следующему столу, украдкой рассматривая свои худые руки. Сзади в затылок задышал Евдоха:
– Что ж ты обмишулился, парень?
– То и обмишулился, что год не работал целый, а последнее время сам знаешь, какая была работа. Курили больше!
– Видишь, – с упреком сказал Евдоха, – не надо было курить-то. Могли и не принять. Мне говори спасибо.
– Да я и без тебя бы…
– А что ж молчал? Без меня… А сам, будто курица мокрая, стоял! И слова все проглотил.
Сзади захохотали.
Перед столом стоял монах и, кланяясь длинноносому в пояс, говорил что-то.
– Не могу! – басил длинноносый. – Жандармов и служителей культа не полагается.
– Дозвольте за народ пострадать! – кланялся монах.
Длинноносый разозлился:
– Мы, монах, не собираемся страдать. Мы драться встаем, а не страдать. Нельзя, говорю!
Но за монаха вступились уже принятые:
– Да одного-то ничего! Возьмем его!
Не утерпел и Евдоха.
– Эй, товарищ, – крикнул он, – возьми уж «Всех скорбящих»-то!
Длинноносый захохотал. Глядя на него, захохотали все.
– Пускай служит!
– Заместо гармошки будет!
– Тропари нам будет петь.
Длинноносый, смеясь, поднялся из-за стола:
– Ребята… Нельзя же так!.. Что вы, дети малые?
– Да бро-ось!
– Пускай воюет!
– Взять монаха!
– Взять!
– Взять!
– А ну вас! – махнул рукой длинноносый. – Вам же хуже!
– Ничего!
– Нам хуже не будет!
– Мы за ним досмотрим!
– Надо ж грехи монаху загладить!
Монаха приняли. И все почему-то радостно зашумели. Было и мне приятно, что приняли монаха. А Евдоха даже обнял его.
– Вот, брат, – растроганно сказал Евдоха, – осчастливили мы тебя. Помни, смотри. Драться будешь, так чтобы ни-ни! Без цикория!
Монах улыбался.
Я подошел к другому столу, заваленному грудами каких-то листов.
– Грамотный? – спросил похожий на жука, чернявый солдат.
– Плохо грамотный!
– Тогда слушай, – сказал солдат и скороговоркой начал читать с листа.
Еле поспевая за словами, я успел уловить, что мне будут выданы сапоги, шинель, папаха, гимнастерка и штаны, две пары белья и винтовка с патронами, а также буду я получать в месяц 50 рублей.
– Договор на шесть месяцев! – сказал солдат. – Через шесть месяцев хочешь – уходи, хочешь – возобновляй службу. Сколько лет?
– Восемнадцать! – соврал я не краснея.
– Подпишись!
* * *
К обеду вернулись домой отец и Вася.
– Ну, как? – спросила мать.
– Воюем! – важно ответил отец.
– Завтра в казарму! – сказал просто Вася.
Отец первый раз в жизни погладил меня по голове:
– Ты, мать, приглядывай тут за Янкой! Мальчишка ведь еще!
Я презрительно фыркнул. Вытянув из кармана договор, я с торжествующим видом развернул его перед отцом:
– Не мальчишка, а красногвардеец! На-ка, читай!
Опешив от неожиданности, отец начал читать.
– Ты с ума сошел? – ужаснулась мать. – Тебе ж годов-то даже не вышло!
– Приняли – значит вышли!
Мать начала кричать:
– Дубина ты… И те дубины, что принимали… Ребенка взяли, что вы скажете. Да я им завтра глаза, дуракам, выцарапаю! Что ж это делается только…
И залилась слезами.
– Успел, сукин сын! – удивился отец. – И лета догадался подставить. А ты не реви, – обратился он к матери, – раз печать приложена, значит – шабаш. Обратно не повернешь!
– Да ведь убьют вас, дураков! – голосила мать.
– Сразу да и убьют! Скажет тоже! Всех бы убивали, так никаких армий не хватило бы. На договор твой. Завтра скажу, чтобы вместе устроили.
Вечером пили чай и спокойно разговаривали.
– Мы их в два счета! – успокаивал отец. – Нас-то ведь вона сколько, а генералов – раз-два да и обчелся. Кишка у них слаба с нами драться…
Вася держит блюдечко в растопыренных пальцах.
– Этак тот не пойдет, другой улизнет, что же выйдет в таком случае?
– Ничего не понимаю! – говорит печальная мать. – Всю жизнь жила без революций, а тут в одном году сразу две.
– Да ведь власть-та наша? – спрашивает Вася.
Бабушка неожиданно принимает нашу сторону:
– Идите уж! Мы уж, две женщины, пробьемся как-нибудь!
– Лучше-то будет ли? – улыбается сквозь слезы мать.
– Ну, а как же! Ясно – лучше!
– А хуже-то как жили, разве придумаешь? – удивляется отец и с уверенностью говорит: – Обязательно будет лучше!
Глава XIII
Ночь.
Это наша первая ночь в казармах.
Новая обстановка немного волнует. Спать не хочется. В углах мирно течет тихая беседа красногвардейцев.
Я лежу на жестком топчане, натянув шинель до подбородка. Отец мостится рядом, разговаривая с собой:
– Одеяла бы надо взять, однако пригодятся матери. На хлеб сменяет в случае чего…
Электрические лампочки горят желтым тусклым светом. Дымные тени качаются над рядами топчанов. Серыми волнами вздымаются шинели, в полумраке смутно белеют лица и ноги.
Казарма гудит, точно пасека в знойный полдень.
Я прислушиваюсь к разговорам.
– Теперь война будет легкая, – говорит кто-то, невидимый в темноте, – теперь каждому дан и план и компас. Не вслепую воюешь.
– Что и говорить, – кашляет собеседник.
– Раньше, бывало, сидишь и думаешь: и умирать не хочется, и жить несуразно. Думаешь: чего я сижу. Человек будто бы и взрослый, а сидишь в яме вроде как дите малое, да, словно зверя, человека стережешь. А что мне немец сделал? За что его убивать? Палач я, что ли? Ну я его ухлопаю, а у него, может, дома мал мала меньше, может, семеро ртов останется. А мне какая корысть? Трупами я, что ли, питаюсь? И взяла тоска меня. Плюнул я тогда и шанцевой лопаткой оттяпал себе три пальца. Лучше, думаю, пальцы порешить, чем живую жизнь загубить. Вот она какая война была.
– Стрелять-то как будешь теперь?
– Ничто! Левша ведь я. Как дам с левой, так и все в порядке.
– Вот ты какой?
– А что, товарищ… Ребят у меня шибко много. Трое сыновей да девчонки две. Жалко ведь… Ну как, думаю, генералы осилят. Опять ведь война без конца. Невозможно ить без войны генералу. Дай, думаю себе, за сынов отвоююсь. А им, глядишь, светлая жизнь достанется. Дети же… Жалко все-таки…
– А мировые ежели буржуи?
– С мировыми-то за первое удовольствие счел бы. С мировыми, так уж самая последняя. С радостью пошел бы. Только не слыхать что-то о революции в иных странах.
Около окон задушевный голос печально рассказывает о молодости:
– Гулял я с нею полгода, а только глупостев никаких не думал. Хорошая была девушка. Вразумительная такая, ласковая. Бывало, сидишь с нею рядом и говорить ничего не хочется. Будто около солнца сидишь. Тепло тебе и спокойствие на сердце. Жалко мне и сейчас ее.
– Бросил, стало быть.
– Расстался, друг… Как посадили, так и разорвал все… Приходила она ко мне. Несколько раз приходила. Придет – все лицо мокрое от слез. Сядет и плачет да вздыхает тяжело. Не ходила бы, говорю, тревожишь ты меня. А она в слезы. Ты, плачет, погиб теперь, Сеня. Какая твоя теперь жизнь будет? Испортят тебя в тюрьме. Что ж, отвечаю, такая уж жизнь. Не один сижу. Пол Расеи мучается в каторге.
Хохот неподалеку от меня привлекает мое внимание. Рыжий лохматый дядя в солдатской ночной рубахе приподнялся на локтях и, скаля зубы, медоточит лукавым голосом:
– Просыпается солдат, что за черт? Лежит у него под боком приветственное существо и лопочет что-то по-своему. Солдата аж в пот бросило. Как, говорит, мне понимать вас, безвинная барышня: от тоски это вы или по бесстыдству? А девочка обнимает солдата да по голове гладит, будто щенка которого. «Бедни, бедни золдат», – говорит и опять – по-своему. Целует его, милует его, а тот глазищи выпучил и понять ничего не может…
Чей-то веселый голос вырывается на простор и плывет над беседой ярославским говорком:
– Служил я в кучерах у англичанина. Ну, и говорит мне англичанин этот: «Непонятные вы, русские. Загадочный, говорит, народ вы, русские».
– К чему же это он?
– Да, видишь, случилась со мной такая мура. Гулял я на Масляной, ну и захлестнуло… Так я упряжку возьми да побоку. Сплавил, короче говоря. «Ты?» – спрашивает англичанин. «Я», – говорю. «Ты, – говорит, – вор». – «Не вор, – отвечаю. – загулял. А уж как гулять начну, так мне не то что упряжки, самого себя, – говорю, – не жалко». Думал, прогонит. Однако обошлось. Только деньги высчитал за упряжь. Ну, а тут случилось потерять ему деньги. На дворе и потерял-то. Поднял, а голова кругом. И не сосчитать, сколько их. Тыщи.
– Отдал?
– Ну, а как же?! Прождал два дня и понес. Нате, говорю. Вами, кажись, обронено. «Когда, – спрашивает, – нашел?» – «Дня два, – говорю, – да все позабывал отдать вам». Англичане, скажу, крепкий народ, но этот не выдержал. Заревел. «Никак, – говорит, – не пойму я русских. Упряжку пропил, а тысячи обратно возвращает…» Ну, промолчал я. Да и что говорить мне? У них за границей, я полагаю, все на деньги рассчитано. За дружбу – доллар, за совесть – доллар, за любовь – доллар, а мне мое удовольствие миллионы стоит…
– Честный ты!
– Честность – пустое. Честность это буржуи выдумали, чтобы не обманывали их. Себя, говорю, тешил, а не честность.
Неподалеку кто-то говорил злобно:
– Это они-то голодают? Вот важность. А я и в сытое время лучше не ел. Ничего им не сделается. А подохнут – туда и дорога. Сами же довели Расею до этого.
– Ты, Янка, спишь? – спрашивает отец.
– Чего тебе?
– Так просто… Интересно, чего там мать наша подумывает.
* * *
Утром пришел в казарму странный человек. Был он какой-то неуловимый. Глаза прятал. Смотрел в сторону. Разговаривал глухим голосом.
– Я говорить не буду долго, – обратился он к нам, – кто понимает – это одно, а кто не понимает – другое.
Он вынул из кармана пачку белых билетов.
– Подходи, кто желает записаться в большевики.
Мы встали в затылок.
Туманный человек, не глядя на нас, вписывал в билеты фамилии подходивших и, дергая носом, подгонял:
– Следующий. Фамилия?
– Назаров. Илья Семенович.
– Родился?..
– Так точно.
– Да год, год…
– 1890. Не помню только: апрель, август.
– Ладно. Следующий!
Получившие билеты молча смотрели на них, потом завертывали бережно в платки и тряпочки и прятали за пазуху.
Получил и я партийный билет.
Последним потянулся было за билетом монах «Всех скорбящих», но Евдоха отвел его в сторону.
– Рано еще тебе. Отойди!
И сказал, указывая на монаха:
– Этому повремени давать. Проверить надо.
Странный человек кивнул ему в знак согласия и, сложив оставшиеся билеты в карман, упал головой на стол. Оглушительный храп тотчас ударил в стекла.
Переглянувшись, мы молча вышли, стараясь не шуметь, осторожно ступая на носках.
* * *
Нас обучают во дворе архиерейского дома.
К моему великому удивлению, я получил винтовку, совсем не похожую на ту, что я держал, охраняя банк. Была эта винтовка ладная, с другим штыком и очень удобная для действий. Я сказал об этом обучающему, молодому парню с веселыми глазами.
– Ерунда! – ответил парень, выслушав меня. – То была у тебя берданка, а это скорострельная трехлинейная винтовка на пять патронов. Встань-ка в строй да не шевелись без дела. Я сейчас все это объясню.
Нашего начальника мы еще не видели. Он мечется по городу, отыскивая броневики, пушки, пулеметы, гранаты и еще какие-то штуки, без которых, как говорит Назаров, и война не война.
Военному делу нас обучает бывший ефрейтор Перминов, широкоскулый парень с голубыми веселыми глазами. Он крепко сбит и ладно скроен. Ходит высоко держа голову, выпятив грудь колесом. Перминов терпелив, но все-таки нет-нет да и пустит матюга по нашему адресу:
– Коровы, холера вам в бок. Ну кто же так ходит?.. Солдат должон шагать с бодростью. Голова – в небо, грудь – в горизонт. Чтоб земля под ногой гудела. Видом должон врага устрашать. А вы будто купцы на прогулке, будто с холодным пузом после горячего чая прогуливаетесь.
Евдоха переступает в строю с ноги на ногу.
– Э, милый человек, – говорит он извиняющимся голосом, – нам бы попадать из ружей научиться, а эти маршруты ни к чему.
– Я тебе не милый человек, а товарищ командир, – сдвигает брови Перминов, – и опять же в строю разговоров не положено. Строй – святое место. Команда подана – значит замри. Стой, будто ты умер. А насчет ружей – забывать надо, ружье – это белку стрелять да баб пужать. Не ружье у тебя в руках, а трехлинейная нарезная винтовка, образца 1896 года со скользящим затвором и магазинной коробкой. Запомните, ребята.
– Сам ты ребята! – тихо говорят сзади.
Особенно противно заниматься шагистикой. Паскуднее этого занятия, нам кажется, и на свете нет. Тайного смысла маршировки никто из нас не понимает, а старые солдаты, как бы нарочно, шагают так, что Перминов, глядя на них, бледнеет и зеленеет.
– Ну как вы ходите? Из кабака, что ли, претесь? На свиданье пошли?
Мы молчим, но, когда подается команда «оправиться», Перминова осыпают упреками, ругают матом и щуняют всячески. Рыжий лохматый солдат Волков демонстративно плюет и растирает плевок огромным сапогом.
– Тьфу тебе! – злится Волков. – Задурили твою голову в царской, так ты и нас обдуряешь тут. А знаешь, для чего эта маршировка требовалась?
– Для парадов! – кричит Савельев.
– Именно для парадов. Генералов чтобы тешить. Я, брат, может, не хуже тебя выдрессирован в царской, а сейчас – пошло оно к чертовой кобыле под хвост. Важно стрелять толково, ну, еще рассыпной строй, а эти шаги оставить надо.
Не интересуясь маршировкой, мы охотно обучаемся стрелковому делу, а вечерами добровольно изучаем пулемет и гренадерское искусство. Тут уж Перминову помогают и старые солдаты, побывавшие в царской армии, и помогают так усердно, что мат гремит во всех углах, точно ураган:
– Балда ты, балда! Это ж пароотводное отверстие, а я тебя прошу показать надульник.
«Самочинное» начальство лютует:
– Как наматываешь? Портянка это тебе? Это ж сальник, оглобля, а не что иное!
– Фу-ты, как ругаешься! – морщится Евдоха, занимающийся под «командой» Волкова.
– Нас, брат, били за это! От ругани же у тебя ничего не отвалится, но польза тебе выйдет большая. Сальник, брат, не научишься без этих слов обматывать. А без сальника и пулемет не пулемет, а вроде фарьи. Ты вот смотри. Нитка кладется по желобу ствола. Кладется ровными рядами, да чтобы сальник не выступал из желоба, ни-ни! Туго мотать ни к чему совсем. Задержки при стрельбе получаются. Но опять же и слабо не годится. Слабо если намотаешь, – вода потечет из кожуха. А без воды – мура дело.
Потом учителя и мы садимся пить чай, но и за столом не прекращается военное обучение.
– Пулемет – дело тонкое, – говорит Волков. – А на германском фронте был у нас такой случай. Полезли на нас под Грубешевым немцы. Подолбили, конечно, снарядами спервоначалу, а потом и поперли. Ну, можно сказать, серьезный народ. Солдат к солдату, будто на подбор. Австриец, тот хлипкий. Тот больше виду подает, что воюет, а как что – так руки кверху тянет. Сдается. А немцы – те бьются. Ну, мадьяры еще хорошо дерутся. Только бестолково как-то. А немец – первый тебе воин. Он и в штыки тебя примет. С ним ухо востро держи.
– А верно, что русские штыками держались?
– Правильно говорят, – дует на блюдечко Волков, – что, что, а тут уж наша кобылка показывала себя. Уж на что, говорю, крепкие немцы, но и те не любили русского штыка. Да ведь и то сказать, он пьяный наступает, а ты тверезый. Ну, и валишь, бывало. Да и народ стервенеет. А нашего брата разозли, так он с дубинкой на медведя бросится.
– Вот румыны – те совсем поганое войско! – вставляет Савельев, тоже старый солдат. – Румын и за войско почитать нельзя. Помню, пригнали нас в Румынию, а они уже на краю сидят со своим королем. Букурешти – нуймаешти. Столицу, значит, свою профукали в два счета. И все остальное отдали в первый месяц. Смехота, а не армия. Кабы не русские, уж и не знаю, куда им бежать оставалось.
– Русские поддержали?
– А ты как думаешь? Мы как приехали, так и поперли вперед. Смеху что было. Приходим сменять их, а они, точно зайцы в норах сидят. Не окопы у них, а ямки такие. Где, спрашиваем, офицеры? Никто не знает. Офицеры-то у них, как после мы увидели, и в боях не бывают. Дорожит ими король. Дорого, говорит, обученье мне ихнее стоит. За всю войну только и побило ихних офицеров двоих иль троих. Не больше. Ну, сменили мы румын. А кругом горы да лес. Тихо. Ни стрельбы тебе, никакого звука. Агоры называются Монте-Карунда и Печера-Лат, а долина там проходит – Чебонаш. Ну, безусловно, на заре мы пошли в наступленье. Подошли, а мадьяры спят в одних подштанниках. Не ждали, стало быть, русских. Румын они ни в какую не считали, смотрели вроде как на кошачьи дрязги. Часовые и те даже спали. Ну, тут мы их и погнали. Они впереди, а мы за ними. Гора высоченная. Вверх ползешь, ползешь; конца-краю нет. Дыханье заходится. Сердце вот-вот лопнет. А ползем. И стрелять некогда. А эти, мадьяры-то, ползут в нескольких шагах. Кто без штанов, кто без мундиров, у кого винтовки есть, а у кого и нет. Видят, мы остановимся, – и они отдыхают. Наш ротный кричит им по-немецкому: сдавайтесь, дескать, все равно догоним. А они разные неприличности по-своему кричат.
– Как же ты понимать их мог?
– Сказанул тоже! Да раз человек матерится, так я тебе по харе в два счета отличу, ты хошь на каком угодно американском языке упражняйся.
– Ну, ну…
– Догнали мы их. Офицер ихний сел, открыл себе рот и сунул под усы пистолетик. Цоп – и шмякнулся. Обидно ему стало.
– А может, плена боялся?
– Плена чего ж ему бояться? Мы, расейские, не обижали, которые сдавались. А в плену им лучше жилось, чем русским. Мы ведь не звери, чтобы убивать. Тоже ведь не по своей воле воюет народ.
– А ты бы объяснил офицеру!
– Ну… офицера и не жалко, дак я не о том. Я хочу сказать, как взяли мы Печеру-Лат, так моментом и на Монте-Карунду. По хребту прошли. Посмотрели: ну и черт! И самим не верится. Такая, братцы мои, высота, что башка кружится. Облака тебя за ноги хватают, а до звезд вот-вот штыком достанешь. Вот дьявола какого взяли.
– Бывает, – говорит Волков, – однако не досказал я про пулемет под Грубешовым. Ну пострелял, пострелял немец да и попер… Мы его, конечно, ждем, подпускаем до проволоки колючей.
– Подпускаете?
– Подпускаем! А потому подпускаем, что у каждого по десять патронов. Всего-на-все. Только два раза зарядить и хватит. Подпускать-то, конечно, подпускаем, а сами боком на пулеметное гнездо поглядываем. На него надежда… Впрочем, немец себе идет. Глядим, обличье уже различить можно.







