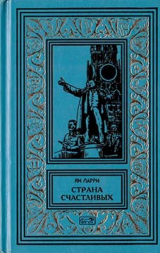
Текст книги "Собрание сочиннений Яна Ларри. Том первый"
Автор книги: Ян Ларри
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 36 страниц)
Глава XXII
Выставив караул, мы расположились в Медынье на ночлег.
Крестьяне встретили нас сдержанно.
– Деретесь?
– Деремся!
– С кем деретесь?
– Чехи управлять хотят! С чехами бьемся!
Мы объясняем крестьянам все, что сами знаем о чехах. Крестьяне слушают равнодушно.
– Побили, значит, вас?
– Где нас бьют, там и у вас чешется! Офицерня встает с чехами. Царя взад налаживают.
– Старому не быть!
– Ясно, не быть, если драться будем. А на печку залезем, так старое под бок подкатится.
Крестьяне начинают жаловаться на продразверстку:
– Рази это политика, ежели последнее под метелку метут.
Мы сидим в крестьянской избе. Изба большая, с низко нависшим черным потолком и большими балками. В углу белеет русская печь. Желтые лавки тянутся вдоль бревенчатых проконопаченных стен. В темном углу, над столом, поблескивают стекла запыленных икон с медной резной лампадкой и крашеным яйцом на лиловой ленте. По лавкам сидят в темных полосатых юбках крестьянки, суча проворными руками пряжу. Тоскливый гул веретена вплетается в неторопливый разговор. Два мужика в розовых ситцевых рубахах – два брата – стоят у печки, покуривая цигарки.
– Власть, конешно, своя, – кряхтит мужик с русой бородкой, – но, сказать прямо, бесполезная власть. Так, ить, нас и при царе не обдирали, а, ить, жестоко жили.
– Заскулил? – хмурится кочегар. – Ну, а я возьму да посажу тебя наверх. Вот тебе, скажем, сто миллионов народу, самых распрекрасных людей, а ты подкорми их пока что. Отработают после. Где хлеб-то возьмешь?
– Что же хлеб?! Хлеб мужики дадут!
– Ну, дайте!
– Взяли уж!
– Взяли – это безусловно. Раз не даете, что же нам остается? С голоду дохнуть?
– Зачем с голоду?
– Ну, научи!
– Продать мужики могли бы.
– Что ж не продавали?
В разговор вмешивается крестьянка:
– А чомер в ваших деньгах? Что на них купишь?
– Верна! А мы виноваты, что ли?
– Виноват, конешно, Николка, – говорит мужик, – но и добро свое, однако, жалко. Разоренье, ить.
– Э, дядя! – отмахивается кочегар. – Расею разоряли – не жалели, а ты десяток мешков жалеешь. Мы, вона, жизнью рискуем для народной пользы, а ты хлеба пожалел. Подожди, утрясется все, заживем. Лучше прежнего заживем.
– Да, зажить должно бы, – в раздумье дергает бородку мужик. – Но, ить, жалко же. Подумай-ка, товарищ.
– Это мы понимаем, дядя, а только что же делать нам?
– Делать, действительно, нечего, – соглашается мужик. – Ко всем углам притерло.
Молчавший до сего времени мужик бросает папиросу на пол и растирает окурок ногой.
– Будете так действовать – весной ни крохи не засеем. Вместях тоды умирать станем.
– Эх, друг, друг, – качает головой Евдоха, – и откуда у тебя такая лютость только? Ты что же думаешь: наживаемся мы на твоем добре?.. Ребят кормим, друг! Сами поддерживаем себя. Думаешь, жиреем на твоем хлебе? По четвертке ведь получаем. Ваш-то хлеб еле-еле душу живую держит. Глянь, жирные мы какие.
Мужик кряхтит:
– Обидно, ить!
– Э, друг! Заживем еще! Бро-ось!
– Да, дай бог. Мы, ить, тоже не за царя. При Николке-то, ить, тоже не сладко жили. Брали бы только поменее. Хучь бы половину к примеру. А за половину и разговоров не было бы. Сами понимаем: поддержать нужно. Но, ить, под метелку же!.. Куда же это годится?
* * *
Бабы собирают ужин. Нас приглашают к столу.
– Что ж, земляки?! Садитесь! Не побрезгуйте!
На столе теплые караваи хлеба, большая миска с дымящейся картошкой, шаньги и кувшины с молоком.
– Эх, друг, – говорит Евдоха, – рази так умирают с голоду?
Мужики и бабы смеются:
– Ай давно поститесь?
– Давненько! Кроме скоромных кобыл – ни-ни.
Евдоха ломает каравай.
– У мужика лапоть берут в починку, а он орет: голову снимают. Эко добра-то еще сколько!
В избе захохотали.
– Да, ить, и как жить, товарищ! – усмехнулся мужик с бородкой. – Такая уж доля наша. Мужику не плакать, все одно что не какать.
Бабы начали шептаться, поглядывая в нашу сторону. Старуха, мигнув бородатому мужику, вызвала его из-за стола. Зайдя за печку, они заговорили вполголоса.
– Что колдуете? – засмеялся Евдоха.
– Хорошее колдуем, – сказала розовая молодуха.
Мужик вышел из-за печки. Скривив хитрецки лицо, он почесал затылок и нерешительно спросил:
– А вы, товарищи, насчет ерусалимской слезы… Принимаете?
– Неужто есть? – просиял Евдоха, но, вспомнив что-то, прикусил язык, потускнел и, поперхнувшись, так начал кашлять, будто грудь его разрывало на части.
У отца заблестели глаза:
– С устатку-то куда бы как хорошо!
Кочегар крякнул и покраснел.
За всех нас ответил Волков:
– Ставь, дядя! Охулки на брюхо не положим.
– Своя у меня только! – засуетился мужик.
– Ничто! Была бы забористой!
– Да уж… будьте покойны. Горлодер первый сорт.
На столе появилась мутная кумышка. Бабы достали щербатые чашки, принесли кислую капусту, солонину и огурцы. Мужик перекрестился и, засучив рукав, потянулся через стол, разливая смрадный самогон по чашкам.
– Мне не надо! – решительно запротестовал Евдоха. Но мужик, ударив горлышком бутыли по руке Евдохи, налил ему чашку по края.
– Не ломайся! Не красная девица!
– Уж ты бы помолчал, Евдоха! – захохотал отец, потирая руки. – Мы-то знаем твою трезвенность.
– А ей-бо не буду пить! – отодвинулся Еедоха. – Не такое время, чтобы пить.
– Бро-ось! По маленькой-то с устатку, что сделается?
– Ни-ни! – решительно замотал головой Евдоха.
Под шумок кочегар смахнул чашку в широкую пасть и, нацелившись вилкой в огурец, крякнул:
– Разговору-то сколько!
Не ожидая приглашения, опрокинул чашку и отец:
– Эх, добра! Так по жилочкам и потекла.
Волков чокнулся с хозяином и, лихо ударив донцем о мою чашку, поднял кумышку к прищуренному глазу:
– Ой, вижу! Сидит на донышке Евдоха и слезу точит.
Все рассмеялись. Волков запрокинул голову назад и бережно перелил кумышку в глотку.
– Дай бог не последняя! – стукнул он пустой чашкой по столу. – Ну-ж, Евдоха? Ждем!
– Не буду! – твердо сказал Евдоха, хмуря брови. – А что раньше пил, так то паскудную жизнь заливал водкой. Теперь у меня линия будет.
Кумышка развязала языки. За столом завязывается оживленная беседа. Раскрасневшиеся мужики блаженно улыбаются, покачивают головами, поддакивают:
– Да, осподи боже, рази мы не понимаем. Мы это все отлично даже… Но… карахтер у мужика гибельный. Ты ему сок, а он от тебя – скок. Такие уж мы. Да и посудите – темнота, ить.
– Просветим!
– Это уж, как бог свят. Теперь просвещайся только. Конешно, под метелку метут. Сердце рвется, но, ить, и понимаем. Без нас пропадете вы, городские. Однако добрый мужик. Не жалеем.
Волкову невтерпеж.
– Вы-то сами отдаете?
– Зачем сами? И у нас отбирают. Но ты зря подъелдыкиваешь, товарищ. Могли бы, ить, и не дать.
– Спрятали бы?
– А что? Степь широка! Город схороним – не дознаетесь. А что сами не отдаем – так то пустое. Да и как можно своими руками отдать? С тоски, ить, зачичереешь. А тут – спокойно. Отнято и все тут. И не думай.
– Дык как же… Непонятное чего-то… И отдаете будто и жалеете будто.
– То-то и есть! Сказано: гибельный у мужика карахтер. Тут тебе и полное объяснение… А ну ее, к чомеру! Живы будем – не помрем. Утрясется по времени. Умнется.
– В-верна!
Евдоха скучающе шевелит вилкой огурец. По лицу Евдохи видно: мучается он мукой мученической, а виной тому – чашка с кумышкой. Глаза Евдохи помимо воли косятся на соблазнительное зелье. Губы дрожат, вытягиваются трубочкой. Пальцы беспокойно барабанят по столу. Поглядит Евдоха внимательно на чашку, подожмет губы и снова отвернется. Возьмет вилку и по огурцам почнет царапать.
– Ублажим! – кричит мужик с бородкой. – Вы не подкачайте, а мы дадим. Справимся как-нибудь.
– А дадите как? Со свечками присылать?
– Это непременно! Со свечками когда – оно спокойнее для сердца. А без нас пропадешь. За мужика во как держаться нужно.
Битый час разговор вертится около продразверстки. Но как будто никому еще не надоело говорить о хлебе. Один только Евдоха скучает.
Озорства ради я тянусь к Евдохиной чашке.
– Ну-ка, дай сюда. Чего киснуть добру.
Евдоха отстраняет мою руку. С мучительной гримасой, будто проглотил он фунт гвоздей, Евдоха шепчет:
– Не трожь! Поставлено и пусть стоит!
Разговор меня не интересует. Я наблюдаю за Евдохой и думаю:
«Выпьет или нет?»
Евдоха начинает интересоваться беседой.
– Ты, дядя, подумай, – кричит он через стол, – раньше ведь на царя мильены народные шли, а теперь в нашем кармане останется. Все на пользу народа пойдет. Жалований мы таких давать не будем. А раньше сотнями тысяч гребли министры. Тут и подумай.
С этими словами Евдоха стремительно опрокидывает самогон в рот.
– Вот так.
– Это – святой?
Дружный хохот заставляет Евдоху сконфуженно перевернуть чашку вверх дном.
– Вот замечтался, – растерянно бормочет Евдоха и, рассердившись, тянется к огурцам. – Грехов с вами!..
Волков посматривает на Евдоху с усмешечкой:
– Мечтатель… Небось вилку не сунул в хайло. Так бы это и мне почаще мечтать.
Неожиданно в окошко забарабанили палкой.
Мы вскочили на ноги.
– Эй! – крикнул голос с улицы. – Вылетай пулей! Чехи!
Опрокидывая табуретки, мы бросились к винтовкам. Торопливо одеваясь, мы прощаемся с хозяевами:
– Не забывайте!
– Разговор держите в памяти.
Бабы, схватив шаньги со стола, засовывают их быстрыми руками в карманы наших шинелей.
– Бери, бери! Не чехам же оставлять.
* * *
Мужик с бородкой открыл широко ворота. Мы вскочили в седла.
– Прощай, дядя!
– Спасибо за угощенье!
Зацокогали копыта. Отдохнувшие лошади вынесли нас в темную деревенскую улицу.
Заныли ворота.
– Дай вам бог, товарищи! – утонул сзади голос крестьянина.
– Живи!
* * *
По темным улицам бежали красногвардейцы. Из ворот выскакивали кавалеристы. Огни в домах гасли один за другим.
Матерщина путалась в топоте ног, в цокании копыт, в лязге оружия. Громыхая железом, по улице пронеслись двуколки.
На площади, около смутно белеющей в темноте церкви, переливалась черная толпа. В воздухе плавали красные огоньки цигарок. Вспышки спичек на мгновенье освещали красные лица и струящиеся жала штыков.
В сдержанном гуле всплывали выкрики. Красногвардейцы, перекликаясь, по голосам находили свои части. Услышав голос Перминова, мы тронули коней, пробираясь сквозь густую кричащую толпу красногвардейцев.
– Пермино-о-ов!
– Сюда-а! Сюда, товарищи!
Мы пробрались к своим.
– Эй, кто?
– Евдоха?
Из темноты вылетел спокойный голос военрука:
– Перминов! Проверить людей!
– Станови-и-ись!
Я отыскал свое место, рядом с телеграфистом и монахом. «Всех скорбящих» повернулся ко мне:
– Разведка вернулась. Идут сюда колоннами. Больше тысячи. Мы остаемся. Будет пехота отходить сначала.
– Куда?
– Дальше!
Закричал хриплый голос Акулова:
– Товарищи! Кавалерийский отряд остается прикрывать отступление. Первыми отступают обоз и пехота с пулеметами. Пехота – вались!
– Айда, пехота!
– Белохлыновцы, за мно-о-ой!
Мы поскакали обратно.
* * *
На околице остановились. Несколько человек поехали вперед и скоро исчезли в густой мгле. Мы слезли с коней. Яростный лай собак гремел во всех концах деревни. Неподалеку заскрипела калитка. Сердитый женский голос крикнул негромко:
– Фе-е-дор! Ай, боже мой!
В спокойном, темном небе мерцали далекие, печальные звезды. Черные тучи тащились в звездных полях, затягивая небо мутной мглой. На юге мигали красные зарницы.
– Бой идет! – зашептал Волков.
И, подумав, добавил:
– А может, пожар. Хотя, пожалуй, бой.
Группа красногвардейцев окружила Акулова. Кто-то сдавленным голосом спрашивает в темноте:
– А если бой дать?
– Какой тебе еще бой? Дали сегодня и молчи!
– А по-моему, можно. В темноте-то мы бы их посекли всех до одного. Узнай, сколько нас.
– Что ж, по-твоему, – захрипел Акулов, – без разведки чехи идут? Ну, разведку постегаем, да и то навряд. В темноте, браток, не больно настреляешь. А после?
И так как темнота молчала, Акулов сам ответил на свой вопрос:
– А после раздолбили бы артиллерией деревню в порошок.
– Это верно, – слышу я голос Евдохи, – ты тут попукаешь да и в дамки, а мужикам – разоренье. Правильная стратегия ведется. Голосую обоймя руками.
– Куда отступать будем?
– Куда-нибудь отступим! Места хватит!
Кто-то тяжело задышал в темноте.
– Что ж, товарищ Акулов, так и будем бегать, как зайцы?
– Ну, не беги… Тут не хочешь, да бежишь.
– Ну, и мы вкатили им невредно!
– Добро! И еще вкатим!
– Война уж больно занятная, – вмешался Волков, – пальнешь да драла. Неужто так и будем воевать?
– Ладно, – сказал Акулов, – пока там армию соберут – повоюем легонько. Главное время оттянуть. Попридержать надо чешню!
– Успеем?
– Потихоньку станем отходить – успеем. Ну, а зайцами – не успеть.
– Закурить бы!
– Курить нельзя! – сказал кочегар.
– В рукав бы, так и не увидят!
– Нельзя, браток! Потерпи.
– А что, товарищ Акулов?..
За деревней слабо хлопнул выстрел. Мы попятились назад.
– На коней!
Отряд взлетел в седла. С левого фланга затрусил на рысях военрук.
– Спокойно, товарищи! Не волноваться!
Впереди захлопали выстрелы. Затем мы уловили топот копыт. Возвращалась наша разведка.
– Аку-улов?
– Зде-есь! Зде-есь!
Из темноты вынырнули всадники.
– Идет, сучья отрава!
– Спокойнее, товарищи!
Военрук вздыбил коня:
– Справа по четыре. Правое плечо вперед. А-а-а-арш.
Отряд поплыл в темных, настороженных улицах, оставляя чехам Медынью без боя.
Глава XXIII
Ночь мы провели в лесу. А на рассвете двинулись стороной от большака к Пижеме.
Над черной и сонной землей светлело предрассветное небо. Белые туманы ползли в ложбинах. В деревнях пели петухи. Последние бледные звезды растворялись в белесом рассвете. На востоке, точно гигантская щель в другие миры, багровела утренняя заря. Поля выплывали из тьмы. День наступал, освещая нам дорогу.
Окруженные дозорами, мы пересекали степь, направляясь к синеющему вдали лесу. Бросив повода, я еду, прислушиваясь к разговору, завязавшемуся у Евдохи с Павловым.
– Немцы – удивительная нация, – говорит Евдоха, – немца я уважаю.
– И буржуев? – спрашивает Павлов.
– Какие буржуи? Я тебе про немцев говорю, а не про буржуев. Буржуев-то сколько их? Горсточка! А немцы – народ. Трудящиеся. Немцы – умственная нация. Ну, а все-таки – дураки они. Право слово, дураки. Карла Маркс из немцев приходится?
– Немец!
– Видишь! А мы берем его ученье для себя. Ты понимаешь, в чем загвоздка?
– Наш Ленин – не хуже Маркса. Тоже – голова.
– Да я не обижаю Ленина, а только Ленин-то от Маркса корень пустил. Но не в том вопрос, кто из них умственнее. Я про другое хочу сказать. Ленин практически, конечно. А Маркс больше по теории ударял. Но тут другое дело. Вот ты погляди. Маркс хотя и немец, а мы его берем с полным удовольствием. Подумай-ка, к чему клоню? Берем мы, а немцы боком идут от Маркса. Вот скажи мне: какой здесь смысл?
– У них, Евдоха, социал-демократы. Такие, тебе скажу, говоруны, что тесно человеку становится.
– Как я тебя пойму?
– Сказать проще: у буржуев на побегушках демократы эти. Все что хочешь обстряпать могут. Война так война. А надо, так публичный дом откроют.
– Ну, про демократов не знаю, – говорит Евдоха, – это впереди, а я про другое хочу сказать. Смотри ты: немец Маркса имеет? Имеет! По-немецкому разбираться может? Может. А что получается? Чего ж они, сукины дети, ворон ловят? Оружье сейчас у всего народа. Момент подходящий. Чтобы им тарарахнуть по буржуйчикам?
– Тарарахнут еще! Это недолго!
– Война кончится – не тарарахнешь. Тогда, брат, заставят колбасу сосать. Сейчас надо.
– Да сейчас, понятно, сподручнее! Против этого ничего не скажешь!
– Вот и понимай теперь. Народ хотя и умственный, а выходит, дурак… Эх, Сашуха, нам бы с Германией вместе… Красота была бы. Земля наша обильная, богатства несметные и сами не знаем всего. А тут бы еще немецкую культуру…
– Золотая жизнь была бы!
– А я что говорю? Ты смотри. Вдруг бы это нет у нас никаких границ с Германией, все русско-немецкое при Советах. Надо немцу на Кавказ – будьте любезны. Захотел я до Берлина – пожалуйте. Надо земли немцам – просю, сколько влезет. Понаехали бы они с машинами, и пошла бы работа у нас. Конечно, мы крепко отстали от них. Но думаешь, не догнали бы? Вона лампочку электрическую взять. Говорят, Эдисон изобрел. Но сначала-то кто ее придумал? А придумал ее сначала Яблочков. Только ходу не дали ему. Как на баловство посмотрели. А Толстой наш? А ученые наши? Да ведь их, брат, во как ценят за границей. Выходит, не глупые мы, русские. А только придумает что-нибудь русский, а ему ни ходу, ни выходу. Плюют на него. Смотришь, продал изобретенье за границу, и пошло дело. Придет оно оттуда с непонятной надписью: «фуртыль-муртыль», а тут и рты все пораскроют: ай, как умственно! А это ж русское изобретенье, чтоб вам холера в бок…
– Я одного вот не пойму никак: который это умный человек и который дурак. Про себя скажу. Человек я не образованный. Читаю еле-еле. Что если сказать, слов мне недостает, а где уж компания поприличнее, так молчать приходится. Осрамиться боюсь. Но все-таки я не дурак. Ты как думаешь?
– Какой же ты дурак?
– Ну вот. А на другого посмотри – он тебе и по французскому шпарит, и ногой шаркает, и все математики прошел, а к жизни не способен. Бывают такие.
– Сколь хочешь!
– И не то чтобы к жизни неспособен. Но дурак. Форменный идиот. Ну где же разница?
Вот тебе изобретение и образование. Я думаю так: не в образовании даже тут дело, а в другом закавыка. Я вот мальчишкой был, так веришь, – нет, настропалил скворца говорить «мерси» и «разрешите до ветру».
– И чисто говорил?
– Подходяще, в общем. Так и люди. Гляжу я на многих образованных, а в голове знай шевелится: вот, думаю, вытянет сейчас шею и скажет: «Разрешите до ветру». Смешно, а думаю.
– Приходят в голову мысли.
– На скворцов похожи многие. Хоть и нахватались они разного, а свой-то умишко узкий. Чуть побольше какая мысль придет в голову – неприятно. Потому больно ей – все одно, что ноге в малом сапоге.
– Ты сапожник, кажись?
– Да, я сапожник. Но не в том дело. Я тебе про немцев хочу докончить. Как ты понимаешь их? Умственная, по-твоему, нация?
– Да, не глупая!
– Вот, видишь, а размаху нет. По-моему, что-то тут неладно у них с образованием… Вроде бы и хорошо, но вроде бы и худо.
– Не образованность, Евдоха, мешает, а, говорю тебе, социал-демократы!
– Так чего ж народ взашей их не гонит?
– Погонят! Подожди!
– Улита едет… Ну, а ты про американцев что скажешь?
– Сытый народ!
– Н-да, брат. Но я скажу, и там будет советская власть.
– Будет.
– А почему будет?
– Везде должна быть.
– Правильно. Но в Америке раньше всех будет. Я тебе скажу почему.
– Был, что ли, там?
– Хотя не был, но встречал человека, приехавшего оттуда. Все, говорит, хорошо, а только, говорит, уехать пришлось. Техника замучала. Видишь ты, американцы эти где надо и не надо машины приспособляют вместо человека. А как машину поставят – с фабрики тысячу долой. Дешевле машиной-то. Ну, и такие, брат, у них заводы, что сидит себе один сам хозяин, да и управляется со всем. Ну, может, дочка там поможет или супруга сменит, а рабочему, выходит, в кулак свисти. И я себе думаю так: куда ж рабочему податься? Милиены ведь. Ну и разобьют все.
– Это в два счета. Как ни крутись, а дальше советской власти не уйдешь. Это ты верно говоришь.
– А есть такой народ: албанцы, – сплевывает Евдоха. – Очень меня интересует ихняя жизнь… Судя по всему – небольшой народ, а, видать, угнетенный со всех концов. А ведь хватило бы и для албанцев в Расеи… Не знаю я их, а почему-то жалко. Слово-то какое-то: албанцы?! Жалостливое слово!
– Про албанцев не слыхал. Итальянцы существуют. Это наверняка знаю. Персы еще есть в жарких странах. Турки проживают где-то…
– Большая планида наша! – вздыхает Евдоха. Нагнувшись, он подправляет путлище и говорит: – А ведь пошевели попробуй, так тебе и буржуя и пролетария в два счета представят. Ты как думаешь: мировая революция будет?
– Да должна бы быть!
– Не дождусь я ее, – говорит Евдоха, – а без мировой пропадем, смотри… Я вот сон видел замечательный. Сплю это я и вижу: все народы поднялись в одно – и немцы, и американцы, и албанцы. И живем все дружно, как одна семья. И я работаю, и все работают. И нет ни войны, ни войска, ни границ, а народ ходит сытый, чисто одетый.
– Врешь! – кричит, наезжая, Волков. – Не видал ты этого сна.
– Хоть и вру. А тебе что за болезнь?
– Не может такого присниться!
– Думать начнешь – непременно приснится. Да ты, Волков, не суйся, куда не просят!
– Брехун ты большой! Не люблю я, когда брехать начинают.
– Не любо – не слушай, а врать не мешай. Я сон-то к чему рассказываю?.. Забота у меня появилась.
– Какая такая у тебя забота?
– Забота какая? А вот будет мировая революция? Прекрасно! А куда же мировую буржуазию девать? Ну-ка?
Конь Евдохи споткнулся.
– Ишь, черт! – захохотал Евдоха. – Аж кобыле икается с моих слов. Значит, не за горами дело.
– А ты ее куда бы дел?
– Я-то? А я уж придумал. Детей, безусловно, отобрать надо – это первое. И воспитать на трудящийся лад. Без фыков-брыков.
Выбросив ноги из стремян, Евдоха потягивается.
– А саму мировую буржуазию поставил бы я, братцы, на отработку. Пускай вину загладят перед народами. Работать бы заставил. Вот куда!
– Так тебе и согласятся буржуи!
– У меня согласились бы! У меня с ними разговор короткий. Шебаршить стали бы, так, будьте любезны, в ящик сыграть! Буржуй он кто? Буржуй есть самый презренный гад. Буржуя я за человека не считаю. Так… вонь одна. Ну, собрал бы я этих буржуев.
– Брось… Смотри, братва! Смотри, что делается!
Кочегар, привстав в стременах, махнул нагайкой в сторону дозоров.
– Тр-р-р…
Мы остановились.
По солнечной степи скакали к нам дозорные, размахивая нестерпимо сверкающими клинками.
– Чехи!
От колонны оторвался военрук. Пришпорив коня, он взбил желтое облако пыли и галопом помчался в сторону дозорных.
* * *
На гребне вала показались крохотные, точно игрушечные, фигурки. Они расходились вправо и влево, вытягиваясь в ровную цепь. Из-за вала вышла густая колонна и, дрогнув, расползлась серой, широкой лентой.
– Вон они! – закричал кто-то.
Волков закрутился на коне, поднял обвисшую нагайку.
– Гляди, братва, и с этой стороны!
Прямо на нас двигались уже развернутые цепи, с бегающими позади суетливыми фигурками. В облаках пыли вдали скакало несколько всадников.
Из-под ног рванулся ветер. Дым и пыль затянули горизонт желтой мглой.
– Еще, еще! – беспокойно завертел головой Агеев, указывая рукой на запад.
С холмов спускалась ровная цепь. Нас окружали с трех сторон.
– Набралось сколько! – выругался железнодорожник, горяча коня.
Мы стояли, точно парализованные, тараща глаза на чехов.
Вдруг кто-то закричал жутким, звенящим голосом:
– Командиры! Чего же вы смотрите?
В крике звенела смертная тоска. Так человек, тонущий на льдине пустынной реки, кричит, погружаясь в ледяную воду. Над головами засвистела шрапнель.
– Дз-а-ан!
Мы бросились бежать Взметая пыль, помчались грохочущие двуколки. Красногвардейцы, встав во весь рост, яростно нахлестывали лошадей вожжами.
– Д-з-з-з-у! Ба-а-анг!
Разбрасывая глыбы земли и глины, впереди взорвалась граната.
Толкаясь, сшибая друг друга, пехота беспорядочной толпой побежала к лесу, на ходу заряжая винтовки.
– Ж-ж-ж…
– Ба-а-анг!
Наперерез бегущей пехоте помчался Акулов.
– Стой!
Дыбя коня, он орал, матерился, пытаясь остановить бегущих. Бешеная пена хлестала у него изо рта, тяжелые, налитые кровью глаза бесновались в орбитах. Потрясая маузером, он клонился с коня, бил маузером бегущих.
– Банда!.. Перестреляю!..
Бледные, запыхавшиеся красногвардейцы остановились. Не глядя на затворы, они засовывали торопливыми руками обоймы и не целясь, быстро, спеша и волнуясь, стреляли в молчаливо наступающие цепи. Матерщинничая, побежали куда-то вбок пулеметчики, волоча за собой подпрыгивающий на буграх пулемет.
Мордастый красногвардеец остановился перед моим конем, широко расставил ноги и, уперев приклад в живот, начал палить, не глядя, в сторону чехов. К нему подбежал худенький мальчишка в фуражке, перевернутой козырьком назад. Упав на колени, мальчишка суетливо выпустил несколько патронов, осматриваясь после каждого выстрела беспокойными глазами по сторонам.
– Ж-ж-ж-ж!
– Ба-а-а-нг! Тю-и-и-и-и!
Шрапнель со свистом пронеслась над головами.
– О-о-о! – захрипел кто-то рядом.
– Ж-ж-ж!
Заглушая стрельбу, плачущий голос закричал:
– Командиры! Чего на открытом месте?..
Крик потонул в железном грохоте взрыва. Тогда, не выдержав, отряд побежал.
– Наз-а-ад! – захрипел, надсаживаясь, Акулов. Но голос покрыл дикий рев и матерщина. Угрожающе вскинув штыки, красногвардейцы побежали к лесу.
– Ж-ж-ж!
– Ба-а-а-нг!
Мы повернули коней. Военрук вылетел вперед, пустил лошадь в карьер. Облако желтой пыли скрыло его.
– Эх, сволочь! Первый и наутек.
Горькая обида сжала сердце. Перекинув винтовку, я врезал коня нагайкой между ушей.
– Вот тебе и офицер! Зимний брал?! Сволота!
Амба рванулась вперед. Я привстал в стременах.
Проскакав сквозь тучу пыли, я увидел перед собой жеребца военрука. Краузе, намотав на руку поводья, стоял, спокойно стягивая с ноги сапог. Подхватив сапог рукой, он перевернул его и, стуча пальцем по подошве, качал головой.
Мы в недоумении остановились.
– Дрянь подметка! – крикнул военрук.
– Ж-ж-ж-ж!
– Ба-а-ан-нг!
– Сарапульская работа! – покачал головой военрук, не повернув даже головы в сторону взрыва. Затем, взглянув на нас, поднял сапог вверх. – Ну, что ж! Залпиков пять дадим? Зря не палить! Целиться лучше!
– Ж-ж-ж-ж!..
– Ба-а-а-нг!
– Построиться! – крикнул военрук, прыгая на одной ноге, натягивая сапог.
Ничего не понимая, я повернул коня.
– По наступающему противнику! Пальба-а-а!
Скучный, будничный голос военрука превратил все в скучное полевое учение. На одно мгновенье мне показалось: нет чехов и ничего нет и мы никуда не уезжали и ничего еще не было.
– Отрря-ядом! – лающим голосом крикнул военрук.
С ветром пролетел стук дружно лязгнувших затворов.
– Отр-р-я-я-яд!
Намотав поводья на руки, мы точно на ученье, быстро вскинули винтовки, втиснули приклады в плечи и, приподнявшись в стременах, подались вперед.
Поймав сквозь прорезь прицела кучку фигурок на мушку, я нащупал пальцем спуск.
Прошла целая вечность. Винтовка начала дрожать. Фигурки сползли с мушки в сторону. Краузе молчал. В рядах завозились.
– Пли!
Лошади рванулись под нами, замотали головами.
Дружный залп разодрал воздух. Фигурки полетели на землю.
– Отр-я-я-яд! – зазвенел голос Краузе.
Мы действовали теперь, как машина, и от этой мысли стало весело.
– Пли!
Цепи легли, отряд загалдел.
– Ага-а!
– Не пьешь?..
– Ложишься?..
– Не любишь, гад?..
Покрывая звонким голосом галдеж, Краузе крикнул:
– Смирно-о! Отря-я-яд!
Мы вскинули винтовки.
– Пли!
Чехи начали стрелять. Повернув коней, мы поскакали к лесу.
* * *
На опушке леса красногвардейцы уже окапывались. Мокрые и раскрасневшиеся, они лихорадочно работали лопатками, выбрасывая серые комья земли, зарываясь в землю, точно кроты. Нас встретили беспокойные, но уже смеющиеся лица.
– Слезай, которые саперы.
– Ну и бегуны, – закричал Евдоха, – вас на коне не обгонишь. Как штаны? Не заржавели?
– Свои перемени сходи! Вон в тех кустиках!
– Твои пущай насушатся там!
Лес стоял тихий, нагретый, пахучий и словно млел в потоке солнечных лучей; вверху лениво шевелились зеленые своды, из глубин тянуло запахом смолы. Всюду слышались шорохи и веселое пение птиц. Огромные сосны, точно выкованные из меди, подымались вокруг. Кони шли по мягкой хвое. Сучья тянулись с боков, царапая лица.
Навстречу нам бежал Акулов.
– Коней ставь в овраг! Двадцать человек в коновязях. Остальным на линию. Краузе, наряди тыловой дозор. Скорей!
Смотреть на Акулова было неприятно. Своим возбужденным видом, губами, обрызганными пеной, и хриплым криком он раздражал. Хотелось закрыть ему лицо платком, связать по рукам и ногам и положить в сторонку. Я почувствовал, как во мне поднимается ненависть к этому человеку. И когда Акулов побежал обратно, я ощутил легкость.
– Пробка командир! – сказал кочегар, прыгнув с коня.
* * *
Зарываясь в землю, мы видим надвигающиеся цепи. Они спускаются в балку. Когда они появятся на этом краю, между нами ляжет полкилометра степи.
– Товарищи! – слышен голос Краузе сзади.
Мы повертываемся к нему.
– Товарищи! Будете бежать – перебью! Драться до последнего патрона. Целиться спокойнее. Патроны положить перед собой. Гранаты с запалами – с правой стороны. Стрелять по свистку. Кто выстрелит раньше – пристрелю.
* * *
Мы лежим, пять сотен мужчин: слесаря, фрезеровщики, литейщики, модельщики, портные, железнодорожники, телеграфисты, строгальщики, формовщики, сапожники, металлисты, мотовилихинские токаря, деповские рабочие из Перми. Среди нас лежат, стиснув винтовки, солдаты бывшей царской армии, забывшие свое ремесло, несколько крестьян и несуразный приблудный монах.
Рядом со мной – по правую руку вытянулся Евдоха, с левой стороны – кочегар, подальше копошится «Всех скорбящих». Я вытягиваю шею, стараясь увидеть отца, но, вспомнив, что он остался сзади, у коней, подаюсь назад.
Степь перед нами пуста. Чехи в балке. Я кусаю зубами былинку. Прелый запах земли входит в ноздри. Я слышу, как неподалеку кто-то шепчется. Над головами свистят птицы. Кажется, долгий день тянется с тех пор, как мы заставили чехов стрелять, но, я знаю, прошло не более десяти минут. Хочется пить. Вспоминается почему-то дворничиха, разговаривающая по-немецки, и странное чужое слово: «шлаф-камер»…
Ну вот теперь я большой. У меня винтовка и гранаты. Сейчас вылезут чехи. Только не надо торопиться. И все будет хорошо.
В голову толкается образ командира белохлыновского отряда. Я его не видел сегодня, но мне почему-то кажется, что серьги его трясутся где-то справа от меня. Я стараюсь восстановить в памяти его лицо, но оно расплывается, растекается, как вода между пальцев.
Справа и слева начинают шевелиться.
– Идут! – сдавленным шепотом говорит кочегар.
На кромке балки выросли черные головы, затем поднялась цепь и побежала к нам, пригибаясь к земле. Боясь нечаянно выстрелить, я вынимаю руку из спусковой скобы и кладу на прицельную колодку, ощущая под горячей ладонью острые углы и холодок стали. За первой цепью над краем балки поднялась вторая цепь. От волнения по телу пробегает дрожь, я грызу ногти и до ряби в глазах смотрю на чехов. Сердце неистово колотится в груди. По спине ползут мурашки.
Уже не более трехсот шагов разделяет нас. Я вижу головы и руки, вижу сверканье на солнце штыков. От чехов к нам ползет синяя тень. Ветер доносит до слуха отрывистые слова команды. Я грызу яростно ногти. Мне хочется пить. Мне кажется: горло покрыто слоем соли.
Мы начинаем оглядываться. Военрук стоит, привалившись спиной к сосне, осыпанный желтыми иглами. Он колючими глазами смотрит в степь. Под кожей щек медленно двигаются желваки. В опущенной руке сверкает никелем свисток. Встречая наши взгляды, военрук мотает головой:







