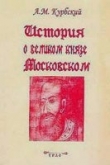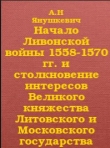Текст книги "День гнева"
Автор книги: Вячеслав Усов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 31 страниц)
5
Нагой спокойно волокитил дело «о шатости детей боярских, бегавших ко двору Никиты Романовича». Надеялся, что мартовские иды зальют память государя синим сумраком и капелью. Она стучала за оттаявшим окном, словно неумолимая клепсидра[43]43
Клепсидра – водяные часы.
[Закрыть] отмеряла последние недели тишины. Вместо дурацкого расследования Афанасий Фёдорович подолгу беседовал с Нащокиным, назначенным посланником в Литву. Григорий Афанасьевич Нащокин тянулся к западным наукам и обычаям, в чём подражал Борису Годунову. Учил латынь, готовясь к доверительным беседам с королём. Одолевая Светония и Цезаря, свободно рассуждал о русских и римских нравах, с простодушной наглостью неофита обнаруживал аналогии и делал предсказания о грядущих бедствиях излишне разросшейся страны.
Наказ ему давался заведомо неисполнимый: склонить короля к переговорам с поверженным противником, не выступая в новый поход, а дожидаясь большого посольства в Вильно. И о самом посольстве велено говорить лишь в безнадёжном случае. Прямые слова царя: как-де увидишь, что Обатуру не унять, останься с ним с очи на очи и проси – пусть окажет ту же честь царю, что прежние короли оказывали. А коли король не пожелает ждать посольства? «Старайся не выше головы», – советовал Нагой. Он опасался как раз того, на что рассчитывал Иван Васильевич, выбирая Григория: прыткого стремления выслужиться, свершить невозможное. Такие, выгребая против течения, нахлебаются горького – у всех изжога.
На короля сильнее уговоров давит настроение шляхты. Тут намечалась одна сомнительная зацепка, о коей Нащокин пока не знал. Будто бы некий Гришка Осцик, известный московской тайной службе со времени бескоролевья, готов возглавить заговор против Батория, вплоть до его убийства. Сведения шли из Трок, что настораживало Нагого.
Гибель монарха не приведёт к изменению налаженной политики, не остановит разогнавшуюся с горы телегу. Люди, направившие её, найдут, кого посадить на передок. Войско может возглавить Ян Замойский. Речь Посполитая собралась с силами и деньгами, паны почувствовали мстительный вкус удачи и не отступятся, покуда не отодвинут границы восточнее Великих Лук. И шведы не скоро угомонятся под Нарвой и Капорьем, господствуя на море.
Можно подкинуть сведения об Осцике на литовское подворье, выдав его, как сделал Колычев с Крыштофом Граевским. Приказ Нагого извлечёт малую пользу. Докажет королю чистоту помыслов. Но Осцик явно не одинок. Пусть не удастся заговор; чем больше он запутает людей, тем уступчивей будет король, опасаясь за тылы.
Нельзя ставить под угрозу мирную миссию Нащокина. Боже оборони впутывать в заговор посольских. На связь с Михайлой Монастырёвым, Смитом, Осциком надо послать человека стороннего, отпетого, чтобы легко отречься от него. Сколь ни перебирал Нагой своих служебников, никто не подходил больше Неупокоя, сдуру ввязавшегося в шествие и, что ещё дурее, попавшего в тюрьму.
Как назло, государь не забывал об иноке, по слухам бежавшем впереди детей боярских. Афанасий Фёдорович сам взялся за сыск, грубо нарушая порядок допросов. Каждому из детей боярских давал понять, что хочет от него услышать. Допросные списки испестрили выражения: куды приятели, туды и я; в хмельном помрачении; не ведали, куды бежали, а думали – в Ряды... «В рожей» Неупокоя не признал никто. Тот повёл себя в пыточном подвале догадливо, не порывался к Афанасию Фёдоровичу, школа есть школа. Любуясь, как равнодушно скользят его глаза в засцанный угол под дыбой, а при вопросе о монастыре пришибленно даёт тенорок (не ведаю-де, жива ли ещё малая обитель наша), Нагой похваливал себя за удачный выбор. Услав писца за квасом, пообещал:
– Вызволю, коли готов служить, бунташная душа.
Полтора месяца тюремной жизни наново вывернули перед Неупокоем грязнейшую изнанку жизни, забытую в келейной тишине. Людей гноили годами без суда, а уж по подозрению в бунте...
– Только к злодейству не принуждай.
– То ты не знаешь, что за служба. Поедешь с посланником в Литву, дело тебе знакомое.
Пришёл писец, оформил допросный лист. Афанасий Фёдорович вместо доклада подал государю пространное заключение. Тот, как и ожидалось, не захотел читать. Вывод из заключения внесли в наказы всем посланникам, едущим за границу: «Люди у государя нашего в твёрдой руке; а в которых людех и была шатость, и те люди, вины свои узнав, государю били челом и просили у государя милости, и государь им милость свою показал».
На единственный вопрос о мятежном монахе Нагой ответил:
– Хмельное мечтание и лжа!
Иван Васильевич одобрил его постановление: детям боярским зачесть отсидку в тюрьме «за дурость» и выслать в приграничные полки. Неупокой поселился в доме Нагого, в укромной боковуше. Афанасий Фёдорович свёл его с Григорием Нащокиным. Да для начала едва не поссорил.
Ну, правда, было выпито. После тюрьмы вино подействовало на Неупокоя дурнее, чем ожидал Нагой. Он думал – побеседуют о вере, оба книжники. Они сцепились над гробом Иосифа Волоцкого, аки псы на скудельнице в голодный год.
Задрался Неупокой, Григорий только огрызался, подвывая. Но по приверженности рода Нащокиных к Волоцкому Иосифу монастырю и новому своему положению государственного человека защищал примат государства, его господство над церковью. Кроме того, он сомневался, что русским с неизжитыми полуязыческими обычаями доступны «умные молитвы» заволжских старцев.
– Вспомни святого Ефросина: «Аще всю нощь етоиши в келии своей на молитве, не сравняется единому «Господи помилуй» общему!»
– Привыкли стадом! – выплеснулся Неупокой. – И на убой, и в храм. Вывели из России самовластного человека, стадом-де легче управлять!
Нащокин сомкнул уста с каплями медовухи на остро подстриженных усах – венгерское поветрие. Не ожидал крамолы в доме Нагого. Тот вмешался:
– Ты ему верь через раз! Он на тебе крепость люторских доводов испытует, ведь вам в Литве придётся и о вере толковать, не осрамиться.
– Нам... с ним?
Меньше всего Нащокину хотелось иметь в товарищах дёрганного инока, слабого на винцо. Его в пограничные грады нельзя пускать. Вечно Нагой, как прежде Умной-Колычев, подсовывает в посольства шпегов.
– Вам! – рубанул Нагой, впервые с суровой неуступчивостью глянув в румяное лицо Нащокина. – Отец Арсений станет исполнять своё, о местах не заспорите... Снедайте, дорогие гости, да икрой по постному обычаю не брезгуйте.
Неупокой послушался, примирительно бормоча:
– По пятницам и рыбы есть нельзя, а сколь в икре убиенных рыб?
– Диалехтический казус, – откликнулся укрощённый Нащокин.
Беседа потекла спокойнее. Правда, от нерождённых осётров спорщиков поволокло на государственные устои. Нащокин говорил:
– Я исихастов[44]44
Исихасты – последователи мистико-аскетического учения в Византии XIX в. Исихасты учили, что якобы исходящие из божества энергии (в том числе Фаворский свет, в ореоле которого, согласно евангельскому преданию, Христос явился избранным учеником на горе Фавор) чувственно постижимы. Поэтому, развивая в себе экстатическое состояние путём полного отрешения, молчания и неподвижности, можно увидеть Фаворский свет и таким образом вступить в общение с Богом и достигнуть душевного спасения. Исихасты проповедовали пассивность и смирение.
[Закрыть] заволжских не похаю, но иосифляне лучше знали русский норов. Он наподобие грунта, как говорят в Литве, болтливого и подлого: чтобы на нём пшеницу вырастить, надобно драть и драть железным сошником!
– Да не дают русскому мужику грунта, а после попрекают ленью!
– А где и дают, разве не ждёт полдеревни Юрьева дня? Многие ли трудятся в полную силу? Кто у нас в полную силу трудится?
– Никто, – уцепился Нащокин за слабый росток согласия и стал развивать любимую, давно взлелеянную мысль о неподвижном устроении государства. – Поскольку целью его является порядок, сословия должны рассматриваться как составные части, скажем, телеги: колесо не может работать за оглоблю, ось – за втулку. У нас же много неурядиц оттого, что ни одно сословие, за исключением бояр и высших церковных иерархов, не мирится со своим положением, норовит выйти вон. Посадские мечтают о воинском чине, соблазняясь примером «именитых людей» Строгановых[45]45
Строгановы — крупные русские купцы и промышленники.
[Закрыть], крестьяне утекают за нищей волей на Дон и Волгу, дети боярские тоскуют об опричнине, завидуя боярам. Сам государь... – Нащокин глянул на хозяина, тот поощрительно улыбнулся – в моём-де доме без доносчиков. – Государь восклицает – исполу я уже чернец! Для пресечения сих завистливых страданий надо внушить всему народу понятие о неподвижности сословий. Распространить указ о заповедных летах на десятилетия, чтобы крестьяне землю свою ценили и обихаживали, как латыши да эсты, на бедных моргах[46]46
Морг – земельная мера, равная примерно 0,56 га.
[Закрыть] своих сбирающие немыслимый в России урожай; посадским тоже нужен окорот, прикрепление к своим чёрным сотням и слободе. Дети боярские не исключение, поместья им надо дать на вотчинном, наследственном праве, тогда и выбивальщикам не придётся рыскать по уездам, служба станет делом чести...
Убеждённость заразительна. Неупокой и сам понимал, какую даже по сравнению с Литвой нелепую, разболтанную, а оттого и бедную жизнь избрали русские люди. Лишь сердце поднывало от видения телеги, без скрипа ползущей по неведомой дороге, куда правит суровый и таинственный возница. Кто его остановит, коли в болото?
Наутро Афанасий Фёдорович сказал ему:
– Отныне пьёшь лишь квас. Хмельную чару примешь на Пасху, на разговленье. Нарушишь – ступай в Печоры.
Вперился в блёклый лик Неупокоя. Упоминание о родном монастыре не пробудило тёплой волны. Игумен Тихон пытался разыскать пропавшего помощника, но как пошло расследование «хождение детей боярских к Никите Романовичу во главе с иноком», живо собрался и укатил. Арсению же, видно, полюбилось новое состояние сорванного листа.
Нагой рассказал об Осцике. Вести от Михайлы Монастырёва. Нащёчные морщины Неупокоя покривились – полуулыбка-полурыдание.
– Ты про злодейство вопрошал...
– Нет, государь Афанасий Фёдорович, я в убиение короля не верю. Руки у шляхты коротки.
– А может, нам тот Осцик по указанию Воловича ловчую петлю кидает. Докажет королю, что наша служба его убийство замыслила, шли тогда великое посольство. Для верности тебя и посылаю. Михайле передай, ждёт его государева награда. Ты, чаю, бескорыстно служишь?
– Чего желать? Мир мой якоже небо в великопостье.
– Запел! Отпустит тебя тоска. Не пей.
– Пост – матерь целомудрия...
Легко сказать. Слуги всесильного Нагого не знали нужды ни в ястве, ни в питье. Сам Афанасий Фёдорович употреблял подсыченные напитки только в пост, вместо запретного кумыса. Пьяные во дворе не попадались, но некий жизнерадостный душок перелетал от холопа к сыну боярскому, и стрелецкий сотник уходил утешенный, с благодарностью к боярину в размягчённой душеньке. Без хмельного бродила, убедился Нагой, в России ничего не добьёшься – ни преданности, ни работы. Вино и водки для дорогих гостей хранились под печатями, но жбаны медовой бражки были доверены снисходительному сытнику. Тот быстро разобрался в особом отношении хозяина к отцу Арсению, понаблюдал, как мается инок, и испросил благословения. Дождавшись рассеянного «во имя Отца и Сына», доверительно молвил:
– На обед каша крутая со снетками. Ей, отче, поперёк горла встанут, надо промочить.
– Зарок...
– Душу согреть! Сами толкуете, духовные, иже уныние есть смертный грех. Ты на нашем подворье унылых видел? А у тебя похмелье со вчерашнего. Матушка, Царствие ей Небесное, учила: коли гложет нечто, помяни близких, то они по твоей молитве тоскуют. Есть кого помянуть, отец святый?
– Ныне что? Дни спутались.
– Марта четыренадесятый день.
Ударило под сердце: память святого Венедикта! Господи, всегда помнил и молебен заказывал. Ах, сытник...
– Сходи со мною в образную. Помолимся за невинно убиенного.
Молитва не входила в намерения занятого сытника, но так-то мрачно и вдохновенно озарилось лицо монаха, такая виноватость проступила. Дворецкий отпер им боярскую крестовую. Арсений преклонил колени перед суровым Спасом. Хотелось воззвать к нему, пообещавшему: «Мне отмщение...» Чем и когда воздашь надругателям, Господи? Живут в довольстве и помрут без мук. Сытник топтался сзади, дышал в ладошку. Неупокой молился, покуда над серебряным окладом не воссияло облачко, сгустившись в девичий лик. Улыбка Ксюши... Поднялся с замлевших колен.
Грустный настрой не помешал с блудливой жадностью следить, как сытник распечатывает особую баклагу и направляет золотую пряно-благоуханную струю в объёмистый оловенник[47]47
Оловенник — сосуд для браги, пива или мёда.
[Закрыть]. В «двойном боярском» соединялись горечь и сладость, и тонкая малиновая кислинка неразлучно, как получается только после долгой и умелой выдержки. Дождавшись, когда добро приживётся в утробе, сытник задал неожиданный вопрос:
– А верно, будто иноку расстричься – неотмолимый грех?
Неупокой исподлобья взглянул на него. Кто – сытник или его хозяин читал в душе?
– Монах для мира умер. Обрадуется ли жена приходу мужа из могилы? Она его тление обоняла...
Сытника передёрнуло, отпил из ковшика.
– А Лазарь?
– Что знаем мы о сокровенных чувствованиях переживших смерть? Не один Лазарь воскрешён, да все молчат.
В медовую камору заскочили двое детей боярских, утром вернувшихся из дальней и таинственной поездки «на украйны». Шальные лица опалил ветреный загар, в очах истаивали дали. Младший многозначительно помалкивал, а старший с первого глотка защёлкал языком, только серьга из сдвоенных колечек позвякивала в левом ухе. Из сбивчивого его рассказа чарующим видением возникла свободная страна, раскинувшаяся таборами от Терека и Дона до Запоротое. Казачье царство. Нагой послал их к атаманам с неким поручением – видимо, звать в гулевые отряды. Степные впечатления глубоко, освежающе запали в их стиснутые московские души. Проникшись настроением, Неупокой пустился в рассуждения о казачестве, хранителе древнерусских заветов, осколков вечевых колоколов. Чувствовал, что уже несёт и крутит, и надо остановиться, а не мог. Приезжие неосторожно поддержали: казаки решают «кругом», сообща, а выбирая атамана, мажут ему макушку грязью, чтобы не заносился. Коли так, распелся Неупокой, не возвратят ли они московским людям свободу «с ростом», когда кое-кому подойдёт время платить долги? Тут сытник, несомненно доносивший господину о хмельных беседах, но столь же несомненно симпатизировавший Арсению, попотчевал:
– Ушицы, отец святой. Каши со снетками.
Дети боярские заявили, что рыбой они объелись, ибо казаки живут «с воды да травы», пахоту презирают. Зато крупа и хлебушек у них такая же редкость, как вино. Ходят в немыслимом дранье, платя за волю кровью и бедностью. Недорога цена за волю, не унимался отец Арсений, выплёвывая рыбьи кости на гладко убитый глиняный пол. Лужица конопляного масла в каше чем-то рассмешила его. Сытник чёрным глазом полоснул приезжих, те резво подхватили монашка под локотки. Уже в боковушке, рассупониваясь, тот поделился научным выводом: казаки происходят от хазар и новгородских ушкуйников, шарпавших волжские суда.
Укачиваясь на жёстком рундуке, напоминавшем люльку, Неупокой доказывал себе, что может бежать к казакам и из затурканного, запьянцовского монашка преобразиться в человека. И вот он скачет по степи, глотая горячий ветер с пыльцой полыни, а сзади, ухватившись за наборный пояс, жмётся лукавая и нежная полонянка...
...За что же мне так страшно и уныло, воззвал он по пробуждении. Хоть и знакомый по прежним опохмелкам, сонный скачок из рая в ад ошеломил его. Такого наказания прежде не бывало. Ужели бессмертная душа так беззащитна перед парой оловенников перебродившей влаги, сперва взбурлившей уверенностью в будущем, а после короткого беспамятства лишившей даже желания жить? Бельмо окошка смотрело в душную черноту комнаты в равнодушном ожидании погибели человечка, придавленного деревянным помостом-потолком и земляным накатом. Чьё око приникло к его окну из глубины Вселенной и отчего ангел-хранитель забился в угол? Спасение – в тебе одном: уйти в озарённую пещерку своего сознания, не видеть сатанинского бельма. Он повернулся на живот, ощутил нелепую плоть свою восставшую и подумал, что в его нечистой, опустелой жизни никогда не было спасительного женского плеча. Покуда в перегарных парах сгорали остатки жизнелюбия – его, как радость, от рождения заложенную в закрома душевные, надо тратить бережно. – Неупокой призвал последнее: силу воображения. Оно есть отблеск божественного пламени, творящего реальные миры. Зато мечтательный мирок защищён от косных сил, невольно пробуждаемых творением божественным. В нём охолодавшая, растерянная душа может найти хотя бы временный покой.
...На левом берегу реки Великой теплится в сумерках белый троесвечник монастырской звонницы. С севера, мимо паромной переправы и двух других монастырей, в виду большого города, торопится дорога. Она манит расстригу на вороном коне, он знает, какая опасная свобода ждёт его на юге, но одному она не по силам и не нужна. Он половиной той свободы заплатит за жадное касание губ притворной постницы, за чарование её очей, вобравших сумрак иноческих бдений и полунощниц, за худенькое девическое тело, не осквернённое, но лишь разбуженное насильством, хранящее чистой женскую суть – для него, расстриги. Он направляет коня к невысокому пряслу монастырской стены, и оттуда, на мгновенье заслонив молодую луну, падает ему в руки чернокрылая птица...
ГЛАВА 3
1
В Литве была весна. Вздохи её парили от Немана к Днепру, теша людей, оберегавших и пересекавших рубежи. У них затеплилась надежда на благоразумие главных строителей заборов между народами. Ещё в Смоленске Неупокой не проникался весенней радостью, хотя уже и церкви украшались вербами, и вынесенные из них свечи недели Вайи[48]48
Неделя Вайи – Вербное воскресенье.
[Закрыть] сливали своё тепло с теплом, плывущим с неба. Пасха пришлась на третье апреля, в Страстную ещё в низинах держался снег, но, подъезжая к Орше, Неупокой различил травный дух в западном ветре.
Мысли были отчётливы, прозрачны, как чисто вымытый стакан голландского стекла. Тело подвижно и по-постному легко. После четырнадцатого марта не ел ни рыбного, ни жирного, не пил вина. Тоска отнятия хмельного не отпускала его два дня, и лишь семнадцатого, в день Алексея человека Божьего он вышел из церкви, примирённый с белым светом. День именин его с детства воспринимался таинственно-значительным, матушка внушила, что кроткий Алексей заботится о нём и подправляет жизненный ручеёк, чтобы не застаивался, не растекался по горючему песку. Неупокой попросил Алексея не покидать его из-за смены имени и дал зарок не пить хмельного в Светлое Воскресенье, когда и птица хмелеет от играющего солнышка. Разговелся лишь творогом, растёртым с мёдом, да просфоркой. И жадно, как всякий выздоравливавший, порадовался простой и сытной пище...
Вильно был так забит приезжими, что московитам едва нашли достойное помещение в тихом купеческом конце, неподалёку от костёла Святой Анны. В столицу по призыву короля съехались представители литовского дворянства – державцы, паны радные, урядники и выборные от поветов[49]49
Поветы – уезды.
[Закрыть]. Цель съезда была не слишком определённо обозначена в указе короля:
«Стефан, Божьей милостью король Польский, великий князь Литовский... Яко то есть всем вам ведомо, иж мы ни о чом большего обмышлеванья и старанья не чиним, одно – яко быхмо не только оборону и покой панству нашому учинили, але земли и многие добра, через неприятеля нашого великого князя Московского посягненные, отыскали, и до властности повернувши, грунтовное успокоенье на долгие часы всим подданным нашим учинили. Полоцк, Суша, Туровля, Ситно, Нещедра и иные пригородки с немалыми широкостями грунтов отыскали и привернули: то всё вам ведомо есть. За чим, иж с тым неприятелем до жадного успокоения не пришло, есть потреба далее войну тому неприятелю попирати...»
И в заключение – «как бы самих себя речами к покою» не обезоружить.
Приезд московского посланника давал литовской шляхте надежду на замирение. После того, как к Пасхе были выколочены налоги и по повторному указу набраны пехотинцы из крестьян, её воинственность отнюдь не возросла. Потому, верно, король и собирал одних литовцев, без поляков. Нащокин тщетно добивался аудиенции, у короля все дни были расписаны.
К открытию съезда был приурочен торжественный обряд вручения меча от Папы Римского. Яков Уханьский[50]50
Уханьский Яков – гнезненский архиепископ. Гнезно – город в Польше, один из старейших центров славянской культуры и польской государственности. Первая столица древнепольского государства.
[Закрыть] привёз его вместе с благословением: дерзайте, Европа с вами! В кафедральный собор были допущены лишь паны радные, князья и урядники. Но тысячи приезжих и вилян любовались шествием с Уханьским в голове и замыкающим почётным караулом из венгров. В шествии выделялась группа иезуитов, чья школьная и проповедническая деятельность усиливалась с каждым годом.
На съезде было высказано много умных и дурацких мнений, предложений, сошедшихся в конце концов на том, что королю и панам радным виднее, продолжать войну или мириться. Григорий Афанасьевич Нащокин маялся бездельным ожиданием, проедал гроши, ибо король, вопреки обычаю, не приказал поставить московитов на довольствие. Одно покуда было ясно: не Баторию, а государю выгодно «великое посольство», король использует оттяжку для подготовки к новому походу и убеждения колеблющихся. Нащокин больше не препятствовал тёмной деятельности Неупокоя, а с середины мая, так и не добившись аудиенции, стал интересоваться «православными литвинами али еретиками, чающими замирения»... Кое-какие деньги и наказы Нагой ему всё-таки дал.
У Неупокоя были сплошные неудачи. Началось с убийства, показавшего, что служба Воловича не дремлет, а самого Арсения узнали служебники Филона Кмита в Орше, как он ни тихарился, ни натягивал куколь на нос.
Русский посланник был защищён от посетителей двойной охраной: венгерской стражей у ворот во внутренний мощёный дворик и неприметными паробками у чёрной лестницы для поставщиков. Тем выдавали особое разрешение на торговлю с московитами. Но каменная стенка, отгораживавшая двор от переулка, была рассчитана на законопослушных бюргеров, а не на бедовых московских холопов. Те, наскучив лаяться с венграми, махали через неё по мелким поручениям или в шинок.
Арсений тоже пользовался этим лазом. В тот вечер, шестого мая, встретился с виленским евреем, одним из снисходительных заимодавцев князя Полубенского... Вернулся поздно, сытник уже улёгся спать, пришлось поужинать горбушкой с солью, запить горелкой. В голову, как обычно, полезла хмельная дурь, то восторженная, то зловещая. Одно из видений было – за окном кого-то убивают, скопом, грубо, чудился даже предсмертный крик. На раннем рассвете в комнату вошёл Нащокин.
– Очнись! Мёртвый под забором. Не из твоих ли – на мою голову?
– Моих тут нету, – отрёкся Неупокой спросонья, по привычке.
– Не изводи куренья, всё одно смердит! Очи промой.
Посланник ещё шутил. Верно, совсем отчаялся. Неупокой ополоснулся у рукомойника, неторопливо вышел на крыльцо. Мёртвый лежал на плитах дворика, лицо закрыто чёрным плащом с прорезями для рук. Такие носят немецкие купцы. Ноги в пузырчатых коротких штанах и шерстяных колготах были раскинуты, как палки. Башмаки заляпаны глиной. Венгры смотрели от ворот, не заходя во двор. Видимо, ждали возного или иного представителя короля, повыше. Нащокин велел холопу:
– Открой!
Тот двумя пальцами поднял край плаща. Мёртвое небо отразилось в бельмах Антония Смита. Струйка крови на подбородке засохла черно-красным плевком. Неупокой сжал зубы, рот переполнился слюной. Отворотившись от внимательного Нащокина, забормотал молитву. Он даже не знал, был Смит христианином или иудейской веры. По облику и говору, крови намешано и иудейской и немецкой. Праведник скажет: вмер, як жил, под чужим забором. Антоний выбрал такую долю, иное было ему скучно, тесно. Конечно, деньги, гроши, пенензи, талеры... Дороже денег он ценил свободу, да не простую смену городов и стран, а истинную свободу убеждений и привязанностей, какие были у него. Путь его – истинно полёт бесшумный сорванного листа. Не попади он лет семь назад в тенёта Умного-Колычева, так и летал бы, пройдисвит, в поисках доходных приключений. Жалость к нему Неупокой испытывал, горького сожаления – нет. Смит ухватил от жизни что хотел, даже мгновенную смерть.
Её подтвердил королевский возный, прибывший с лекарем. Антония убили грамотно, одним ударом. Потом перевалили через ограду к московитам, за нею, в переулке, возный нашёл следы. «Може, он к вашой милости пробирался, а може, некто хотел запутать пана посланника в тёмное дело...» Нащокин выразил протест и возмущение, возный равнодушно приказал увезти труп. Дорого дал бы Неупокой, чтобы обшарить его карманы, да руки коротки.
Из двух людей, связанных с Осциком, остался один Монастырёв. Третью неделю Неупокой пытался связаться с ним, ездил в Троки. И предлог был – Нащокин ждал только королевской аудиенции, чтобы договориться о выкупе или обмене знатных пленных. По словам троцкого шинкаря, Михайлу так «заперли у замку», что даже в сопровождении слуги-соглядатая не мог он «вышмигнуть ни на чару горелки, ниц до коханой жидовочки». Он показал её Арсению. Разговор с Миррой не понравился ему.
Изобразив притворное смущение, она так жарко заговорила о своей любви, словно исповедовалась перед постнолицым монашком в сладчайшем за жизнь грехе, к его соблазну. Бездонные иудейские очи с тяжёлыми лепестками верхних век и воспалённой краснинкой нижних вмещают обиды больше, нежели славянские, немецкие, и глубже, дольше хранят её. Сама не ведала, как приросла к пшеничноусому московиту. Он же нарочно укрылся в замке в ожидании выкупа, чтобы она ему не навязалась. Или она не понимает, что не пара шляхтичу, а путь в Россию жидам закрыт? Но если им предстоит разлука, почто торопить её? Душа и тело изнылось всякой жилочкой, откровенничала Мирра, и Арсений неуправляемо высвечивал это гибкое и податливое тело под лёгкими сорочкой и юбкой, без складок облегавшей полнеющие ягодицы. На шее, обнажённой до грудной ложбинки, тоже ни складочки, ни пятнышка, обычных и у молодых, быстро полнеющих евреек. Из эдакого плена Михайле выкупиться трудно. Никто, кроме Остафия Воловича, не удержал бы его в замке. Зачем?
– Ты знала Антона Смита?
– Помирал?
– От кого вести маешь?
Во мгле печали проблеснула испуганная хитринка.
– Ты ж сам сказал, святый отец, – знала. Так о нябожчиках гуторят, не о живых.
Нябожчики, покойники... Сколько он их в Литве оставил.
– Когда видела Смита в последний раз?
– Вже Михайлу заперли. Антоний домогался, иж бы мы с Михайлой повидались.
– Хотел передать нечто?
– Узнал, что мы не бачимся, и не открылся. Забили его, Антона?
Насколько грубее и вернее звучит «забили» вместо московского «убили». Ведь человека именно забивают, как скотину, даже если он гибнет от одного удара... Лишку стал думать о смерти Неупокой. Своей боится? Он под охраной королевской грамоты, в худшем случае вышвырнут из Литвы с позором. Нет, в худшем – как Антония…
– С кем Михайло пил?
– С кем не пил!.. Паны Мартин Рыбинский, Гриша Осцик.
С последним именем вскинула проникающие глаза. Неупокой спросил лениво:
– Рыбинский после Пасхи в шинке бывал?
– Пасхи жидовской але вашой?
Оттягивает время. Теперь он не отрывал глаз. Знал, как бывает жгуч и тяжек взор из-под чёрного клобука.
– Пан Осцик учора пил!
– И крепко?
– Где ему крепко. Три чары, так Варфоломей его едва в седло громоздит.
– Кто?
– Та ничтожный человек, не стоит и поминать.
Что она так заторопилась, заскакала вдоль тропы, как ласка, уводящая от своего гнездовья? И втискивает, втискивает Осцика.
– С кем же ныне Осцик пьёт?
– Кто короля хает, с тем и кохается.
– И не доносят, и в железа не берут?
Мирра искренне удивилась:
– Панам всё можно! Кабы он на жизнь умысливал...
Запнулась. Слышала что-то от Михайлы?
– Так кто же такой Варфоломей?
Крутой носик с полупрозрачным узорочьем ноздрей изобразил досаду.
– Что пану Мнишку до него? Прислужник пана Осцика.
Арсений уставился в окно. От крыльца шинка тянулся перепутанный вишенник, белопенно вскипевший в одну майскую ночь. Приморённое солнце пронизывало его розовым, в тени переходившим в тот тёплый и сладкий тон, каким окрашиваются переспелые вишни. Корявые, обломанные хлопчиками деревца уже грезили о будущих плодах.
– Откуда ты явилась, Мирка?
– Батька держит шинок в Ошмянах. Пану принесть горелки альбо пива?
Пивная пена показалась грязноватой. Какой-то был изъян во всём, что делал Арсений. Тайное предприятие должно быть обеспечено множеством связей, невидимо пронизывающих массу местных жителей, и несколькими надёжными людьми. В случае с Осциком если и были связи, то подозрительно оборванные – убийством, задержанием в замке. Будто Нагой или Неупокой кидают зарнь[51]51
Зарнь (зернь) – игра в кости или в зёрна.
[Закрыть], а кто-то шильцем подправляет. Не было даже убежища на крайний случай. Сквозь вишенник виднелась главная башня замка, четвероугольный бергфрид с железным шпилем, похожим на выброшенный из рукава нож. Самое неподходящее соседство для тайных игр. Половина Троцких лавников, не говоря о вечно дрожащих шинкарях, – осведомители Воловича.
– Як батьку кличут? – вскинулся Неупокой.
– Та Ося же Нехамкин!
– Сыщи мне подводу до Ошмян.
– Время к заказу...
– Борзо!
В тот угрожающе притихший, притворно ласковый вечер он совершил, пожалуй, самый умный поступок за всё время пребывания в Литве.
Ося Нехамкин сказал ему:
– Кто не хочет грошей? То христиане говорят, иж одне жиды до грошей падки... Только по чину ли тебе, святой отец, снимать комору в моём шинке?
– Нехай пустая стоит, но чтоб в любое время...
Ося приложил к груди ладонь с тяжёлым перстнем. Возвращаться в Вильно было поздно, ворота заперты, на улицах дозоры, лишние объяснения. Комнатка, отведённая Неупокою, выходила окном на конюшню и дровяной сарай. Проход между ними вёл в низкий, густой дубняк. Окошко выставили, и всю полудремотную ночь лились в него влажная свежесть соловьиные коленца. Просыпался Неупокой не от тревоги, а от необъяснимого, даже неоправданного чувства безопасности, окончательно утерянного в Вильно после убийства Смита. К Осе Нехамкину он, тоже необъяснимо, испытывал доверие, в отличие от его жгучей дочери. У той ложь – на дне очей... В одно из дремотных погружений Мирра прижалась к Неупокою твёрдой грудкой, куснула за губу мышиными зубками. Встряхнувшись и молитвой отогнав видение, подумал, что оно не случайно: реет вокруг жидовочки дух лукавства, если не предательства...
В Вильно вернулся с восходом солнца. Нащокин ни о чём не спрашивал.