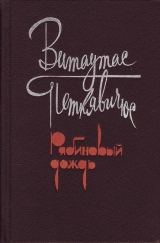
Текст книги "Рябиновый дождь"
Автор книги: Витаутас Петкявичюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
Доктор взял его руку, проверил пульс, нажал под глазами, на грудь, постучал по спине и сердито сказал:
– Товарищ Жолинас, так болеть нельзя. Что вы себе думаете?
Но и это не тронуло его. Он лежал счастливый и ничего не ответил, почувствовал совсем безболезненный укол, потом тяжелое тепло от лекарства, заливающее все его тело.
Охота
Моцкус, сползший с треугольной скамейки, полулежал на носу лодки, удобно устроив вытянутые ноги на брошенной шубе. Прищурившись, он о чем-то мечтал и вздрагивал после каждого выстрела приятеля. Привычный ружейный грохот сегодня казался очень громким и всякий раз неожиданным. Моцкус тоже держал ружье на изготовку, тоже ждал взлетающих уток, однако за полдня так ни разу и не выстрелил.
«Хватит, – подавлял растущее недовольство. – Достаточно. Эта охота уже действует на меня как алкоголь: пока слышу выстрелы, пока сам стреляю, еще бурлит кровь, еще не утихает сердце, но едва возвращаюсь, бросаю ружье в угол, снова чувствую себя опустошенным, одиноким, никому не нужным».
– Что это с вами? – Йонас неторопливо поднимал весла, стараясь как можно меньше плескать ими по воде, и осторожно выпытывал шефа.
– Замечтался, – признался Моцкус и, переломив ружье, вынул патроны. – С лодкой, мужики, тоже не охота. – Он любил побродить по болотам и как следует вымотаться, чтобы потом свалиться словно подкошенный и без всяких сновидений проспать до полудня. – Амнистирую живых!
– Как знаете, – Йонас повернул назад и, бросив весла, отдал лодку на волю ветра, а сам принялся умывать вспотевшее лицо. Ему тоже хотелось подремать на солнышке, но негде было: на дне лодки плескалась вода.
– Как хорошо, что ты уже не хлопаешь этими намокшими досками, – Моцкус поудобнее устроился среди мягких рюкзаков, натянул на глаза кепку и с удовлетворением проворчал: – Теперь идите вы все к черту, дайте мне порадоваться жизни.
– Я вас не понимаю. – Заместителю министра трудно было усидеть на узкой, в шляпках гвоздей скамейке. – Вчера вы категорически отказались сходить в баньку, обидели людей, которые так готовились и старались угодить вам, а сегодня – опять: прогнали директора лесхоза с угощением и еще командуете: дайте мне порадоваться жизни!.. Нелогично как-то.
– Ты думаешь, радоваться жизни – это пить, жрать до икоты, а потом беззаботно переваривать все это добро где-нибудь на солнышке или в натопленной бане и в свое удовольствие убивать живых тварей?
– Я так не думаю. – Грубость Моцкуса уже давно раздражала замминистра. – Мне тоже нравятся бескрайний простор, полная свобода.
– Ты думаешь, свобода – это возможность делать что пожелаешь? А мне кажется, что в поведении человека, ограничивающего себя, свободы куда больше, чем в поведении того, кто делает все, что взбредет в голову.
– Я не это имел в виду.
– Неважно, что ты имел в виду, но я слышал, что ты сказал. – Моцкусу остро захотелось поспорить и подразнить приятеля, было приятно чувствовать свое превосходство и поучать других. – Свобода – это обязанность и право быть добропорядочным, это возможность постоянно быть честным, хотя бы стараться оставаться честным перед собой и перед другими.
– Человек может быть честным лишь настолько, насколько позволяют власти.
– Ты циник, Томас, и поэтому я не хочу разговаривать с тобой на такие темы. Люди недалекого ума всегда путают теоретическую возможность со своей практической деятельностью, путают то, что позволяет сделать идея, с тем, что мы можем сделать в реальной жизни…
– Если б только путали! – Замминистра рассмеялся, выстрелил и промахнулся.
– Дай мне закончить мысль! – Викторас нахмурился, забыв, о чем он начал. – Ага!.. И страдаем мы, товарищ замминистра, не потому, что вы нами плохо руководите, а потому, что мы сами не умеем руководить собой. Вот хотя бы и ты: кричишь, мол, это мне запрещают, этого мне слишком много, а того слишком мало, но, как видишь, от этого ничего не меняется. Куда важнее, чтобы сама жизнь не позволяла процветать злу. Запрет только в одном случае может принести пользу: когда люди его ждут и дождаться не могут. А теперь молчи и переваривай, что я тебе сказал.
– Хорошо, я помолчу, но почему вы вчера отказались от бани?
– Из-за одной старой истории. Кроме того, директор лесхоза так откровенно и до того приторно угодничал, что я не выдержал.
– По-моему, он оскорбился и уехал домой. А я целый день жил надеждой, что вымоюсь как младенец и немного приду в себя.
– Надо было вам вдвоем сходить и помыться.
– Мы решили, что без вас как-то неудобно, да к тому же я никого там не знаю.
Неуправляемая лодка почти стояла на месте. Небольшой ветерок покрывал рябью поверхность воды, преломляя косо падающие лучи солнца, и эти осколки прямо-таки жгли уже зудящие глаза.
«Как легко быть добрым, когда ничего не делаешь. – Осуждая замминистра, Моцкус не щадил и себя: – А почему я, такой мудрый и такой хороший, без малейшей необходимости стреляю уток? Почему убиваю ради собственного удовольствия? Ведь я не голоден, эти утки мне не нужны, я даже ощипывать их не умею… Как можно радоваться жизни, когда сеешь смерть? – рефлексировал Моцкус, глядя на затянутый дымкой тумана Швянтшилис, на подмытые водой и сползающие по обрыву сосенки, на желтый песок, на этот бесплодный пустырь, и вспомнил, как отец, понукаемый матерью, целый день метался, злился, пока заставлял себя отрубить голову курице, а его сын, известный ученый, прекрасно знающий, куда может увести такой спорт, стреляет от нечего делать и не очень-то волнуется за последствия. – Откуда появилась во мне вся эта чертовщина? – распалял себя. – Когда это началось? – Он усмехнулся: можно подумать, что родился с ружьем в руках. Потом менялись только калибр и назначение оружия. Подобное уже было однажды – надоело ему это занятие до мозга костей. Тогда он бросил все и пошел учиться. Но вот теперь, когда появилась возможность учить других, он снова вернулся к старой привычке и уже не умеет отдыхать без ружья, уже не может быть смелым, бодрым и уверенным в себе человеком, не ощущая на плече его холодную тяжесть. И что самое странное – в эти мгновения неравного поединка, в эти мгновения убийства он даже бывает счастлив. Викторас морщил лоб, но не мог отыскать в памяти ни серьезной причины, ни обстоятельств, заставивших его шататься по этим болотам с двустволкой в руках. – Война, – вот и все, что он мог сказать. – А потом – отвратительная привычка, болезнь, мода, атавизм, – подбирал подходящие для этого случая слова и понял, что ими только затушевывает подлинную причину. – Ведь это мания величия, желание быть могущественным и неуязвимым. Бегство от своей никчемности, неумение постичь свой долг и свое место на этой грешной земле…» Наконец память наткнулась на одно событие, постоянно будоражащее его совесть, и задержалась на нем.
Тогда он по долгу службы бродил по окрестным сухим и звенящим борам. Однажды он неожиданно вышел вот к этому изумительному берегу озера. Стояла страшная жара. Солнце, сверкающее на чистом, необычайно голубом куполе неба, уже целый месяц выжигало лес. С березок, словно осенью, осыпались листья. Порыжела трава, а мох стал колючим и ломким. Когда он шагал по нему, сапоги покрывались желтой пыльцой, которую потом бывало трудно отчистить. Затем нагрянула гроза. Под внезапными короткими ливнями шипели и парились пересохшие боры… В условленном месте его ждали товарищи. Они неторопливо забрались в кузов, но машина проехала всего несколько метров и неожиданно застряла между двумя незакрепленными бревнами полуразрушенного мостика, наклонилась набок и остановилась. К ним с гулом приближалась стена дождя.
– Ребята, к дубу! – бросил кто-то, и его спутники, топая тяжелыми сапогами, попрыгали из кузова. Те, кто попроворнее, уже взбирались вверх по пологому склону.
– Назад! – крикнул Моцкус. – Стой! Сначала машину вытащим, а потом укроемся… Кому говорю?!
Ворча, ребята вернулись, подставили плечи, уперлись руками… И в это время, забивая уши, ударил гром. Раздался гул, грохот, полоснул ослепительный свет. Огромный шар огня упал с небес, соскользнул по стволу дуба и, сжигая все на своем пути, прокатился по небольшой лужайке. Всего несколько саженей отделяло его от старого мостика, на котором застряла машина. Моцкус видел, как дуб на мгновение озарил алый свет, как он почернел, ощетинился длинными, обильно курящимися щепами, видел, как вокруг них запрыгали странные огоньки, а потом эту картину заслонил хлынувший из разорванного неба ливень.
Товарищи молча смотрели друг на друга и не осмеливались заговорить. Вокруг запахло озоном и терпкой кислотой разорванного дуба. Моцкус тогда в первый и, наверно, уже в последний раз видел шаровую молнию, он долго не мог прийти в себя.
– Если бы не этот мостик… – оправдывался он, глядя на бесконечно благодарные лица товарищей.
С того дня к нему совсем неоправданно прицепилось прозвище «счастливчик». Называют его и «тараном», «великой пробивной силой», но суть не меняется – он счастливчик, ему везет, и ему завидуют даже близкие люди. Увы, эта легенда совсем беспочвенна. Может, лишь тогда, у дуба, счастье единственный раз ему действительно улыбнулось, а всего остального он добился сам, нечеловеческой настойчивостью и трудом. Виноват Моцкус лишь в том, что ни разу не попытался опровергнуть эту легенду, что нигде и никогда не плакался, а о своих делах часто говорил с юмором, никогда слишком не переоценивая и не гнушаясь ими.
– Если людям так легче, могу и в счастливчиках походить, – сказал он однажды жене. – Из-за каждой мелочи я под машину бросаться не стану…
Да, тот день, когда ударила молния, был полон неожиданностей. Когда они въезжали в деревню, какой-то идиот, накинув себе на голову полы плаща, прыгнул под колеса, намереваясь покончить с собой.
– Ну, очнись ты, осел!.. Ведь я не виноват… Ты нарочно!.. У меня свидетели есть, – умолял молодой шофер, похлопывая самоубийцу по щекам. А когда помятый парень приоткрыл глаза и застонал, шофер перестал хныкать и врезал ему от души: – Дурак, в следующий раз на лбу напиши, если тебе жить надоело!
Ребята хотели проучить этого недоумка, но Моцкус не позволил. Он смотрел на грязное лицо Жолинаса, на подбитые глаза, на спекшуюся кровь на лбу, на дрожащие руки и не в силах был понять, откуда у человека столько своеволия, столько пренебрежения ко всему на свете, если он сам, никем не понуждаемый, накинув на голову плащ, может послать все к чертям?..
– Почему ты так сделал? – спросил он Жолинаса.
Тот долго озирался вокруг, ничего не соображая, потом ответил:
– Если я никому не нужен, то могу распорядиться собой.
Моцкус передернулся. А потом долго не мог забыть ни дуб, расщепленный молнией, ни стройного парня с синяками под голубыми глазами. Моцкус вспоминал эти случаи и когда без колебаний посылал товарищей в огонь, и когда, прижавшись к дереву или камню, сам сеял смерть. А в минуту затишья, набивая диск патронами, спрашивал себя: зачем все это? Почему один человек насилует другого? Почему убивает? Ведь человек – существо разумное и все на этом свете должен бы делать по доброй воле, без всякого принуждения. В конце концов даже добро, навязываемое силой, тут же превращается в зло, так сказать, в свою противоположность…
Моцкус писал длинные рапорты и всегда заканчивал их одним и тем же: «Прошу уволить меня с занимаемой должности, так как я хочу учиться, свою работу ненавижу, поэтому у меня нет никаких перспектив для роста и достижения серьезных успехов на службе».
А из управления ему отвечали: «Нам, товарищ Моцкус, лучше знать, где вы в настоящее время нужнее…»
Этот надоедливый диалог тянулся почти год. Все к нему привыкли и даже шутили, мол, Моцкус слишком дорожится, а начальство ломаного гроша за него не дает, поэтому все и стоит на месте. Но были и такие, которые обязательно добавляли, что Моцкус – счастливчик, что другому за такие рапорты уже давно всыпали бы пониже спины…
Викторас терпел эти разговоры, иногда даже сам в них участвовал, а едва выпадал удобный случай, снова брался за перо.
Потом на его голову свалилась новая беда. Зеленые нагло убили председателя колхоза и его семью. Средь бела дня, под носом у его парней вырезали всю семью: мужа, жену и троих детей. Он долго не находил себе места. Голодный, исхудавший, бродил вокруг хутора Гавенасов, исследовал факты, расспрашивал людей, но все было тщетно. Однажды, кое-что пронюхав, он всю ночь просидел в густой сирени Гавенасова сада, а под утро задремал на минутку. И тут же очнулся. Небольшой юркий зверек крался к только что проснувшимся куропаткам. Сосредоточив внимание на птицах, этот маленький разбойник дрожал, словно натянутая пружина. Чтобы не застыли мускулы, он перебирал передними лапками, прижимался к земле, но все время настойчиво приближался к мирно поклевывающим птицам. Еще мгновение, еще шажок… и Викторас не выдержал. Забыв про инструкции, элементарную осторожность и оправдывающую его работу секретность, почти не целясь, он выстрелил в зверька. Тот высоко подпрыгнул, перевернулся через голову и, упав на землю, сразу замер. Это была первая охота Моцкуса. Пуля настигла и смертельно ранила зверька перед самым прыжком, но не прыгнуть он уже не мог…
В это время затрещали кусты. Он снова инстинктивно поднял оружие и едва не нажал на курок, увидев бегущее через сад существо, завернувшееся в пестрое, сшитое из разноцветных лоскутов одеяло.
– Что ты здесь делаешь? – спросил, догнав девушку.
– Я дома боюсь спать. – Она сняла с головы одеяло, сдернула платок. Ее огромные глаза были широко раскрыты, в увеличившихся зрачках сверкали какие-то нехорошие, сумасшедшие огоньки. – Я видела, как вы целились в меня, видела брызнувшее из дула пламя, но кричать побоялась…
– Послушай, Гавенайте, так нельзя… – Перепуганный, он не мог поставить оружие на предохранитель.
– Я вас не боюсь.
– Я и не пугаю… Меня и не надо бояться.
– Знаю, вы хороший… Вы должны быть хорошим, потому что вы – моя судьба.
– Еще что выдумаешь!
– Я уже который раз вижу во сне маму, а она говорит, что тот, кто выстрелит в меня, станет моим мужем.
– Я тебе дам мужа! Марш в дом! – обругал ее Моцкус и только потом заметил, какая она молодая и красивая.
Он привел девушку в избу; словно отец, помыл ее лицо холодной водой, уложил в постель и, почувствовав, как приятно ему дотрагиваться до нее, смущенно раскраснелся и снова принялся учить:
– Уезжай, если не можешь жить здесь, я помогу тебе. Попроси, чтобы соседи приходили, но одна больше не оставайся. Ты с ума сойдешь. Ты вся горишь и бредишь.
Она слушала его не мигая, слушала и опять просила:
– Будьте таким хорошим, не оставляйте меня, я вам не стану мешать, я все умею…
– Теперь – не могу. – И, увидев, что эти слова причинили ей боль, стал оправдываться: – Но если ты так уж боишься, пришлю кого-нибудь из комсомольцев. – Пообещал и ушел искать своих парней, хотя до условленного времени еще было целых полдня.
Кажется, ничего интимного между ними и не было. Однако глаза перепуганной Гавенайте не стерлись из памяти Моцкуса. Бывая в этих местах, он вдруг ощущал желание, даже необходимость еще раз увидеть Бируте, поговорить с ней, утешить, хотя бы притронуться к ней рукой, как тогда… А не найдя ее, долго стоял у расщепленного молнией дуба и наблюдал, как тяжело умирает проживший несколько веков великан. Одно время Моцкус даже замыслил было посвататься к этой одинокой девушке, с которой так жестоко обошлась судьба, обдумал все подробности, но помешали его неопределенное, полное опасностей положение и неуемное желание учиться.
Моцкуса ранило. Рана была неопасная, но довольно глубокая. Пришлось вызывать врача из Вильнюса. Приехала женщина – средних лет, но очень милая. Она осмотрела рану, наложила швы, перевязала и, не дождавшись машины, осталась ночевать.
Они поужинали, он по-джентльменски уступил ей свою кровать, а сам собрался улечься на полу, бросив туда какие-то тряпки.
– Я принесла вам столько беспокойства, – стала извиняться она.
– Ерунда, ведь вы перевязали мне руку. – Он еще подумывал, не уйти ли ему в городок и переночевать у товарищей, но фитиль керосинки несколько раз мигнул и погас.
Они долго ворочались и не засыпали: его мучила боль, а врача… Трудно сказать, почему она металась на скрипящей солдатской койке, но ее тихие, ласковые слова Викторас расслышал сразу:
– Послушай, лейтенант, я уже не девочка, и если ты ляжешь рядом, меня не обидишь.
Его прямо-таки оглушили эти откровенные слова. И, разыгрывая многоопытного мужчину, Моцкус ответил:
– Я не привык убегать от опасностей.
Он не лгал, он не убегал никогда, но такого рода опасность подстерегла его впервые.
И они громко рассмеялись. Наверно, слишком громко, потому что в такой ситуации, как ни изображай из себя хладнокровного, причины для волнения все равно будут. И он волновался.
…Это была не любовь, не распутство, скорее – острая физическая и душевная потребность в ту холодную и мрачную послевоенную пору хоть на мгновение почувствовать себя не стрелком, не мишенью, а обыкновенным человеком, свободным от чувства долга и страха, принадлежащим только себе и этой сумасшедшей минуте.
Моцкус, еще несовершеннолетним пареньком очутившийся на фронте, и она, военфельдшер, не были слишком сентиментальны, они не давали друг другу торжественных обещаний, не клялись вечно хранить верность, но не испытывать доверия и нежного внимания друг к другу они тоже не могли. А Моцкус, человек долга, безгранично чуткий, испытывал к этой женщине чувство благодарности, которое, как показывает практика, очень часто сближает людей и порабощает их сильнее, чем любовь.
Утром она была весела и по-женски сдержанна, а он не отводил глаза в сторону и как умел ухаживал за ней, демонстрируя немного позабытую гимназическую галантность, а потом, когда схлынул первый наплыв чувств, они оба несколько преувеличенно заинтересовались холостяцкой жизнью друг друга.
– Викторас, тебе нельзя оставаться здесь ни дня. – Ее голос звучал дружески.
– Я сам знаю, – буркнул он, почувствовав к ней еще большую благодарность, – но куда мне деваться?
– Иди учиться, – ответила она. – Будь у меня такой фундамент, я бы не сидела сложа руки.
– Какой фундамент?
– Ты такой начитанный, а твоя память – просто чудо!
Он рассмеялся, вспомнив, что в гимназии учился довольно тяжело, ценой огромных усилий запоминая множество предметов. Но прошло столько времени… И когда его приятели-отличники почти все позабыли, его память выкинула штуку: весь, прежде с таким трудом заученный, школьный курс вдруг воскрес в пластах подсознания и с каждым днем все ярче и ярче вырисовывался в памяти. Его начитанность удивляла.
Как-то один приятель, усомнившись в знаниях Моцкуса, спросил:
– Откуда ты знаешь все это?
– Оттуда же, откуда и ты: ведь мы вместе учились.
– Не прикидывайся, ты, наверно, и теперь учишься?
– Говорю: в прошлом учился…
– Из прошлого люди только силу черпают, – не поверил товарищ.
А теперь то же самое говорит эта малознакомая фельдшериха… Моцкус с признательностью улыбнулся ей и спросил:
– Кто меня отпустит?
– Кто назначил, тот и отпустит.
– Утопия.
– Почему? Мой отец – довольно влиятельный человек. Я поговорю с ним, вот и все дела.
– Поговори, только боюсь, что ничего из этого не выйдет. – Он был уверен, что ее слова – лишь деликатный завершающий аккорд их коротенького романа.
Марина уехала, а через несколько дней его вызвали в Вильнюс.
– Тебе надо учиться, – повторил ее слова тихий и очень упрямый начальник отдела кадров, все время кормивший его железными аргументами: «Нам лучше знать… мы только советуем… есть такое мнение…» теперь он так же тихо согласился со всеми аргументами Моцкуса и даже разрешил ему выбрать, куда пойти. – Вы мечтаете об университете? – удивился начальник и улыбнулся, словно жалея его.
– Так точно.
Тот покачал головой, еще откровеннее ухмыльнулся в усы, а потом добавил:
– Я бы на вашем месте, имея такого покровителя, не стал так легкомысленно относиться к своему будущему.
– Если понадобится, и там словечко замолвит, – шутил Викторас.
– Может быть. – Он пожал плечами и на всякий случай добавил: – Университет, братец, это не милиция.
И он оказался прав: в университете надо было много, чертовски много работать, чтобы угодить единственному начальнику, называемому наукой. Но тогда Моцкус верил, что труд по сравнению с проклятыми выстрелами – это неземное счастье, рай, предназначенный только для избранных, поэтому весело улыбнулся начальнику, так неожиданно укрощенному женщиной, и, невзирая на его звание, ответил:
– С вашей помощью я уже и это почти позабыл.
– Только не дури. – Начальник снова стал грозным и неприступным.
«Какое свинство! – глядя на него, думал Моцкус. – Я целые ночи просиживал, портил глаза у керосиновой лампы, сочиняя длинные, хорошо аргументированные прошения, трезво взвешивая каждое „за“ и „против“, стараясь не показаться слишком назойливым, а он каждый мой рапорт перечеркивал убийственно холодным, никакой логикой не подкрепленным „нам лучше знать“». И вот теперь благодаря заступничеству малознакомой женщины Моцкус стоит перед этим чурбаном и чувствует себя свободным как птица.
Училось Моцкусу трудно – за все университетские годы он так и не снял шинель, только несколько раз перешивал ее, и она становилась все короче, – но он был счастлив, забывал про все невзгоды и ощущал огромное удовлетворение от новой, ни на что не похожей работы, позволяющей ему сомневаться, когда все кажется точным и логичным, дающей право спорить и состязаться с признанными авторитетами. Моцкус чувствовал себя просто всемогущим и с азартом мальчишки отдался математике. Он считал, что это наука наук, что всю деятельность человека, даже любовь, можно превратить в символы и цифры, а потом, выстроив их в ряды и формулы, основанные на законах и логике математики, без особого труда предсказать будущее и судьбу.
– Идея должна быть самой простои, – вначале он спорил только с равными себе. – Проникая во все сферы жизни, она может пользоваться сложнейшей методологией, может дать чудесные результаты, но суть ее должна быть понятна даже ребенку. Если бы Эйнштейн в молодости не подумал: «А что случится, если я буду бежать быстрее света?» – он никогда не сказал бы: «Прости, Ньютон, но ты уже не прав!»
Моцкус не хвастался, ибо не хотел, чтобы над ним смеялись не понимающие его. Он работал, как одержимый зубрил иностранные языки, читал – и проверял, читал – и соглашался, читал – и возражал, читал – и осуждал, читал – и творил. К каждому новому делу, к каждой интересной книге он прикасался с каким-то внутренним трепетом – так поднимаешься в атаку, имея одинаковые шансы вернуться с победой или остаться вечно живым в памяти товарищей… Яростное беспокойство не оставляло Моцкуса, пока он не добивался своей цели, пока, опустошенный, но счастливый, не мог сказать себе: а все-таки она вертится, черт меня подери!..
Сначала о своих открытиях он несмело рассказывал Марине. Она ничего не понимала, только широко раскрывала глаза и обязательно, не желая показаться невеждой, сомневалась:
– Да ведь это чушь!
Тогда он, довольный, смеялся и начинал объяснять:
– Теперь науке как вода, как воздух нужна такая на первый взгляд безумная идея, переворачивающая все представления вверх ногами…
Марина уступала, но не забывала и о себе:
– Я с первого взгляда поняла, что ты не такой, как все, но это уж слишком. Поверь моему предчувствию: так рискуя, ты когда-нибудь свернешь себе шею.
– Милая, а что такое предчувствие, что такое инстинкт? Это запрограммированный в генах опыт тысяч поколений, живших до нас. И ничего лишнего там нет: все подчиняется железным законам природы. Все живет с одной-единственной целью: как можно лучше приспособиться к окружающей среде и продолжить существование своего вида. Человеку важно только найти закономерности цепочек, уметь заменять эти закономерности другими. Тогда он всемогущ…
– Не согласна! А любви, а чувству ты ничего не оставляешь?
– Любовь и чувства тоже можно будет запрограммировать. – Моцкус ни капельки не лицемерил, ибо все чаще и чаще ловил себя на мысли, что Марина нужна ему как женщина мужчине, и не выносил, когда она набивалась в духовные поводыри.
– Когда ты так говоришь, ты мне противен. Я нашла тебя не для математики, а для себя. Ты должен понимать это.
– А может, я нашел тебя для математики?
– Глупость! Как можно любить человека только из-за какой-то цели? Если я люблю, мне неважно, ни ради чего, ни почему. Любя, я все могу.
– Кое-что могу и я… Но в твоих словах есть странная логика: так сказать, до греха меня не доводи, но прямую дорогу укажи… – Он больше не спорил, так как знал, что Марина может предаваться любви двадцать четыре часа в сутки и не насытиться ласками, а для него эта любовь была только потребностью, продиктованной природой.
– Послушай, неужели тебе нравятся мужчины, которые постоянно держатся за юбку?
– Это противные, ничтожные существа, хотя иногда их внимание становится даже приятным, потому что ты на меня не обращаешь внимания.
– И опять ты не права. Я занят научной работой, мне надо сосредоточиться. Чтобы все время думать, надо все время молчать… Поэтому ежедневно напоминать мне, что я неразговорчив, просто нетактично.
– Внутренний голос никогда не отличался тактичностью.
Разговаривать с ней на эту тему было невозможно. Моцкус знал, что любящая Марина не успокоится до тех пор, пока не завладеет его душой, а если это не удастся, то будет всеми силами стараться сделать его похожим на себя. И еще Моцкус знал, что, слабая, она упрямо стремится властвовать, что ненавидит абстрактные вещи, так как не в силах понять их, что, занятая бытом, она боится за витающего в облаках мужа, который может удалиться от нее и снова оставить ее одну…
Он все это знал и почему-то сказал:
– Послушай, ты прекрасно понимаешь, что я другим не стану, лучше скажи: за что ты меня любишь?
– А шут тебя знает… Может, из тебя и впрямь что-нибудь выйдет. – Усомнилась, но осталась прежней. Она не отказывалась от малейшей возможности привязать его к мелочному быту – если не сердцем, то хотя бы законом, чувством долга, хотя бы цепью за ногу…
Это были первые семейные битвы, первые баталии, которые со временем превратили их в непримиримых врагов, но до этого было еще далеко, надо было не только учиться, но и одеваться, заботиться о теплом уголке и куске хлеба… Родственников у Моцкуса тогда не было, хотя теперь их появилось довольно много. И если б не Марина, черт знает какой получился бы из него академик. Прежде всего она уступила ему одну комнату в своей огромной квартире, помогала по мелочам, покупая билеты в кино или театр, и никогда не забывала, что студенту часто не хватает несколько рублей до стипендии и несколько спокойных часов перед экзаменом. Она не была слишком назойлива и лишь однажды, когда он решил уйти с последнего курса, сказала:
– Ты неблагодарный человек, потом будешь локти кусать.
– Почему?
– Потому что ты очень талантлив.
– Глупости! – Он снова слишком громко рассмеялся. – Сидеть ночи напролет и грызть книги может каждый.
– Нет, не каждый. Ученому прежде всего требуется огромная трудоспособность, самообладание и твердая воля. Крепкое здоровье, восприимчивость, интуиция и необычайное упорство… У тебя всего этого предостаточно, поэтому и разбазариваешь способности налево и направо.
– Послушай, Марина, иногда люди не лгут только потому, что не знают правды.
– Ты что-то скрываешь от меня? – Она испуганно посмотрела Викторасу в глаза и очень встревожилась.
– Мне надоело быть альфонсом. Мне стыдно получать все из твоих рук.
– Хорошо, тогда мы заключим договор. Когда встанешь на ноги – все вернешь.
– Вдвойне!
Договор они не заключили, но Моцкус не выдержал и спросил:
– Ты ревнуешь меня к науке, обвиняешь, что я слишком занят ею, но едва я захотел бросить ее, сразу другую песенку запела… Где логика?
– Не знаю, мне кажется, я смогу любить тебя и такого. Видать, одному из нас придется жертвовать собой.
– Обоим, милая, обоим, – поправил ее Викторас.
– Не понимаю – зачем?
– Я – науке, ты – мне…
– Все-таки ты порядочный подлец.
– Может быть, но только потому, что, вступая в сделку с тобой, я еще хочу вернуться.
– Ты еще и свинья.
Нет, он не сделался ни свиньей, ни подлецом. В глубине души он чувствовал, что без этой женщины он уже никак не обойдется, обязательно споткнется на полпути, что без Марины он не добьется поставленной цели, а если и докарабкается до нее, то затратит в три раза больше времени.
«Ладно, – Моцкус отгонял эти мысли и снова возвращался к ним как к небольшой, но постоянно ноющей болячке. – Любви не было, только благодарность, только чувство долга и обязанность, только барское упрямство любой ценой сдержать слово, которого добились от тебя не совсем честным путем. Еще жив был и постоянный страх, не хотелось возвращаться в милицию. Кроме того, появилось желание всегда досыта поесть, вовремя лечь спать. – Он подумал об этом и рассердился: – Кончай притворяться, были еще и острый запах ее духов, и искренняя близость… Но это уже мелочи».
Со службой Моцкус расстался быстро. Передал бумаги, перекрестил все левой рукой, взял отпуск, но так и не успел им воспользоваться. На улице он встретил Бируте.
– Я выхожу замуж, – сказала она.
– Девочка, куда ты все торопишься? – Эта новость вызвала у него некоторую досаду.
– Как не торопиться, если в нашей деревне уже не осталось ни одного моего ровесника?
– Сами виноваты.
– Я вас не виню.
– И чего ты хочешь?
– Пригласить на свадьбу.
– Спасибо, я обязательно приеду.
– Если и не приедете, я не стану сердиться.
– Послушай, девочка, так даже своих врагов в гости не приглашают.
– Конечно, но Альгис очень просил, говорил, что без вас будет нехорошо.
Они расстались, но пришел этот подлец Жолинас и свадьба расстроилась. Когда арестовали Альгиса, Бируте прибежала к нему вся в слезах словно помешанная.
– Что он вам сделал?
– Ничего.
– Тогда почему вы его теперь?.. Перед самой свадьбой?
– Когда сделает, будет поздно.
– Тогда забирайте и меня. Вместе. Всех!
– Ты нам ничего плохого не сделала и даже не собиралась сделать.
– Но теперь я сделаю! – Она вытащила из-за шали гранату и положила на стол. – У меня тоже винтовка есть!
Викторас побледнел, вскочил и стал пятиться от этой сумасшедшей, а она уже ничего не соображала, только вытаскивала из-за шали и бросала на стол всякую ржавую дрянь. – Чего вы боитесь?! Арестуйте, сажайте, я тоже прячу оружие… Мы оба!..
Поборов страх, Моцкус сгреб в кучу это подобранное под кустами добро и лишь тогда улыбнулся:








