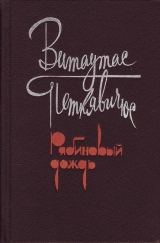
Текст книги "Рябиновый дождь"
Автор книги: Витаутас Петкявичюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
Она приехала, но любая травинка, любой куст, любое дерево говорили ей о только что потерянном счастье, говорили с такой болью, что она не выдержала и сделала то, от чего теперь так горячо отговаривает Саулюса.
Но опять Стасис! Он, можно сказать, отогрел Бируте своим дыханием, он выхаживал ее, позабыв, что кроме долга существуют отдых, еда и другие земные дела, необходимые человеку. Она пробыла в полунебытии несколько дней, а когда пришла в себя – наблюдала за Стасисом и удивлялась его святому упорству. Казалось, он жил только ею и ее несчастьем: высох, почернел, сгорбился, одни глаза под густыми ресницами, глубоко запавшие, казались счастливыми, веселыми и молодыми.
Бируте молчала и смотрела на аккуратно наклеиваемые на стенку листки отрывного календаря. Среди них уже появилось и несколько красных, а она все лежала равнодушная, измученная, не в силах ни чего-нибудь захотеть, ни кого-нибудь ненавидеть. Но однажды, лежа на спине с заложенными за голову руками, вторые сутки не смыкая глаз, она вдруг почувствовала, как бежит время. Ощущение это было настолько реальным, будто кто-то протягивал перед ее глазами странную, прозрачную ленту, и когда она проходила, все вокруг изменялось, старело и покрывалось серым налетом прошлого. Все это выглядело настолько ярко, отчетливо, что она не выдержала и, пошатываясь, прошла по комнате.
«Время! – Она хотела что-то понять. – Время, дающее оценку всему и ничего не жалеющее, не прощающее ни чрезмерной отваги, ни страха. Время!..» Вспомнила курсы, влюбленного в нее доктора и чистенький, покрытый лаком скелет женщины. Тогда, прикоснувшись к нему, Бируте вздрогнула и подумала: ведь она тоже чувствовала и страдала, она жила и плакала; а доктор водил по ее скелету полированной указкой и объяснял: «Вот это тазобедренная кость, а вот это – лобковая…»
…Вошел Стасис и остолбенел, увидев ее голой, потом перепугался и бросился к ней:
– Тебе нельзя, лежи…
Бируте глядела вокруг и ничего не узнавала. Пока она болела, Стасис выбросил старые вещи, которые могли напомнить ей о прошлом, и накупил всякой современной мебели, а напротив окна, у пустой стены, поставил огромное зеркало. Бируте подошла к нему и, так как теперь никто не запрещал ей этого, долго осматривала себя и удивлялась: «Нет, не та!..» – потому что перед ее взором все еще стояла другая, молодая, распарившаяся в баньке полногрудая девушка; в ушах продолжал звучать крик возмущенной матери… и удар кочергой… Нет, удара уже не было, она не ощущала его. Бируте стала другой – из глубины зеркала на нее смотрела измученная и порядком увядшая женщина….
– Ты можешь ноги о меня вытирать, только выслушай… Больше не делай этого, не надо. Плюнь на Моцкуса, он твоего мизинца не стоит.
Бируте ничего не ответила, но чувствовала, как в груди у нее рождается какая-то странная жажда мщения. И тогда ей захотелось рассчитаться за все, что она вытерпела и что потеряла…
– Как там твой папочка говорил? – спросила она Стасиса. – Добродетель – это отсутствие возможностей или болезнь?
– Не совсем так. Он говорил: добродетель бесплодна, поэтому простому человеку она ни к чему.
– Правильно, – Бируте улыбнулась Стасису. – И будь так добр, растопи баньку.
Париться она не могла – кружилась голова, поэтому, как следует согревшись, вышла на мостик и долго смотрела на журчащую воду, пока снова почувствовала, как по всему ее телу струится время, словно эта прозрачная, никогда не поворачивающая вспять вода ручейка, полощущая чешую маленьких и больших рыб. И она подумала, что этот поток времени так же незаметно, как и ручеек свои берега, разрушает все и уносит в какое-то огромное, недоступное пониманию человеческого разума море забвения. Она смотрела на воду, вошла в нее и хотела уплыть вместе с ней, но не смогла. Она была слишком тяжелая, измученная, поэтому стояла посреди потока, словно отшлифованный розовый камедь, и отчетливо ощущала, ощущала это течение времени, потом не выдержала и заплакала во весь голос. Она не видела, что в сторонке стоит Стасис, что он вздохнул с облегчением и теперь улыбается ей. Она плакала, словно высеченная розгами, со всхлипами и все повторяла:
– Время!.. Боже мой, еще годик-другой, и я уплыву, как этот пожелтевший листик березы…
Когда кончились слезы, иссяк и весь запас этих бабьих сантиментов. Заметив стоящего в сторонке Стасиса, она гордо вскинула голову, оделась и ушла в лес гулять. На другой день они поехали в городок. Бируте прямо-таки опустошила универмаг, побывала на спектакле гастролирующего Паневежского театра и показалась себе той несчастной королевой, которую капризы и глупость мужа заставили подняться на эшафот.
– Время! – повторяла она, ужиная в ресторане. – Стасис, ведь время никому ничего не прощает, не простит оно и тебе. Сколько у тебя денег?
– Много, Бируте, очень много…
– И зачем ты их хранишь?
– Для тебя… Только для тебя.
– Не экономь их больше, потому что, как говорит Моцкус, человек, хранящий деньги на сберкнижке, теряет в пять раз больше, чем тот, кто покупает что-нибудь ценное. Жизнь не любит неповоротливых людей, а красивые вещи – пустых карманов.
– Может быть.
Он все шутил, не подозревая, что Бируте научилась шутить довольно зло. Бируте рассмешила соседей, рассердила официантку и все время дразнила Стасиса, не испытывая к нему ни жалости, ни сочувствия.
Пусть извивается, если не может двигаться иначе; пусть ползает, если не умеет ходить с поднятой головой; пусть страдает, ибо страдания не обошли стороной и ее; пусть почувствует, свинья, как приятно быть огрызком, выплюнутой на землю косточкой вишни, пустой ореховой скорлупой…
К их столику подсел высокий, красивый мужчина с посеребренными висками. Он понравился Бируте, потому что тоже не считался со Стасисом и его деньгами.
– Это наш новый директор, прекрасный парень, – торжественно сообщил Жолинас и еще что-то заказал. – Два вуза окончил.
Перед закрытием ресторана они, очень веселые, собрались домой. Бируте всю дорогу пела, а директор гнал машину как сумасшедший, одной рукой сжимал ее пальцы, другой держал руль и все спрашивал:
– Боишься?
– Нисколечко, – смеялась она и на самом деле хотела, чтобы они этой глухой ночью врезались в сосну, – я воскресла из мертвых!
– А если я буду изредка навещать тебя?.. Что? Не прогонишь?
– Ты сам не уйдешь!
– Тогда я гоню!
– Директор, – трясся на заднем сиденье Стасис, – машина-то не новая.
– И мы, Стасис, уже не первой молодости. Ну, сколько нам нормальной жизни осталось? Ну, десять, пятнадцать годков, и все. Когда хлопнут лопатой по хорошему месту, тогда уж ничего не потребуется.
У дома они долго не могли расстаться. Отозвав Стасиса в сторону, директор принялся расспрашивать его:
– Кто она такая?
– Моя жена, – ответил тот, а Бируте притворилась, что не слышит этого допроса.
– Не заливай, – не поверил директор, – рядом с ней ты выглядишь как червь в золотом бокале… Из отдыхающих?
– Говорю: жена.
– Будущая?
– Настоящая.
– Считай, что ее у тебя нет. Прощай!
Через несколько дней директор свалил старую баньку Жолинаса и начал строить новую, современную. Мелиораторы поспешно возвели на ручейке запруду, рабочие лесхоза посадили редкие деревья и кустарники, а Бируте получила предложение стать заведующей еще не существующей баней и базой отдыха с приличной зарплатой рабочего лесхоза.
– Но ведь это нечестно! – удивилась она.
– Не вернуть те деньки, что умчались! – запел директор и ничего не ответил ей.
И Бируте начала жить сегодняшним днем. Она перестала отвечать на письма Моцкуса, отказалась принимать посылки, потому что у нее всего было вдоволь…
Она жила сегодняшним днем, а в ее душе росло чувство озлобленности – росло и ширилось. Она была счастлива, наблюдая, как директора мучает страх, когда он, скрываясь от жены и постороннего взгляда, прибегает к ней с каким-нибудь лесным цветочком или шоколадкой, как добивается ее близости, как унижается и снова пешочком убегает искать где-то в лесу запрятанную машину. Она испытала еще большее удовлетворение, когда директор заплакал, узнав, что Бируте не любит его, а только играет с ним, что все это – лишь месть женщины, разозленной на другого мужчину…
Потом был молодой специалист, горячий и глуповатый инженер, который, клянясь ей в вечной любви, до тех пор держал руку над пламенем свечи, пока на ладони не выскочил огромный волдырь, а испуганная Бируте не сказала, что он ей нравится. Но через неделю, когда запруженный ручеек из-за каких-то инженерных просчетов прорвал бетонную плотину и все пришлось делать заново, инженер тихо исчез.
Еще был участковый врач. Злой и всякое повидавший циник, который сначала рассказывал какой-нибудь сальный анекдот, а потом говорил «здравствуй» или «прощай». А потом… Нет, потом уже никого не было, разве что первые встречные, которых она приводила, чтобы позлить себя и Стасиса…
Когда Бируте поняла, что дальше так жить нельзя, когда порожденный несчастьями азарт был утолен и когда желание издеваться над собой и другими опротивело и стало невыносимым, приехал Моцкус. Боясь глянуть в зеркало, она днем и ночью работала на хуторе, надеясь заглушить упреки совести. Возила, как мужик, камни, сажала деревья, сеяла травы, подстригала, косила и снова сажала. Ради какого-нибудь редкого растения она могла отдать и Стасисовы, и свои деньги или пешком отправиться за ним бог знает куда.
А Викторас вернулся неузнаваемый – элегантный, подтянутый – деловой человек из заграничного фильма. Его обычную расхлябанность, равнодушие к своей внешности и вещам будто корова языком слизнула. Исчезло и глупое убеждение, свойственное многим серьезным людям, что мужчину надо уважать только за его ум. Он остановился перед ней словно киноактер и элегантно развел руками. Окинув Моцкуса взглядом, Бируте смахнула со лба прядь волос и бросилась ему на шею, но он, даже не поздоровавшись, зло спросил:
– Как ты могла вернуться к этому отвратительному типу?
Его слова не только остудили, но и обидели ее.
– Я вернулась домой, – тихо произнесла она.
– Это не ответ, – запротестовал Викторас.
– Я вернулась домой из твоей противной гостиницы, – повторила она.
– А он что?.. Он в мебель превратился? – повысил голос гость.
– Тебе хотелось бы, чтоб я дала ему крысиного яда?
– Нет, ему вполне хватит чая. – У Моцкуса, видимо, ответ был наготове, и он сумел больно задеть Бируте.
Она промолчала, наклонившись, сорвала только что раскрывшийся цветок и протянула ему:
– С приездом, – попыталась рассмеяться.
Моцкус не взял цветок.
– Пока ты не ответишь мне на вопрос, я не сдвинусь с места, – заупрямился он.
– Я уже ответила: вернулась домой.
– Разве это дом? – искренне удивился Моцкус.
– Нет, – покачала она головой. – Это не дом, это мой лес, озеро, ручеек, песок, камушки и трава.
– Лесов и вокруг Вильнюса предостаточно.
– Но здесь нет такого прекрасного лесничего, как Марина, – она отплатила ему и бросила цветок на землю.
Моцкусу не оставалось ничего другого, как помириться, но он был непреклонен:
– А что ты скажешь по поводу новой мебели? – Этими словами он надеялся уничтожить Стасиса, обидеть Бируте, но повредил только себе.
– При чем здесь Стасис?
– Я о нем спрашиваю.
– А чем же ты лучше?
Моцкус побледнел, потом покраснел и, потеряв самообладание, начал кричать:
– Как ты смеешь сравнивать меня, всеми признанного ученого, с этим аборигеном?! Что плохого я тебе сделал?
Бируте подняла брошенный цветок, сунула в кармашек пиджака Моцкуса, взяла его за плечи, повернула и вежливо сказала:
– Уходи отсюда.
Викторас оцепенел.
– Уходи.
– Я попросил бы… – он хотел сказать: не толкаться, но тут же спохватился: – Я не Стасис и не позволю так с собой обращаться.
– Знаю, а ты, оказывается, только теперь это понял. Неужели ради такого открытия стоило уезжать за границу? – Она повернулась и ушла.
Потом свернула в лес, шла и плакала, огромными усилиями воли сдерживая себя, чтобы не повернуть назад. Увидев уезжающую машину, она была готова преградить ей дорогу, но поборола эту слабость и осталась стоять за густыми, благоухающими смолой сосенками.
Вернувшись ночью домой, она нашла сложенные посреди двора подарки – ни Моцкус, ни Стасис не потрудились занести их в дом.
Как оставил Альгис Стасиса на опушке леса возле злополучного альпинария, так он и просидел до вечера. И если бы не комары, Жолинас до утра не тронулся бы с места.
«Все! – повторял он в мыслях. – Кончено, – хотя твердо знал, что никто не сможет наказать его за содеянное, что его только поспрашивают, потаскают и отпустят, но в душе чувствовал, что пришел его последний час. Это предчувствие, обостренное словами Милюкаса насчет молитвы, заставило его о многом передумать. Люди! – вот кого Стасис боялся больше всего. Что они скажут? Его люди – это прежде всего Бируте, Альгирдас, это ненавистный ему Моцкус и правдоискатель Саулюс, а потом и все остальные. – Бог свидетель, я защищался. И не я, а он был вооружен, он стрелял в меня и, презирая, заставил тереть ему спину, из-за него дрожала вся деревня, а я только защищался и защищал других. Главное – убедить себя. Наконец, какая разница? Ведь он пришел раненый, больной, он сам помер в этом подвале, а я только похоронил его. Почетно, словно некоего графа… Благодарить меня должны. И нечего удивляться, если я превысил данную мне власть. Ведь даже природа дает самым миролюбивым животным, не обладающим острыми зубами, рога. А что подумают обо мне люди – наплевать», – но снова перед глазами возникла Бируте и посмотрела на него таким осуждающим взглядом, что он содрогнулся.
«А может, и на самом деле пришла пора кончать все? Уйти и не вернуться, а вы сходите с ума, осуждайте друг друга и кайтесь, предавайтесь ненависти и любви, но без меня. Потом наступит покой, исчезнут обиды, забудутся незаслуженные издевательства. Не надо каждый вечер остерегаться этого проклятого богореза, ищущего в дереве то, чего он не может найти в людях, не надо дрожать перед этим счастливчиком, перед этим всесильным Моцкусом, ничего будет не надо! Они должны будут бояться меня. Это будет моя месть. Только надо собрать всю волю… И моя безысходность превратится в их страх. Меня не станет, а моя воля, мои мысли еще долго будут витать и не давать покоя тем, кто заслуживает проклятия. Я буду сниться им по ночам, я стану приходить днем, я буду стучать ставнями и завывать в трубе», – эти мысли так понравились Стасису, так его успокоили, что не почувствовал, как заснул.
Во сне он, молодой и красивый, стоял у погреба на часах и слушал песни сошедшего с ума Пакросниса. Ему подпевал Милюкас. И лес, возвышающийся перед ним, усмехался огромными беззубыми вырубками. Словно проклятие, звучали затихающие и снова возвращающиеся слова: лесник без пущи!.. Потом его стали трясти за плечи.
– Ты что, Жолинас, противоатомное убежище построил? – услышал он и открыл глаза. Пошарил рукой в поисках лопаты. Перед ним переминался с ноги на ногу директор лесхоза: – Что, спишь?
Стасис пожал плечами:
– Оказывается, когда-то здесь погреб был.
– И что ты там устроишь? Ведь цветы в такой темени не растут.
– Уголок тишины, – пошутил Жолинас. – Побелю, витражик какой-нибудь сделаю, гладенький камень закачу вместо алтаря и свечу поставлю, пусть человек хоть на час замолчит и подумает.
– Неплохая идея. Особенно летом хорошо посидеть в тенечке, выпить глоток квасу… А чего такой измочаленный?
– От хорошей жизни.
– Логично: чем лучше вокруг становится, тем дороже платить надо. Ты все из-за этого леса злишься?
– Нет. Есть дела поважнее.
– А насчет жены тоже не сокрушайся. Вернется. Мои ребята в больнице ее видели.
– Болеет? – Он оживился.
– Нет, работает.
Новость окончательно пришибла его: значит, они опять вместе. На сей раз вся троица! Ну, вот и не верь в судьбу, чтоб ей удавиться! Он отбросил лопату, но все еще не посмел поздороваться с директором за руку.
– Вот жизнь настала: мне уже по ночам снится, что я лесник без леса. Железки всякие во сне вижу, да ладно, шут с ними…
– Ну, если уже ругаешься, тогда слушай: надо на болоте несколько шалашей построить, чтобы утки к ним привыкли.
– Охотиться будете?
– А как же! Я такую хорошую подсадную уточку приобрел – мечта, не птица. Интересно будет.
– С кем, если не секрет?
– С Моцкусом. Он еще гостя из Москвы привезет.
«Иезус Мария! – чуть не крикнул Стасис. – Когда же все кончится?.. Когда этот чертов выродок оставит меня в покое?!» Потом, взяв себя в руки, спросил:
– Как это – с Моцкусом… если он в аварию попал?..
– Когда?
– Сегодня.
– А кто тебе сказал?
– Милюкас.
– Давно?
– Еще утром.
– Глупости, я с ним только что по телефону разговаривал. Он сказал, что важного гостя ждет. Правда, а дуб кто Пожайтису отдал?
– Я.
– Напрасно.
– Не сердись, директор, позволь хотя бы приличное надгробие себе сделать, – говорил, словно загодя выучил эти слова, а мысли вертелись вокруг одного и того же: может, Милюкас дразнится, может быть, ничего и не случилось?.. Нет, должно было случиться.
– Делай хоть два, но на всякий случай баньку натопи.
– А зачем банька?.. Все равно он сюда не ходит.
– Не он, так другие придут.
– Была бы ваша или моя жена помоложе, – вполне искренне вздохнул Стасис, – мы бы еще наплакались. – И снова вспомнил Милюкаса: этот тоже своего не упустит; подумал и встревожился: – И он с высоким начальством зверьков убивать будет. Зря я связался, ведь где это видано, чтобы ворон ворону глаз выклевал?
Молча проводил директора, вернулся в избу и принялся вытряхивать все ящики, пока наконец не нашел коробку патронов. Они кое-где покрылись зеленым налетом. «От сырости, – понюхал, поглядел и испугался: – А вдруг не выстрелит?» – быстро сунул патроны в ружье и тут же, не выходя из комнаты, разрядил оба ствола в окно. Выстрелы улетели через лес и вернулись эхом. Когда-то он не верил, но, оказывается, на самом деле все возвращается с точностью бумеранга: если судил, то и сам судим будешь, и винить придется только себя. Ему неуютно, но он вспоминает другие выстрелы, никому не причинившие зла, но заставившие его бунтовать. Стасис горько улыбнулся себе, словно тому старому и все понимающему настоятелю, который долгими зимними вечерами готовил его в духовную семинарию, но к весне сказал:
– Не будем больше мучиться, Стасис.
– Почему, преподобный отец? – Ему было жалко оставлять сытный и теплый дом настоятеля.
– Потому, что ты не умеешь преодолеть себя, а на большее, мне кажется, тебя тем более не хватит.
Эти слова были настолько неожиданны и обидны, что Стасис застыл, будто его обухом перекрестили, а потом еле слышно спросил:
– А как одолеть себя?
– Не впадай в гордыню.
– Преподобный отец, но разве я не скромен?
– Скромность – одна из величайших добродетелей человека, ты, сынок, скромен только потому, что не обладаешь другими преимуществами. Это твое оружие, но не добродетель. Это твои перья, твое ремесло. Поэтому она, как и духовный сан, не избавит тебя ни от плохих дел, ни от плохих мыслей, ни от армии… Теперь церковь отделена от государства.
Оскорбленный до глубины души, Жолинас сидел и ждал: а вдруг этот все понимающий человек найдет несколько ласковых слов? Но их не было. Облаченный в сутану настоятель говорил:
– Не сердись, сынок, кто преследует разум, тот наскакивает на глупость, но кто боится чувств, тот не выходит из геенны огненной.
– Я не потому, – наконец нашелся он, – я исполнял волю матери…
– Не надо сокрушаться, – успокаивал его настоятель, – я найду способ, как рассчитаться с твоей матерью, но не это главное. Ты боишься людей и поэтому не знаешь их. Ты все терпишь и ждешь, чтобы они пришли к тебе. Но если желаешь понять людей, надо идти к ним. Поэтому, сынок, хороший ксендз из тебя не получится, а плохих и так слишком много. Но если ты хочешь посвятить себя богу – уходи в монастырь.
И тогда, как теперь, Стасис рассмеялся уголками губ. Дьявол завладел его мыслями, но он все равно улыбался.
– Преподобный отец, – спросил он, – разве не все равно – быть монахом или ксендзом?
– Нет, сын мой: ксендз – заступник людей перед господом богом, даже в заблудшей овце ищущий крупицы добра, а монах – прокурор их душ, отыскивающий в той же овчарне зло и вырывающий его с корнями… Намного легче притвориться святым, чем быть им.
И Стасис ушел, погулял по пустынной базарной площади, оглянулся и снова улыбнулся уголками губ.
Прокурор так прокурор, подумал и прямо через площадь направился к уездным комсомольцам, собравшимся в бывшей синагоге. Они приняли Стасиса с распростертыми объятиями, даже написали в газете о юноше, порвавшем религиозные путы, а секретарь доверил ему выстрелить из нагана. Два раза!.. Они пуляли в черное хмурое небо и ржали:
– Если в городке кто-нибудь погромче пукнет, то в доме настоятеля думают, что гром гремит.
Стасис знал, что поступает нехорошо, желая угодить и тем, и другим; что и вовсе напрасно он при посторонних людях издевается над своими сокровеннейшими мыслями и желаниями; понимал он и то, что человек, принимающийся сразу за два дела, ни одного не делает хорошо, но что вера в двух богов уничтожает в человеке его самого – эту истину он познал только сегодня. Милюкасы приходят тогда, когда между одним и другим богом появляется пустота, легко вмещающая и кнут, и прародителя всех жестокостей – страх.
Оказывается, и проклятым куда легче притвориться, чем быть таковым на самом деле.
Моцкус смотрел в зеркало и осторожно сдирал с лица кусочки пластыря. Раны еще не зажили. После каждого неудачно сорванного кусочка он ворчал, что еще слишком рано, что поцарапанные места еще кровоточат, но, как ребенок, все ковырялся да ковырялся, в конце концов стал заново неумело обклеивать себя пластырем.
– Тьфу, как девица: теперь опять все начнется сначала, – ругал себя, перепачкал пальцы йодом, торопился. Но чем больше торопился, тем больше не везло.
Наконец из аэропорта приехал Йонас и окончательно его расстроил.
– Не прилетели, – сказал он.
– Как не прилетели? Самолет задерживается?
– Нет, самолет прилетел, но их не было.
Моцкус тут же снял трубку и заказал Москву. Приятный голос секретарши ответил, что Дмитрий Дмитриевич вызван на срочную консультацию.
– Но ведь он пообещал! – Моцкус ничего не понимал. – Больной очень тяжелый. И так уже неделю ждем.
– Я говорю вам: он консультирует.
– А его слово уже ничего не значит?
– Ну, зачем вы так, Виктор Антонович!.. Если б вы знали, кого он консультирует, вы бы не говорили такого!.. Дмитрий Дмитриевич просил передать, что приедет позже.
– Если б я умел откладывать катастрофу, я бы вашему Дмитрию в ноги не кланялся. Передайте ему мой искренний привет! – Моцкус рассердился, закурил и подумал: «Вот тип! Только про охоту не забыл». – И что же теперь будем делать? – обратился к Йонасу.
– Поехали. Нельзя еще раз обманывать добрых приятелей, – Йонасу хотелось как следует попариться и отдохнуть.
– Что ж, поехали. Только ничего не бери, попаримся в баньке и назад… По пути навестим Саулюса.
– Да я уже все сложил.
– А выбросить не можешь?
– Могу, но…
– Но подергаем судьбу за хвост, да? Если она, бестия, этого хочет, мы не испугаемся, кто – кого… Ты это хотел сказать?
– Не совсем… Вам надо наконец закончить все по-мужски.
– Со Стасисом?
– Нет, с Бируте.
– А еще с кем?
– Мне кажется, если закончить с ней, все остальное само собой изменится, и в лучшую сторону.
– Прекрасно, Йонас, мы так и поступим, как ты говоришь. Согласно теории игр, бывают и более невероятные шансы на выигрыш. Заводи кобылу, поехали!.. Помнишь, кто так говорил? «Волга-Волга»…
– Теперь такие комедии не ставят.
– А какие ставят?
– Идейные.
– Хорошо сказано: и смех теперь должен быть идейным, потому что, нахмурившись, жить стало невозможно. А ты не подумал, почему сегодня серьезных людей больше, чем веселых?
– Хмурого труднее обозвать бездельником, чем веселого.
– Если так – поехали.
Прилетит этот хваленый Дмитрий или не прилетит, думал по дороге Моцкус, но жить все равно надо. И Саулюс должен встать на ноги. А потом – все силы на симпозиум… Он вдруг рассмеялся, вспомнив свой разговор с Бируте: мол, меня за границей признали, я ученый!.. А ей-то какая польза, что меня ценят люди, если я ее не оценил? Письмишки, открыточки, посылочки… Нейлоновая шубка… Он снова рассмеялся.
– Йонас, спой ты мне эту песню, которую под градусами затягиваешь.
– Да неудобно.
– Я приказываю.
– Такого вы приказать не можете.
Моцкус наклонился, включил магнитофон, перемотал ленту немного назад и переключил на воспроизведение. Веселый голос Йонаса торжественно сообщил:
«Только на природе эта проклятая хорошо проходит, – и через некоторое время затянул:
Зачем же мне твоя любовь
И писем ожиданье,
Когда я знаю, что с тобой
Не ждет меня свиданье?!»
Шеф еще и еще раз прокрутил это место. Йонасу стало неловко:
– Свинья этот Саулюс.
– Напрасно ты его ругаешь. Премию можно давать за такие простые и выразительные слова. Ведь это логика жизни, вся суть любви и уважения – быть вместе. Легко, брат, любить в письмах.
– А в прошлый раз вы говорили, что это глупая и грубая песня.
– Возможно, Йонялис, возможно… Не отрекаюсь! Искусство – дитя настроения и чувства. Сегодня мне эта песня чертовски подходит. А кроме того, в жизни все необычайно условно. Вот для тебя я – ученый, директор, шеф, а для матери – только заблудшее дитя, не понимающее ее. Она и теперь жалеет меня и даже поучает: дескать, сын, приходит время, когда любознательность превращается в грех. А я ей: мама, ты права. Дьявол всегда стоял на стороне ищущих, а бог поддерживал тех, кто это запрещает. Поэтому нам и пришлось от него отказаться. Тогда она сердится, говорит: я тебе есть не дам… А на самом деле – все новые истины рождаются как ересь, а умирают как старые и отжившие свой век суеверия.
Моцкус рассмеялся, вспомнив, как в тот злополучный день аварии, торопясь в Вильнюс, он вдруг вздумал соблюсти некоторые необходимые формальности и по пути заехал в автоинспекцию. Здесь его никто не знал, никто с ним не раскланивался, он никого не мог похлопать по плечу, пообещать какие-нибудь позарез нужные запчасти для машины. Дежурный оглядел его с головы до ног и равнодушно спросил, не прекращая что-то писать:
– Вам чего?
– Я попал в аварию, точнее – ее виновник.
– Ваши права?
– Я не взял их с собой.
Дежурному стало интересно. Он посмотрел на гостя, как на первобытного человека, подмигнул обступившим его активистам:
– Когда это произошло?
– Утром.
– И только теперь сообщаете?
– Раньше не было времени… Кроме того, требовалось оказать помощь пострадавшему, а теперь я на одолженной машине тороплюсь к своему хорошему приятелю – нейрохирургу.
Лейтенант разглядывал Моцкуса, словно перед ним был редкий, но все еще встречающийся музейный экспонат. И наконец взорвался:
– Вот побегаете за мной годика два, не только время найдется, но и совесть прорежется.
– Не разговаривайте со мной как с преступником, – запротестовал Моцкус.
– А кто же вы такой? Утром сделали аварию, а сейчас который час? Наверно, машину оплакивали?
– Машина – груда металлолома, уважаемый…
– Я для вас не уважаемый, а дежурный!
– Я вас не знаю.
– Посмотри на погоны!
– Так вот, уважаемый лейтенант, – Моцкус все равно не повысил голоса. – Машина – груда железа. Не надо этим меня оскорблять. Возьмите у меня кровь, отправьте к врачу, исследуйте…
– Теперь в этом уже нет смысла. Садитесь и пишите объяснительную.
– Но я очень тороплюсь.
– Никуда вы не уйдете, пока не сделаете то, чего я прошу.
Моцкус долго потел, сочиняя по выданному образцу этот важный документ, потом отдал бумагу дежурному. Тот, пробежав глазами объяснительную, окончательно рассердился:
– Вы издеваетесь надо мной или хотите угодить в медвытрезвитель?
– Как это – издеваюсь? – покраснел и Моцкус. – Я написал все, как было.
– А где произошла авария?
– В Пеледжяй.
– Вот там и объясняйтесь!
Моцкус больше не интересовал лейтенанта. Он занимался своим делом, разговаривал с загорелыми, пропахшими бензином товарищами, ругался на пьяных, силком вытащенных из кабины шоферов и, заметив, что Викторас все еще здесь, прикрикнул и на него:
– Не топчись на месте, яму выстоишь!
После такого объяснения Моцкус сам нашел больницу, взял справку и поехал дальше. Эта встреча протрезвила его и заставила посмотреть на себя со стороны, поэтому теперь, заметив милиционера, останавливающего их, сказал Йонасу:
– Только не связывайся с ним.
Но Милюкасу был нужен сам Моцкус.
– Вы, уважаемый профессор, будто молодой месяц.
Увидев старого приятеля, Викторас хотел дернуть его за руку, обнять, но только вздрогнул, протянул ладонь и, недовольный, начал ворчать:
– Ты что, Костас, мое имя забыл?
– Не забыл, товарищ Викторас, но дело важное.
– А я только сейчас думал, что не может быть ничего важнее порядочности. Опять какую-нибудь букву закона откопал? Не бойся, я все справки собрал и права уже взял.
– Напрасно вы, Викторас, иронизируете. На сей раз я хочу поговорить по душам. И чтобы не было никаких сомнений, сразу предупреждаю: я и тогда не хотел навредить вам, я искренне заблуждался, полагая, что вы из тех людей, которые ради карьеры могут пойти по головам других.
– Не перегибай, – рассердился Моцкус, – но если по душам, то по душам. – Он не спеша вылез из машины, потянулся, немного прошелся по ровному шоссе. – Места-то какие красивые!..
– Красивые, – Милюкасу некогда было любоваться природой.
– А если откровенно, – признался Моцкус, – то и я не раз, обозленный на тебя, болтал где надо и где не надо.
– Эх, да что тут вспоминать… – вздохнул Костас. – Если бы наши недоброжелатели знали, что мы о них думаем, они бы наверняка добавили еще несколько ласковых слов. Ведь так?
– Не возражаю, но если бы ты знал, как мне недоставало тебя с твоим педантизмом и дотошностью, ты бы этого не говорил. После отъезда из Пеледжяй мне многие годы не хватало тебя. Вместе мы бы гору свернули, а теперь?.. Теперь я сижу на вершине этой самой горы, ты – внизу, а сворачивать ее, наверно, будут другие, так сказать, сделают чего мы не успели. Но ладно, скажи, как живешь?
– Да так себе… Я остановил тебя, чтоб предупредить: ваша машина перевернулась потому, что этот вонючка Жолинас открутил гайку, придерживающую рулевую тягу.
– Не может быть! – Викторас сказал эти слова автоматически, будто обвинение было предъявлено ему самому, но, вспомнив, о ком говорит Костас, тут же почувствовал, что все может быть – и еще преступнее, наглее, страшнее. Но сознание его, нормального человека, неспособного на подлость, отказывалось верить в это. – А чем докажешь?
Милюкас рассказал о своих открытиях и догадках и показал увеличенные фотографии ключа и гайки, сделанные в отделе криминалистики.








