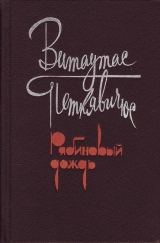
Текст книги "Рябиновый дождь"
Автор книги: Витаутас Петкявичюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
Мятный горошек
Когда Милюкасу сообщили об автоаварии, он сначала обрадовался: «Наконец-то эти ангелочки допрыгались!» – и побыстрее уехал на место происшествия, но, увидев, как выглядит машина, лежащая в кювете, искренне пожалел: «Такие вещи добром не кончаются и просто так не случаются…»
Не спеша, шаг за шагом прошел он весь путь скольжения, оглядел срезанные рябины, тщательно измерил все царапины, через лупу осмотрел оставленные на асфальте следы от протектора и сразу понял: не заснули, не зазевались, ехали нормально, значит, что-то с машиной… Вдруг его внимание привлекла неглубокая квадратная ямка, вырубленная дорожниками и так безответственно оставленная. Ее края были измазаны смолой. Тогда Милюкас еще внимательнее осмотрел машину. Подергав задранные кверху передние колеса и не обнаружив гайки, поддерживающей правую рулевую тягу, снова осмотрел все через лупу. «Отвинчено! Резьба чистая, сверкающая, еще не успела покрыться грязью и пылью, – если бы отвинтилась самопроизвольно, только конец болта был бы чист, а страхующий шплинт был бы срезан… Вот и дырочка еще блестит… Значит, выдран!» – Милюкас еще раз прошел весь путь, проделанный машиной в момент катастрофы, осмотрел рябины: рулевая тяга не могла нигде ни зацепиться, ни удариться.
Поймав, как ему казалось, конец нити, Костас не торопился: все проверял, все осматривал, ибо однажды, столкнувшись с Моцкусом и попав за это в немилость к своему начальству, он не мог позволить себе такую роскошь во второй раз. Сама судьба дала ему возможность реабилитироваться, и теперь он эту возможность так легко не упустит. Да и перед Моцкусом неудобно: ведь фронтовые товарищи!.. А теперь будто незнакомые. Людские беды их поссорили, людские беды и помирят…
А тогда?
Тогда он сам, можно сказать по собственному желанию, сунул пальцы меж косяком и дверью. Был немного зол на Виктораса за беспорядок в управлении… Потом эта его всезнающая и всемогущая жена… Районное начальство… Обстоятельства прижали… И Костас сдался. Но на сей раз этого не будет.
А тогда?
К черту все, что было тогда! Он и теперь зол на себя. Как легко он поверил этой доброжелательной, не скупившейся на обещания женщине и бесконечным звонкам из Вильнюса. Марина была такая непосредственная и предупредительная, выхлопотала для него прекрасную путевку, чтобы подлечить старую рану, а секретарь вызвал его и предупредил: «Ты смотри мне! Она баба влиятельная».
«Вот и смотрю по сей день», – Милюкас горько улыбнулся, набросал подробную схему происшествия и, узнав, откуда ехала машина, тут же помчался к Жолинасу.
Стасис кипятил воду и разливал ее по резиновым грелкам. Эту работу он выполнял внимательно, не спеша, наклоняя в сторону горлышко каждой резиновой грелки и выпуская накопившийся пар. Посмотрев на Жолинаса, Костас понял, что хозяин первым разговор не начнет, поэтому и сам не торопился: прошелся по комнате, осмотрел разные вещи, что-то взял, повертел, с чего-то сдул пыль и снова поставил на место… А когда Стасис стал проявлять нетерпение, упал в глубокое кресло и закрыл глаза.
– Устал чертовски, – сказал он.
– Дома выспался бы, – безразлично бросил Стасис.
– Дела, Жолинас, все дела… К тому же и по тебе здорово соскучился. Скажи, сколько прошло времени, как мы в последний раз виделись?
– Если все подсчитывать – сдуреть можно, – буркнул тот.
– Говорят, Моцкувене опять тебя навещает?.. А почему бы вам не поменяться? Среди артистов такой обмен в моде: ты с моей женой поживи, я – с твоей, пока не надоест, а потом поглядим…
– Почему бы нет! Ты за меня поболей, а я за тебя умру, – не сдавался Стасис. – Только на кой ляд мне этот приют для престарелых?
– Да ладно, – вдруг изменил разговор Милюкас. – У тебя они много выпили?
– Ни капельки. Они даже в комнату не зашли… Хотя шофер был подозрителен, такое впечатление, что накануне под хмельком был, а Моцкус?.. Черт знает, глаза у него всегда странные, всегда немного блестят… А что случилось?
– А что должно было случиться? – Милюкас попытался поймать взгляд собеседника.
– Я просто так, по разговору вижу, – бубнил тот, уткнувшись в грелки.
– А откуда ты знаешь, о чем я спрашиваю?
– Как же не знать! Не так часто меня столь высокие господа навещают, – Стасис снова попытался превратить все в шутку.
– Какие господа? – удивился Милюкас. – Я тебя о рабочих спрашиваю… – Ему наконец удалось поймать встревоженный взгляд Стасиса и заставить его смотреть себе в глаза.
Стасис вздрогнул, лоб покрылся испариной; не в силах выдержать напряжение, он снова занялся грелками. Чуть успокоившись, спросил:
– О каких рабочих?
– О ваших, лесхозовских.
– Ничего не знаю.
– Твой Кантаутас напился, опять на чужой мотоцикл сел и в дерево врезался.
– Так ему и надо. Он меня чуть деревом не зашиб.
– Зачем же тогда ты в него водку вливал?
– Он мне дерево погрузить помог.
– А шоферу Моцкуса много налил?
– Не приставай. Уже говорил и еще раз повторяю: они даже в комнату не заходили.
– А что они здесь делали – машину ремонтировали?
– Нет.
– Странно… Я ключ на дворе нашел.
Стасис встревоженно глянул на полку, на которой был сложен инструмент. Проследив за его взглядом, Милюкас лениво поднялся и неторопливо подошел к ней. Ключ нужного номера лежал сверху, рядом с ним – плоскогубцы… Осмотрев все, положил на место, сел и снова закрыл глаза:
– Говоришь, не ремонтировали?
– Нет, хотя шофер, мне кажется, лазил под машину, когда Моцкус по лесу ходил. Он мальчик старательный.
– Значит, лазил?
– Кажется.
– А точнее?
– Лежал под ней.
– Покажи мне то место, где он свою технику ремонтировал.
Стасис привел его точно на то место: на густой, часто подстригаемой лужайке четко отпечатались следы колес, посередине трава была слегка примята и еще не успела выпрямиться. Но под машину человек залезал не по-шоферски, на животе, а потом неудобно переворачивался… Не было отметин от каблуков; когда переворачивался, стер с днища машины сухую грязь и снова перевернулся на живот… Милюкас нарочно отстал, осмотрел Стасиса. Его куртка со спины была зеленоватой от травы… «А живот должен быть еще зеленее», – подумал он и тут же спросил:
– А где ж ты так живот иззеленил?
Стасис глянул на пряжку ремня, на рубашку и без колебаний ответил:
– Свекольную ботву весь день таскал.
Милюкас отыскал в кармане гайку, незаметно выбросил ее, потом нагнулся, будто только что заметил, и опять положил в карман. Еще раз осмотрев двор, мыча и вполголоса о чем-то рассуждая, вернулся в комнату.
– Так вот, Стасис, плохи наши дела, – сказал Милюкас, не спуская глаз с собеседника.
– Чьи? – встревожился тот.
– Конечно, твои, разве у милиции они когда-нибудь были плохи?
– Тогда чего тянешь? Говори, раз все знаешь.
Ты, гадина, тогда меня не случайно впутал в дела Моцкуса, не случайно бегал за мной и просил защитить семью, а потом первым умыл руки и, написав кучу страшнейших обвинений, свалил все на меня, мол, Милюкас заставил, угрожал!.. Ну, больше такому не бывать, теперь меня на мякине не проведешь; долго тянул, пока заговорил снова:
– Эх, что было – сплыло, только ты, Жолинас, ответь мне по-мужски: почему ты тогда повернул на сто восемьдесят и удрал от меня, словно от фашиста, в кусты?.. Моцкус или его жена тебя заставили?
– Правда, товарищ капитан, – ответил Стасис, – только правда. Мне кажется, и сегодня вас сюда привело желание знать правду. – Вспомнив, как Бируте поила его этим противным лекарством, Жолинас передернулся. – Или скажешь – не так?
– Не будем спорить. Но я, Стасялис, привык защищать правду и от тех, которые слишком уж прилипают, прямо-таки присасываются к ней. Видишь как.
– Вижу. Разглагольствовать о правде куда легче, чем жить по правде. Или скажешь – опять невпопад?
– Нет, впопад: жить по правде – труднее всего.
– Вот и давай, – надулся лесник, – ври дальше, как привык.
– Вижу, сегодня ты уже не пропадешь, – инспектор дразнил собеседника, как ребенка, – и не ложь привела меня сюда – авария.
– Какая авария?
– Уехал Моцкус от тебя и на ровном месте перевернулся. Ему – ничего, здоров как бык, а шофер – готов, на месте.
Стасис долго прилаживал пробку, пока кое-как закрутил грелку, и ляпнул:
– Ведь чаще всего достается тому, кто сидит рядом с шофером…
– Ты, браток, не хуже автоинспектора все знаешь: так и случилось.
– Да ведь не так… – Тут же рассердился: – Чего ты меня ловишь, чего допрашиваешь?.. Ведь шофер сам за рулем сидел.
– Ты хорошо помнишь?
– Слепой я, что ли? Только вот, говорю, счастливчик этот Моцкус.
– А ты?
– А что я? – Стасис вздрогнул, вспотел и снова выкрутился: – Я только яблоками угостил.
– Молись, Стасис, чтобы все было так, как ты говоришь. И во имя этой самой излюбленной тобой правды изложи мне все на бумаге, и поподробнее.
Жолинас долго смотрел на него, потом нехорошо захихикал.
– Опять свои права превышаешь, – сказал он, вспомнив недавнее прошлое. – Никак тебя жизнь не пообломает. Но я не шофер, машины у меня нет, поэтому ты для меня небольшой начальник.
– Значит, отказываешься?
– Ничего я тебе писать не буду. Хочешь – яблок принесу.
– Напишешь, Стасис, и подробненько. Неужели ты допустишь, чтобы я в такое неудобное для тебя время привез сюда следователя?
– Ну ладно. Ты напиши что и как, а я – распишусь, потому что в последнее время на глаза совсем слаб стал, – попытался прикинуться дурачком, будто он разговаривал с Саулюсом.
– Нет, нет… Хоть и слаб, все равно сам писать будешь. Можешь большими, крупными буквами накатать. Бумага у меня есть…
Он подождал, пока Стасис потел над письмом, ради интереса постоял за спиной, потом прочел вслух его исповедь, подошел к полке, взял ключ, плоскогубцы и все положил в планшетку.
– Чтобы тяжелее было, – улыбнулся он, – и чтобы ветер твоих бумаг не унес…
– Не имеешь права! – повысил голос Жолинас.
– Видишь ли, собственные вещи обогащают человека материально, а чужие – духовно, поэтому я и говорю: металл – такая штука, что когда вертишь гайку ключом, на ней и на ключе следы остаются, и если посмотреть в микроскоп, то сразу определишь, кто что затягивал и кто что откручивал. Ну, а теперь ты мне еще ботву покажи, которую силосовал.
Яма, объемом примерно в десять кубометров, была до половины завалена мелко нарубленными свекольными листьями.
«А вдруг я и впрямь превышаю?.. А может, опять виновато мое проклятое воображение?.. Но нет, на сей раз он сам превысил. И мне нетрудно проверить это».
– А почему у тебя рука синяя? – Милюкас снова почувствовал уверенность.
– Веревкой перетянул, – Стасис посмотрел на кисть и, сам не поверив в свою версию, добавил: – Мы тут с шофером Моцкуса неделю или две назад немножко поцапались. Из-за жены.
– Ну уж! Бируте ему в крестные матери годится.
– Возможно, но и он не в жены ее брать приезжал.
«Нет, жаба маринованная, на сей раз я тебе ни одного лишнего слова не скажу, за которое ты мог бы зацепиться. Теперь даже если тебя к стенке поставят, не сможешь оправдаться: Милюкас напугал и силой заставил…»
Инспектор никуда не торопился. Ему все было ясно. Он уже давно не сердился ни на Моцкуса, ни на Жолинаса и старался лишь для успокоения своей зудящей совести. «Дурак был, вот и получил тогда. Этого поганца пожалел, жене Моцкуса поверил, а думал – людям добро делаю. Но, оказывается, невозможно быть справедливым, если забываешь о человечности. Я только букву закона соблюдал, поэтому его тесть, о котором в годы войны легенды ходили, издевался надо мной как над сопляком».
– Если вы так хорошо разбираетесь в автоделе, тогда, может быть, вам следует попроситься в автоинспекцию?.. Руководить районным отделением, мне кажется, вам слишком трудно. Кроме того, в вашем районе нет таксопарка; провизором, проверяющим личные аптечки, я не могу вас назначить, словом, расстанемся по-хорошему.
– Но ваша дочь…
– Странно вы, товарищ Милюкас, жалобы проверяете: сначала люди для вас лично, по заказу, писать начинают, а потом – против вас пишут, бумагу портят… А какую должность в нашем ведомстве занимает моя дочь?
– Не знаю.
– А я знаю: никакой! Она – обыкновенный фельдшер.
– Но мы обязаны проверять жалобы…
– Не обязаны! В данном случае вы были обязаны переслать их по месту жительства Моцкуса. Ведь вы знали, что он коммунист, ученый… Понимаете, ученый! И позволили себе обойтись с ним как с всамделишным преступником. Где ваше чутье?
– Мы на фронте вместе…
– Тем более стервец! – окончательно взбесился комиссар. – Это не по-мужски. У тебя бабы никогда не было?
– Так точно, товарищ комиссар первого ранга.
– Была или нет?
– Нет.
– Предлагаю жениться и немедленно развестись. – Он издевался, его глаза были прищурены, но и сквозь щелки век они смотрели на Милюкаса с такой издевкой, что он по сей день не может забыть об этом. – А в промежутке между свадьбой и разводом предлагаю почитать древнюю индийскую поэзию. Там сказано: возьми невесомость лепестка розы, завораживающий взгляд сирени, чистоту солнечного луча, слезинку росы, непостоянство весеннего ветерка, сверкание надутого павлина, изысканность полета ласточки, добавь к этому твердость алмаза, терпкую сладость меда, жестокость тигра, зной пламени… Все хорошенько перемешай – и получишь женщину. Это тебе на будущее, а теперь напиши объяснительную. Все!
Костас тогда мог съездить к Моцкусу и все выяснить, но амбиция не позволила: как это помчишься к своему бывшему подчиненному? «Жена его большим человеком сделала, пусть сама и справляется с ним», – вот какое мудрое решение созрело тогда в его голове. А оказалось, что Моцкус просто чертовски талантлив. Дай бог каждому благодаря своему таланту и поту столь высоко подняться. А все остальное – болтовня, злые языки поработали. Поэтому смотри, Костукас, чтобы тебе еще раз не пришлось проглотить коктейль, замешенный на древнеиндийской поэзии. Хватит одной ошибки.
Приложив руку к фуражке, он простился со Стасисом и вернулся домой. Потом заехал в больницу, осмотрел одежду, обувь Саулюса и очень пожалел, что не застал Моцкуса.
«А может, и хорошо? На сей раз мне и впрямь некуда торопиться: и звание моей должности соответствует, и до пенсии не так уж много осталось, и жена есть, а быть человеком – такую должность даже за величайшие заслуги никто не даст, о ней надо побеспокоиться самому».
Во время аварии Моцкус ни на миг не потерял самообладания. Выбравшись из опрокинувшейся машины, он тут же бросился к Саулюсу: приводил его в чувство, звал по имени, хлопал по щекам и, когда тот пришел в себя, постелил на траве свой плащ, уложил его, а сам принялся останавливать грузовики, которые, просигналив на полной скорости, проносились мимо – куда-то очень торопились. Тогда он притащил несколько сбитых рябин, забаррикадировал ими проезжую часть дороги и снова стал ждать. Наконец показался грузовик, подъехал и остановился.
– Я зерно везу! – раскричался шофер. – Разве не видишь, что я от колонны отстаю?
– Тем лучше, потому что у моего попутчика, кажется, поврежден позвоночник… А ты еще успеешь, намитингуешься.
– Я хлеб государству везу, мудрец!
– Зерно – почти как песок, удобнее будет транспортировать, – ничего не хотел знать Моцкус.
– Ты дурак какой-то или антисоветчик?! – рассердился шофер.
Наконец и у Моцкуса лопнуло терпение:
– Знаешь, парень, кончай и не прикрывай свою скотскую натуру ни государственными делами, ни политикой. Вылезай поживей из машины и помоги мне, если не хочешь, чтобы тебе на казенной тачке хлеб возили… Живо! – Когда требовалось, Моцкус становился человеком действия, и поэтому все, что мешало этому действию, для него переставало существовать. Чем труднее складывались обстоятельства, тем требовательнее становился он к себе, тем отчетливее и трезвее работал его мозг.
Увидев, что Саулюс в очень тяжелом состоянии, шофер застыдился. Он подогнал машину к канаве, въехал в нее задними колесами, чтобы не поднимать ноги раненого выше головы, потом осторожно тронулся с места. Моцкус ехал в кузове на закрытом брезентом зерне, смачивал лицо Саулюса водой из фляги и все время повторял про себя: «Он не должен умереть, черт бы меня побрал, не должен… Он должен жить, без всяких оговорок, без всякого сомнения, пусть мне трижды придется лечь в могилу…»
– Кто придумал так везти его? – осмотрев Саулюса, спросил хирург.
Водитель снова испугался и, покраснев, глянул на Моцкуса.
– Я, – ответил Викторас. – Другого транспорта на дороге не было.
– Мне кажется, вам повезло, – промычал доктор. – Это единственный способ без «скорой» привезти человека с таким ранением.
– Мы и воспользовались им, доктор, – серьезно проговорил Викторас и подумал, что сама судьба подбросила ему эту единственную возможность. – Уважаемый, – он радовался, что ничего не упустил, – в любом случае раненый должен выжить. Если надо будет, я всю республику подниму на ноги.
Доктор посмотрел на него, скептически улыбнулся, хотел что-то сказать, но сдержался и поблагодарил:
– Спасибо, мне кажется, в данном случае и мы достаточно компетентны, конечно, если после шока не будет осложнений.
Но Моцкус не вытерпел. Покончив со всякими формальностями и избавившись от опеки медиков, он тут же позвонил районному начальству, попросил машину и умчался в Вильнюс. Даже не заглянув домой, поехал в клинику, которой руководил хороший приятель, ввалился в его кабинет и уже с порога обрадовал:
– Алексас, тебе придется немедленно ехать со мной в одну районную больницу.
– Если придется, поедем, – ответил приятель, – но ты давно не приходил ко мне таким взъерошенным…
– Ведь я никогда не беспокоил тебя по пустякам.
– Знаю, поэтому и не расспрашиваю, расскажешь по дороге. А можно мне позвонить жене?
– Звони, я сам извинюсь перед твоей женушкой и все ей объясню.
– На этот раз тебе придется объясняться с моим внуком, – рассмеялся Алексас. – Я пообещал ему гостинец и не могу обмануть, ведь он у нас такой старик растет, что слов нет. Однажды приходит ко мне и говорит:
«Дедушка, я буду великаном».
«Но ты, Юргялис, еще совсем маленький, – возражаю я, – подрасти надо».
«Ну и что? – отвечает он. – Я буду самым маленьким великаном на свете».
Что ты на это скажешь? Ведь есть смысл в таком ответе! И по-моему, куда лучше быть самым маленьким великаном, чем самой большой мелюзгой.
Викторас не слышал, о чем говорит его старый университетский товарищ. Ему хотелось тут же до мельчайших подробностей разузнать возможные последствия беды, он думал только об одном: выздоровеет Саулюс или нет? Ему нужна была правда, какой бы горькой она ни была. Он был ученым, представителем точной науки, поэтому ненавидел пустые разговоры и сам старался не произносить затасканных апостольских фраз вроде: будем надеяться, не стоит терять надежду, бывает еще хуже…
– Что посеет в своей жизни человек, то и пожнет, – ворчал он, оставшись один. – Так должно было случиться, так обязательно должно было случиться, потому что в последнее время уж очень праздно я жил… – Он еще не успел подумать о том, что за совершенную аварию его могут наказать, а если шофер умрет, то порядком пострадает и его репутация. Моцкусу было отчаянно жаль Саулюса, кроме того, это был единственно близкий человек, связывающий его с молодостью и прошлым. Этот парень нужен был Моцкусу живой, потому что, если Саулюс погибнет, Викторас – он чувствовал это – уже не сможет быть самим собой. Его совести вполне хватало и того, что погиб отец Саулюса.
Он уже почти забыл то событие, точнее, похоронил вместе с его свидетелями, но неожиданно встретил в гараже юного Бутвиласа…
…В Пеледжяй их называли близнецами – Наполеонаса Бутвиласа и его, Виктораса Моцкуса. Впервые повстречавшись в волости, они остановились, удивленные, и даже руки друг другу не посмели протянуть. Первым опомнился Бутвилас.
– Наполеонас, – подал руку.
– Петр Первый, – ответил Моцкус, думая, что над ним просто насмехаются, и сильно встряхнул руку Бутвиласа.
Потом они оба от души посмеялись. Викторас снял форменную фуражку, надел ее на голову нового знакомого, отошел на несколько шагов, словно художник, оценивающий свою работу, и добавил:
– Обнимемся, или какого черта? – Они похлопали друг друга по спине, и Моцкус пошутил: – Ты хорошенько порасспрашивай, не заглядывал ли, случаем, твой отец к моей маме?
Бутвилас рассмеялся:
– Я – в маму… Наверно, это уж грех вашего папаши. Но если серьезно – не так часто встречаешься в жизни с самим собой.
– Это прекрасно.
– А может, и не очень… Люди говорят: когда рождаются двое похожих мальчиков, где-то начинается война. Словом, одному заранее бесплатно заказывается царствие небесное.
– Меня это не касается, я молнией меченный, а ты не болтай – еще болезнь на себя накличешь.
– Я не болтаю, только в каком-то романе читал о том, что случилось, когда у французского короля родились близнецы, похожие друг на дружку как две капли воды.
– Мы не короли, нам и под одной фуражкой места хватит.
– Может быть, но как тесно стало людям на нашей землице.
Потом они подружились. Напалис Бутвилас работал председателем волостного Совета. Он был старательный, хороший парень, только не хватало грамоты: не успел, война помешала. Но сообразительности у него было достаточно. Он отпустил такие же, как у Виктораса, пшеничные, просвечивающие усы, стал носить офицерскую фуражку, завел себе трубку и даже немножко научился жемайтийскому диалекту.
– Зачем все это? – не понимал его Викторас.
– Хочу судьбу обмануть, чтобы она не разобралась, кто из нас меченый, а кто – нет, – пошутил тот, но Моцкус снова не понял его.
– Кончай ты с этой своей судьбой, богомолки ее выдумали.
– Неужели хочешь, чтоб я тебе, как девке, сказал: люблю, вот и подражаю.
«Любил… По-своему. Как странно иногда мужчина любит мужчину, – подумал Викторас, вспомнив товарища. – Он – меня, я – его, но оба мы пугались этого слова, боялись этого чувства, мол, не по-мужски, смешно. Теперь я люблю Саулюса и скрываю. Видишь ли, несерьезно: директор института любит шофера. Человек еще набит разными глупостями. Пока он молод, пока умеет и может любить – стыдится своего чувства, и только когда покатится под горку, все становится проще. Когда один за другим выпадают зубы, когда их заменяет металл, когда появляются боль и морщины, когда начинает дряхлеть тело, тогда, кажется, любил бы да любил, лишь бы и тебя любили. В почтенном возрасте только мысли и опыт гонят человека вперед, а тело уже сопротивляется этому. И только мозг, только он бодрствует с рождения и до смерти, накапливает всяческую информацию, именуемую памятью. Ведь памятью живо и наше прошлое, и настоящее, и будущее, ибо там, где перестает пульсировать живая человеческая мысль, начинается, как говорит поэт, медленное умирание».
Напалис тоже писал стихи. Оба они тогда были молодые, по-юношески озорные, немного скучали по обыкновенному, не связанному ни с каким риском приключению, скучали по женской ласке. Напалис лишь однажды видел свою нареченную. Потанцевал, проводил и всю дорогу собирался поцеловать, но у калитки развернулся и пошел домой, решив, что комсомольцы так не поступают. Поэтому и возникло у него странное желание испытать бдительность своей избранницы. Однажды, поменявшись одеждой, Напалис и Викторас постучались в дверь библиотеки, где работала Дануте.
Она приняла их, скрыв удивление, угостила и, не зная, как вести себя, осторожно спросила:
– Значит, брат из армии пришел?
– Притащился, – едва сдерживая смех, ответил Викторас. – Теперь мне из-за его погон житья нет: куда ни пойдем, все девки только на него и пялятся… Хоть плачь.
Дануте придвинулась к Моцкусу, прильнула к нему, давая понять, что для нее военные – тьфу, ничто, а выпив рюмочку, совсем осмелела:
– Для меня эти погоны – пустое место… – И целый вечер сидела, уставившись на Моцкуса, накладывала ему в тарелку кусочки повкуснее; запустив патефон, приглашала на танец, заранее предупреждая хмурого Бутвиласа, что это «белый танец».
Вначале Наполеонас еще пытался шутить, но потом раскис и наконец не выдержал: расстроившись, поднялся из-за стола и тихо ушел домой. Викторас догнал его и, схватив за плечо, потребовал объяснений:
– Что я тебе сделал?
– Если она тебе нравится, я мешать не стану, – упавшим голосом сказал Бутвилас.
– Нравится! – ответил Викторас. – А тебе?
– Если тебе нравится, то мне уже не может нравиться. – И пошутил сквозь слезы: – Видно, придется нам двойняшек поискать.
– А это ты видел? – Моцкус поднес к его носу кулак. – Иди и сейчас же извинись.
– Да удобно ли?
– Потом поздно будет.
– Тогда давай переоденемся… Ведь она не любит военных.
– Не согласен: набедокурил как задрипанный гусар, вот теперь и расхлебывай сам, пока она кочергу в руки не взяла.
Когда они вернулись, Напалис снова замолчал, будто ему рот зашили, а Моцкус тоже ждал и не вмешивался. Спасла их сама Дана:
– Ну, поигрались, и хватит. Тебе, Напалюкас, униформа не идет.
Бутвилас выпучил глаза:
– Но ведь ты…
– Все я да я… А ты зачем дразнишься?
И они танцевали до самого утра, пока сонный Викторас, насилуя патефон, не сорвал пружину.
– Викторас, ты для меня больше чем брат, – по пути домой заявил Напалис, но Моцкус промолчал.
Зато сколько было разговоров и шуток на свадьбе! Председатель волостного Совета Наполеонас Бутвилас сам поставил печать на временные удостоверения, сам себя «расписал» и, принимая гостей, угощал их ячменным пивом собственного изготовления.
Когда Моцкуса ранило в руку и он с пулеметом на шее вывалился из лодки, Напалис бросился вслед за ним и сам чуть не захлебнулся, пока вытаскивал Виктораса на берег.
– Мы так не договаривались, – шутил он, выкручивая одежду, – это единственное место, откуда даже счастливчики не возвращаются.
Викторас сидел как пьяный, он еще не пришел в себя после шока и не понимал, почему он мокрый, почему его ноги лежат в воде, почему перед ним прыгает этот голый человек и почему, когда вокруг гремят выстрелы, он играет с ним будто с маленьким? И лишь когда приятель, покончив со своей одеждой, взялся за его руку, Моцкус стал морщиться от невыносимой боли. Эта пронизывающая боль, при воспоминании о которой и теперь заныли зубы, и помогла ему воскресить подробности несчастья.
– Ты говорил правду, Напалис: слишком тесно на нашей землице двум одинаковым людям, но разным – тем более. Спасибо, что вытащил.
– А если бы не вытащил? – Глаза Напалиса смеялись.
– Другой бы вытащил.
– Да стоит ли обманывать себя? Ведь других рядом не было.
– Тогда ты еще раз прав: где-нибудь из-за нас уже вспыхнула война.
– И ты нисколько не волнуешься, не боишься, не переживаешь?
– Из-за чего? – удивился Моцкус.
– Из-за того, что случилось, – поразился Бутвилас.
– А какой толк? Слава богу, что этим все кончилось.
– С таким характером можно еще сто лет воевать, – вдруг переменился в лице Напалис. – А я ненавижу эту дрянь, меня от нее не только мутит… Будь моя воля, всех вояк в Сахару выслал бы, заставил бы воду горстями носить и песок поливать, а тут ради тебя самому черту в пасть полез.
– Раз уж полез, то не попрекай.
– Я не потому. Глядя на тебя, и я постепенно становлюсь таким же янычаром.
– Ну, знаешь ли…
– Помолчи! – Только окрик Напалиса помог Моцкусу понять, что он был на волоске от гибели. Был человек, и нет его: ни тебе мучиться, ни размышлять, ни чувствовать… Воды озера еще долго обмывали бы его косточки, а в ветреный день что-нибудь да выкатили бы на берег. Вот тогда Моцкус и дал себе клятву: хватит! Если уж живешь на земле, надо какой-то след на ней оставить.
– Не сердись так, – успокаивал он Напалиса, – а я даже благодарен судьбе за то, что хоть чем-то могу быть похож на тебя…
Вошел Алексас.
– Я готов, – сказал он.
Они сели в машину и уехали.
– Теперь я слушаю тебя, – напомнил приятель.
– Короче говоря, я сделал аварию, и по моей вине пострадал человек. А если у тебя достаточно терпения, выслушай мою историю. Он мне почти сын. Его отца застрелили возле самого дома, когда он шел по ржаному полю. Пока мы прибежали, его жена чуть не сошла с ума, а к вечеру еще и разродилась… Я перепугался, послал за доктором, но старый народный защитник пристыдил меня:
«Лишить человека жизни очень легко: прицелился, нажал на курок… Но помочь ему явиться на свет – тут великое страдание и терпение требуется. Привыкай, лейтенант, неужели всю жизнь только и будешь пулять вокруг себя?..»
Я уже ненавидел свою работу, поэтому и рассердился:
«Тогда почему вы, такие набожные, такие святоши, в отряд залезли? – спросил я. – Может, пули, выпущенные вами, ячменным зерном в пашню падают или, как пчелы, мед несут?»
«Видишь ли, нас горести, беды, несчастья прижали, а ты, так сказать, по расчету… И тебя эта служба кормит, и твоих детей она, видать, будет кормить, поэтому не гневайся, теперь я буду командовать…»
Он разорвал простыню, велел согреть воду и подержать мечущуюся роженицу. Я ухаживал за этой будущей мамочкой, танцевал с ней, и вдруг, сам понимаешь… Честное слово, я ждал чего-то страшного, необыкновенного зрелища, может быть, даже чуда, а ребенок как-то неожиданно вывалился, брызнула кровь, и он закричал на руках у этого человека. Мне показалось, что он сам убежал, высвободился из материнского чрева… И в ту же минуту младенец стал мне таким милым, таким дорогим и близким, что я решил усыновить его. Понимаешь, с появлением этого малыша вся жизнь для меня как бы подорожала и стала вроде бы лучше. Тогда я окончательно понял: с милицией покончено, буду учиться.
– Но ведь это еще не все, – откликнулся Алексас.
– Почему? – Викторас поднял брови.
– Этому, как ты говоришь, подорожанию жизни, мне кажется, одинаково способствовали и рождение ребенка и смерть его отца.
– Ты прав.
– Ты, Викторас, все еще винишь себя в смерти Напалиса?
– Да.
– Не завидую.
– Завидовать на самом деле нечему. Только ты не подумай, что я непосредственно приложил руки к этому несчастью. Я в другом смысле виноват. Ведь есть такие люди: посмотришь им в глаза, и вдруг тебе кажется, что ты во всем виноват.
– Таких мне не доводилось встречать. Но что есть люди, которым я не могу соврать, это верно. Иногда специально собираюсь, но едва встречу – все забываю…
– Он тоже был какой-то необыкновенный, словно мое второе «я», то, которое получше, которое сидит внутри меня.
– Интересно.
– Пойми, на меня тогда словно с неба свалилась эта возможность уехать учиться, и, как ты знаешь, я ухватился за нее без всяких сомнений. Самым спешным образом передал дела другому, сложил чемодан, и все. Правда, собрались с друзьями за бутылочкой посидеть. Он капли в рот не взял, молчал весь вечер, а потом вдруг спросил:
«Уезжаешь?»
«Как видишь», – ответил я, бесконечно веселый, хотя в душе все еще дрожал и боялся, как бы начальство не передумало.








