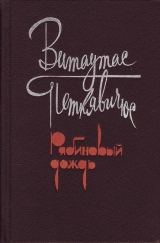
Текст книги "Рябиновый дождь"
Автор книги: Витаутас Петкявичюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
– Грасите, я страшно соскучился по чему-нибудь острому, с лучком и перцем, – попросил он, все сильнее ероша ее волосы. – Селедочки или сухого вина…
– Я компот привезла.
– Нет, малышка, лучше водки, если можешь.
– Они не разрешат.
– А ты закрась чем-нибудь, налей в банку из-под компота и крышкой закрой. Когда-то я свою маму так обманывал.
И снова она заплакала. Только на сей раз тихо, без оханья, и даже не заметила, как на цыпочках вышли из палаты оба ее спутника. Муж гладил дрожащие пальцы Грасе, вытирал ее щеки, а перед ее глазами проплывали самые прекрасные мгновения их совместной жизни, когда они оставались только вдвоем: от того пышного, выстланного диким клевером и одуванчиками их свадебного ложа до последнего бурного сближения, когда, усталая, немного растерянная и удивленная, она спросила: «Саулюс, что это с тобой?..» И всего этого больше не будет! В голове перемешались воспоминания о приятном прошлом, ужас будущего и немного грустное настоящее. Стоящая на коленях Грасе, выплакавшись, будто уснула у него на груди, а когда очнулась, стала оправдываться, глядя на него чуть стыдливыми, но чистыми и наполненными болью глазами:
– Прости, я снова видела, как ты нес меня на руках…
– А что тут прощать, – он старался быть снисходительным и мужественным, – что было хорошего в нашей жизни, то и вспоминаем…
Благодарная, она несколько раз поцеловала Саулюса, потом случайно глянула на часы и испугалась.
– О господи, уже поздно! – Поспешно собралась и убежала со словами: – Моцкус заждется. Лишь бы на работу не опоздать. Пока тебя здесь будут держать, Саулюкас, я возьму отпуск за свой счет…
– Хорошо, я согласен, – помахал ей рукой, как всегда, когда провожал на фабрику, а сам, распаляя себя, думал, что второго такого свидания не будет, что другое уже пройдет куда прохладнее, потом все превратится в привычку, а еще позже – в горькую и неприятную обязанность. Но это уже не имело значения.
Немного погодя протянул руку к звонку и терпеливо ждал, пока прибежит сестра. Она была молоденькая и хрупкая, еще почти ребенок, бледная, с проступающей голубоватой жилкой на виске. «С этой не договорюсь», – подумал он, глядя на белые, почти прозрачные руки и изнуренное болезнями личико сестры.
– Позовите Бируте, – закончил он свои наблюдения.
– Ее нет.
– А где она?
– Я не знаю. Мне кажется, она была здесь временно, пока я болела. Все штаты теперь заполнены.
Штаты, кадры, мероприятия, точки, галочки, единицы – а где же люди? Ему хотелось спорить и ругаться, хотелось обидеть ее, рассорить всех между собой: знакомых и незнакомых, своих и чужих, хотелось взбудоражить их заплесневелые повседневные мысли, а потом во все горло заорать: «А где же люди?!»
– Тебе, малышка, лечиться надо, – подластился к сестре.
– Знаю.
– А где живет Бируте?
– Не знаю.
– Собой занята?
Девушка покраснела, опустила глаза:
– Где-то у своей подруги, у нашей старшей медсестры, но они со мной почти не общаются.
– А ты не можешь пригласить ее?
– Не знаю… Если разрешат.
Нет, девочка, мы с тобой не столкуемся, решил и громко, чтобы все слышали, уколол:
– Тогда зачем здесь работаешь, если ничего не знаешь?
И снова разговаривал сам с собой, снова ждал, как тогда, в пустой, пропахшей рябиной комнате, и снова гадал: неужели не придет? Хотя бы попрощаться. Неужели ей все равно, кто ее друзья и кто враги?..
Милюкас вошел в палату добрый, подтянутый, в кожаной куртке, ладно облегавшей его фигуру, наведя лоск на сапоги, выпив кофе и почистив зубы, словом, сделав все, чтобы парень не принял его ни за кого другого, кроме как за милиционера при исполнении служебных обязанностей.
– Здравствуй, герой дня, – осторожно прикоснулся пальцем к здоровому локтю Саулюса и поинтересовался: – Говорить можешь?
– Нет, – пошутил больной, – падая, язык откусил. Но если дашь закурить, буду болтать до полуночи, – обрадовался, увидев, как смутился милиционер. – Я понимаю, что здесь нельзя, но если вы прикажете, нашу койку придвинут к окну. Ну как?
– Я попытаюсь, но из принципа не поддерживаю твоей глупой привычки всегда и всем перечить, – поправил сползающий с плеч халат и на цыпочках куда-то вышел.
А когда вернулся, в палате даже светлее стало.
– Разрешают, – улыбался, счастливый. – В особых случаях они могут сделать исключение. Даже указание такое есть. – Изображал дурачка и толкал койки. Потом, вспотевший, присел и заявил: – Знаешь ли ты, что ваша авария произошла в начале месячника за безопасность движения?
«В начале моей жизни», – хотел поправить его Саулюс, но сдержался. Сильнее, чем глупость, он ненавидел сочувствие.
– А какая разница? – спросил, разочаровавшись в собеседнике, и дрожащими пальцами прикурил сигарету.
– Большая, дружище, очень даже большая, – встревожившись, стал объяснять Милюкас. – Общественность к работе подключена, корреспонденты на ноги подняты, комсомол активизирован, значит, и ответственность больше. Будем разбираться по всем параграфам. Уже установлено: с вечера ты был выпившим, а Моцкус – в рот не брал. Ехали со значительным превышением скорости. – Он знал, что иным способом ему ничего не добиться от этого упрямого и хитрого парня. Откровенно говоря, ему ничего и не требовалось. Все было ясно: вмешался парень в старый спор двух зубров и так глупо угодил им на рога, и такой молодой!.. Он смотрел на Саулюса и видел себя. «Так завершаются все слишком активные поиски правды», – хотел он добавить, но промолчал, потому что в последнее мгновение вспомнилась глупая, от случайных людей услышанная сплетня: «А может, на самом деле он – сын Моцкуса?.. Ведь чертовски похож…» Но Саулюс прервал его мысли:
– А что еще вы знаете? – Изголодавшись, тянул вторую сигарету, пускал узкую струю дыма в окно и, снисходительно улыбаясь, думал, что никто на свете уже не в силах ни увеличить, ни уменьшить наказание, выпавшее на его долю, что пришло время рассчитаться даже за то, чего он еще не успел сделать. И эта разница в положении вдруг так возвысила его над человеком, листающим бумажки, что Саулюс решил больше не мелочиться: – Скажите, что вообще вы знаете о людях?
– Очень много, мой милый, даже слишком много… Когда человек перестает быть первым, только тогда он начинает понимать, что он уже не десятый и даже не тридцатый… Или, скажем, что он сам есть та правда, которую он все время искал и не мог найти… Но это уже не входит в мои обязанности, – сказал и подумал: «Парень ты, парень, если бы сегодня ты знал хотя бы столько, сколько знаю я, не петушился бы так». А потом преувеличенно деловым тоном добавил: – С правой рулевой тяги скручена или сама открутилась гайка. Вот почему вы на повороте слетели с насыпи.
– Я так и думал, – Саулюс вздохнул с облегчением и, не скрывая радости, спросил: – Значит, виновата машина?
– С выводами торопиться не будем. Все посмотрим, проверим, а не хватит фактов – с людьми побеседуем, вас с Моцкусом допросим, и виновный сам найдется… Да, а ты машину на дворе у Жолинаса ремонтировал? Залезал под нее?
– Нет.
– Хорошо помнишь?
– У нас в гараже механики что надо. Я только на шоссе останавливался, когда колесо спустило. А почему вы спрашиваете?
– А потому, что виноватым может оказаться третий, которого в машине даже не было.
Саулюсу стало интересно. «Странно, – рассуждал он, – я только что списал себя и помирился со страшной иронией судьбы, а этот человек, отыскавший скрученную гайку, еще хочет что-то изменить», – и усилия Милюкаса показались ему более чем смешными.
– А сколько за это полагается? – озорно поинтересовался, выпустив изо рта цепочку правильных колечек дыма.
– Как кому, – милиционер все еще не хотел раскрывать свои карты. – До пяти. Тяжелые телесные повреждения, месячник безопасности движения, превышение скорости, технически неисправная машина, похмелье… – В этой роли Милюкас чувствовал себя прекрасно и уже не сомневался в обоснованности своих предположений, только ему было немножко грустно, что в поисках истины иногда приходится так глупо притворяться.
– Вы страшно могущественный.
– Только изредка, – скромничал инспектор.
– А мне доктора так много не обещают: полгода, ну, годик, а потом – пролежни, отмирание мускулов и еще какая-то чертовщина.
– Мы все знаем, – он шлепнул по планшету, – да и некоторые вещественные доказательства имеем. Вы с Жолинасом ссорились?
– Никогда.
– А из-за чего поцапались?
– Это наше дело, – покраснел Саулюс.
– Может быть, не спорю, но ваша история поучительна.
– Ну и какого черта пугаешь, раз все знаешь? – На дальнейшую игру у Саулюса уже не было ни сил, ни желания.
Мог бы и повежливее, снова подумал Милюкас, но вслух сказал:
– Из своей беды выкручивайся как сумеешь, но мне ты должен помочь. Я все измерил, взвесил и осмыслил. Не думай, за инфаркт Моцкуса я не сержусь. Лихо ты меня тогда надул. По-мужски! Но над твоей головой совсем другая тучка плавает, которой ты и во сне не видал.
– Говорите же наконец и не играйте на нервах!
– Потерпи, когда закончу дело – все узнаешь. А может, и раньше.
– Ого! – удивился Саулюс. – Не многовато ли за две сигареты?
– Вот тебе и ого! – Милюкас нагнулся над кроватью, пристально посмотрел Саулюсу в глаза и вдруг спросил: – А за рулем кто сидел?
– А какая разница? – Парень хотел разобраться, что кроется за этим вопросом.
– Видишь ли, после такой аварии невиноватых быть не может, – несколько перегнул Милюкас. – И если я стараюсь, значит, так надо.
– Знаешь, господин Наполеон, ты меня не посадишь и не поставишь… Неужели тебе будет приятно написать в отчете: уложен в тюрьму?
– Гражданин Бутвилас, я при исполнении служебных обязанностей! – Милюкасу тоже нравилось балансировать на этой грани. – Кроме того, я грамотный человек и читаю статьи твоего шефа. Он пишет, что свое уважение к другим мы непроизвольно измеряем тем, насколько эти люди прислушиваются к нашему мнению, и ненавидим тех, на которых мы не имеем такого влияния, так сказать, тех, которые живут собственным умом… А? Хитро сказано. Ты возишь его и не знаешь таких простых вещей. Ведь трудно воевать с подлецом тем оружием, которое он сам тебе подсунул, а искать правду, вооружившись истинами другого человека, – это даже опасно… Твой начальник – мудрец, чего я не могу сказать о тебе…
Но и на сей раз Саулюс не понял его.
– Я думал, что вы человек, а вы компьютер, нашпигованный определенной информацией, – горячился он, так как считал, что в таком положении ему дозволено все, что беда, как и старость, принуждает человека говорить только то, о чем он думает и что ему надоело до мозга костей.
– Как ты смеешь?.. – Инспектор тоже забылся, потому что после таких слов у него пропало всякое желание притворяться и допрашивать, но он сдерживался.
– Не смею, но обязан напомнить: если привык рыть людям яму, то хоть приличный похоронный марш разучи. Ведь мои деньки уже сосчитаны.
«Заигрался я, – Милюкас немножко испугался, – но ничего, теперь все пойдет как по маслу», – постучал карандашом по белым перламутровым зубам и подчеркнуто официально сказал:
– Давай не будем считать деньки, еще не ясно, кто из нас первым откинет копыта… Лучше скажи: кто сидел за рулем?
– Я, – Саулюс наконец-то сообразил, что этот человек не позволит ему ни подняться над облаками, ни спрятаться под землей.
– Каким же образом вы поменялись местами? Во время аварии тебя придавило правой дверцей машины. И пятна крови там.
– Когда опрокидывались.
– А чем докажешь?
– Я, когда тормозил, ногу вывихнул.
– Так я и думал, врете, будто заранее сговорились… – Довольный, Милюкас поднялся, пересчитал сигареты в пачке, половину положил рядом с Саулюсом, а остальные сунул в карман. – Меня, старого волка, и на сей раз опыт не подвел: если уж Моцкус берет всю вину на себя, значит, что-то не так. Дружков своим авторитетом покрывает. И еще: где ты поранил руку?
– Во время аварии.
– Правильно, на домкрате я никаких следов не обнаружил, – согласился Милюкас. – Значит, вы, ребята, не в больницу торопились. Это оправдание тоже отпадает. Все ниточки к Жолинасу тянутся, – на сей раз он не контролировал себя. – А может, ты мне честно скажешь, что заставило тебя во второй раз так безумно торопиться? Почему вы гоняете то днем, то ночью и только по одному маршруту: Вильнюс – Пеледжяй?
– Вон! – сорвался Саулюс. – Пошел вон! – запустил бутылочкой с лекарствами и совсем неожиданно выкрикнул то, о чем прежде не думал: – Никто и никогда не запретит человеку жертвовать собой во имя других, слышишь? Никто!.. Если он сам этого хочет… – В этих словах таились и надежда, и попытка оправдаться, и идея, которая что-то обещала ему, поэтому и ложь, сказанная милиционеру, казалась ему священной.
Но Милюкасу нужна была правда, и только правда.
– Некрасиво, товарищ больной, оскорблять человека, который не может ответить тем же. – Костас постоял, собирая всю волю, потом наклонился, поднял с пола бутылочку и передал ее подбежавшей сестре. – Герой… – Забыв о своей роли, он начал ругаться, но вдруг ему стало так жалко Саулюса, что даже в глазах потемнело. Ему захотелось еще раз подойти к койке и дружески сказать: дурачок, тебя этот притворщик погубил, а ты дуешься на меня. Но он еще ничего не доказал и был обязан молчать, поэтому закончил по-казенному: – По закону жить надо, тогда не придется жертвовать собой во имя других. – Взмахом руки успокоил сбежавшийся медперсонал и добавил: – Знаем мы таких, обманывают советские органы и еще личностей изображают! – Ушел прямой как тростник и грозный как буря.
«Не умеет!.. Или не может? – Саулюс никого не подпускал к себе. – Я не хотел врать. Он сам заставил меня. Ведь приехал, уверенный, что виноват Моцкус. Ему не правда – ему союзники нужны. Каков пророк! Танцуйте под одну дудочку – и будете спасены. Живите, как отшельники в джунглях, друг с другом не встречайтесь, друг другу не помогайте, – ярость остывала, и вместе с ней исчезала острота мысли. Потом это недоразумение показалось до смешного ничтожным. И снова собственное несчастье заслонило все остальное: – Неужели конец? Почему же эта безносая выбрала именно меня? Почему не его, не Милюкаса, не какого-нибудь отжившего век старика, которому уже все надоело, почему меня? Я еще не успел ничего сделать, ничего не видел?..» Метался всю ночь напролет, и, когда утром его навестил Моцкус, сопровождаемый Йонасом, Саулюс был равнодушный, усталый, словно неизлечимый больной.
– Так вот, – Йонас стыдился своего здоровья и страдал, что не может курить, – вот так-то…
Бируте при них не появилась.
– Послушай, Саулюс, что ты этому Милюкасу намолол? – Шеф наконец нашел зацепку.
– Оставим его в покое, – Саулюс махнул рукой. – Для этой проклятой истории хватит и меня одного. Будьте так добры, не пытайтесь что-нибудь изменить.
Моцкус мысленно подбирал слова поласковее, но так и не сумел найти.
– Ты не сердись, – он хотел развенчать идею Саулюса. – За долгие годы я привык называть вещи своими именами, поэтому позволь мне и сегодня остаться самим собой. Самопожертвование, которое никому не нужно, я называю самоубийством.
– Товарищ Моцкус! – предостерег Йонас, увидев, как Саулюс стиснул зубы и отвернулся к окну, но шеф разогнался, и теперь его трудно было остановить:
– Пусть не ищет правды, раз у него своей собственной нет. Это пустое занятие. Среди чужих можно только проверить свою правду.
«То же самое мне твердил Милюкас!» – хотел крикнуть Саулюс, но только махнул рукой.
– Не обворовывайте человека, – заговорил Йонас. – И не просите бога, чтобы человек жил только своей правдой.
– Не вмешивайся, – одернул его Моцкус. – Ничто так не обворовывает человека, как жалость и снисхождение, – он не умел обходиться без обобщений. – Я прекрасно его понимаю. Иногда в человеке накапливается избыток доброты, и он начинает раздавать ее другим как милостыню: вот поглядите, какой я хороший и прекрасный. Это никуда не годится, Саулюкас. Только на первый взгляд кажется, что жалостливый дает, а на деле – отнимает. Жалей, да знай меру, может быть, даже больше, чем в злости… – Ему понравилась эта мысль, он полез было за блокнотом, чтобы записать ее, но устыдился.
– Дай такому Милюкасу волю, он и к висельнику параграф подберет, – еще пытался атаковать Йонас.
– И правильно сделает, – ни на шаг не отступал Моцкус.
– Тогда почему вы жалели Стасиса, почему бегали за ним, когда он вас уже к ногтю прижал? – не вытерпел Саулюс. – Вы же сами мне говорили…
– Я не о снисхождении молил, я лишь требовал от него честности.
– Поэтому и проиграли. – Йонас встал. – Ведь это ребячество, товарищ Моцкус, просить негодяя, чтобы он честно выполнял свою работу. Я придерживаюсь другого правила: торопись делать людям добро. Честному – кусок хлеба, подлецу – по зубам. И одному поможешь, и другого не испортишь, потому что только добрый понимает добро, злой же ценит только зло.
– Я говорил о людях, а не о подлецах, – обиделся Моцкус.
– Говорить вы можете о ком угодно, но ваши речи напоминают мне песню глухаря: поет, бедняга, и не помнит, что первой его песню слышит лиса.
– Случается и так; кстати, поверьте, лучше уж умереть в лапах лисы со своей правдой, чем без нее сидеть на верхушке дерева и ждать: вдруг кто-нибудь смилостивится да подбросит кусочек? Дождешься, схватишь, радуешься, живешь этим подаянием, пока не убедишься, что люди отдали тебе только то, что не нужно. Потом бросаешься за другим куском, за третьим, и начинается песня без конца, пока не потеряешь терпение, не разочаруешься во всем и не закричишь: нет на свете правды! А откуда она возьмется, если у тебя самого ее не было и нет?
Саулюс хотел сказать: не цитируйте мне свои статьи, но опять сдержался, а вслух заметил:
– Мое наказание не увеличишь и не уменьшишь.
– Согласен, поэтому не увеличивай и мое наказание. В наше время, да еще когда занимаешь такую должность, не так-то легко жить тихо. Но не потому мы здесь, я извиниться хочу: мне нужен шофер.
– Это ваше дело, – пожал плечами Саулюс, но недоброе предчувствие больно кольнуло сердце.
– Не совсем, – ответил Моцкус. – Ты не против, если я снова возьму Йонаса?
– У него и спрашивайте. – В голосе Саулюса все отчетливее прорывались нотки раздражения.
– Разве тебе безразлично, кто будет работать после тебя?
«Разве тебе безразлично, кто будет жить после тебя? – Слова Моцкуса перевернулись в его измученном безысходностью сознании и отозвались острой физической болью. – Разве тебе безразлично?.. Хоть потоп!» – хотел крикнуть, но лишь что-то промычал и произнес:
– Об этом я не подумал, – возразил только, чтобы лучше понять смысл сказанного, и решил, что даже тогда, когда услышанная мысль вполне очевидна, неоспорима, человек обязан сомневаться и проверять: нельзя ли выразить лучше? Он улыбнулся: – А что бы вы, товарищ Моцкус, сделали, если б не было Стасиса?
Шеф вздрогнул и выпучил глаза:
– Не понимаю.
– И я не понимаю, только читал где-то, что хороший человек одинок, как бог. Ведь ошибается поэт. Тому, кто хочет постоянно быть добрым, необходимо постоянно иметь рядом с собой и собственного черта, хотя бы выдумать его, а потом метать в него молнии, но не убивать, иначе без него самому придется быть и добрым, и плохим. Это куда тяжелее. Только бог может позволить себе такую роскошь.
– Опять камушек в мой огород? – расстроился Моцкус.
– Нет, в общинный пруд.
– По существу ты прав: каждая идея должна повлечь за собой и какой-нибудь ужас… Но ладно, хватит, – Моцкус заторопился.
– Нет, почему? – запротестовал Йонас. – Я тоже не раз думал: что будут делать добрые, когда не останется плохих? Выдумают новых, сами вместе с ними исчезнут или возьмутся за середнячков?
– Мы слишком далеко зашли, – Моцкус встал, – и совсем забыли, зачем приехали. Я вызвал из Москвы известных специалистов. Хотел предупредить…
– Спасибо, – Саулюс сжал кулаки.
– Ну, держись, – Моцкус тихо, на цыпочках вышел из палаты и не закрыл за собой дверь.
Потом поднялся Йонас.
– А ты куда? – Больной не хотел оставаться один.
– Сам понимаешь… Кроме того, шеф пообещал москвичам охоту и баню… Теперь мне из-за этого придется как следует побегать.
– Ладно, Йонукас, если можешь, извинись перед ним за меня. Он хороший человек, только, может быть, слишком торжественно говорит, а вообще – я могу злиться только на себя… – Оба растрогались и крепко пожали друг другу руки. – Он знает, что Бируте здесь?
– С первой же минуты.
– И как?
– Никаких новостей. Она, брат, слишком самостоятельная, мол, склеенный горшок на огонь не поставишь… Но всякое может случиться, конечно, если мы своим адвокатством окончательно их не поссорим.
Саулюс не обиделся на эти слова. Он подмигнул товарищу и не без ехидства спросил:
– А как твои носки?
– Видел бы ты, какой я теперь свитер начал!.. Шерсть здесь дешевая, если хочешь, и тебя научу?
– Да стоит ли… Но если можешь, привези вина, – он хотел попросить еще кое-чего, но не осмелился.
– Как-нибудь притащим, только ты не привыкай. Скоро мы у тебя появимся. Поедем с гостями на уток.
На работу Бируте собиралась с большой неохотой. Она знала, что ей придется увидеться с Саулюсом, что надо будет утешать его и отговаривать от того, о чем она и сама довольно часто думает. Бируте знала, что там придется казаться лучше, чем она может или хочет быть. Но самое главное – ей не хотелось слишком настойчиво отговаривать его от этого, только на первый взгляд бессмысленного, но единственно правильного шага, когда благородный и гордый человек, не желая превратиться в животное или вынужденно стать подлецом, выбирает смерть. Волновал ее и тот незавершенный разговор, который начал Моцкус в больнице во второй раз, приехав с гостем из Вильнюса.
– Знаешь, теперь и я верю, что еще не все потеряно. Увидишь, встанет парень на ноги.
– Это прекрасно, – нехотя ответила она. – Я никогда в этом не сомневалась.
– Да, ты была права, но не обижайся: в данном случае для меня куда важнее мнение специалиста. – Он был счастлив, но почему-то стыдился этого и старался говорить спокойно: – Теперь, когда все уладилось, и мы могли бы поговорить по-человечески.
– Я слушаю тебя, – Бируте только казалась равнодушной. И если бы Моцкус хоть немного поласковее позвал ее, она ни минуты не колебалась бы, но Виктораса интересовали глобальные проблемы:
– С каких пор, то есть каким образом, мы успели стать такими чужими? – Он сказал это так, будто прочитал фразу по бумажке.
– Ты стал чужим, ты и отвечай…
Ее разочаровало начало разговора, и она не ждала от него ничего хорошего. Она уже все это слышала, все повторялось уже не в первый раз. Викторас мог процитировать ей Сервантеса, утверждавшего, что между «нет» и «да», сказанными женщиной, нельзя просунуть даже острие иголки; что счастье мужчины можно выразить двумя словами: «я хочу», а женщине достаточно еще меньше: она счастлива, когда хочет он… В хорошем настроении он мог пошутить, что женщины подобны флюгеру и перестают вертеться перед мужчинами, лишь когда ржавеют окончательно. Он умел прикинуться необычайно опытным и уверять, что для женщин самое главное, как другие женщины ценят ее мужа. Но самое странное, что он верил в подобные сентенции. Поэтому его любовь казалась Бируте какой-то слишком общей, внушенной себе насильно, немужской, односторонней. Он как бы постоянно наблюдал, как будет поступать и разговаривать влюбленная женщина, и часто забывал о том, что должен делать сам.
Бируте злилась, что Викторас превращает такое большое и искреннее чувство в какую-то запутанную и сложную систему поклонов, будто их дружба выставлена на всеобщее обозрение и он на виду у публики должен защитить ее, как диссертацию… А Бируте нужен был друг, на которого она могла бы не только опереться, но изредка и подчиниться его необузданной воле: он хочет, он любит, он желает, а все остальное неважно.
Она была практик, дитя природы, и хорошо знала, что в тех семьях их деревни, где слишком унижали мужчин, в конце концов и женщины превращались в ничто, поэтому любыми способами старалась пробудить в Викторасе чувство мужского самолюбия, подавленного ревностью Марины и всякими скандалами, но Моцкус не понял ее стремлений. Он и теперь не поверил довольно злой реплике Бируте, поэтому слишком громко рассмеялся и слишком весело сказал:
– Знаешь, я начинаю верить, что мы созданы друг для друга. Ведь вся эта чертовщина с переворачиванием, дверцами и переломами костей должна была случиться со мной, но по дороге мы взяли да поменялись местами.
– Но при чем тут я? – Ей было приятно, что он, этот женский психолог, так говорит, поэтому не выдержала и пококетничала, а он снова не понял ее:
– Я уже сказал: мы ехали искать тебя. Он подбросил мне эту идею, и я решил извиниться перед тобой: давай помиримся?..
– Не слишком ли долго ты ждал, чтобы кто-нибудь тебя надоумил?
– Не придирайся к словам. Я сам искал случая, потому что еще раз и вполне серьезно хочу предложить тебе какой-нибудь уголок в своем доме. Заметь: на этот раз в своем!..
– Тебе нужна служанка? – Бируте с трудом сдерживала давно скрываемую боль, боялась, как бы она не прорвалась и не испортила так вежливо начатый разговор.
– Нет, мне надоело жить одному. Пять лет – достаточный срок для испытания. Я не могу без тебя. Я окончательно одичал, и мне не перед кем излить душу, некому пожаловаться, когда чертовски трудно, и не с кем порадоваться, когда что-нибудь удается. Понимаешь, наука наукой, без нее нельзя, но она беспощадно обкрадывает душу, делает слишком рациональным и практичным, я начинаю думать о людях как о каких-то абстракциях, символах, лишенных тепла и запаха. Не знаю, как объяснить тебе, но мне хочется остановить какого-нибудь постороннего человека и излить перед ним душу.
– Я прекрасно понимаю тебя, но едва ты выговоришься, сразу же опять удалишься в кабинет и задвинешь стол.
– Возможно… Но это уже будет как-то иначе. Я попробую исправиться, конечно, если ты не откажешься помочь.
– Тебе следовало бы найти женщину из своей среды.
– Нет уж, прости, кого угодно, только не женщину-ученого.
Вот, кажется, и весь их второй разговор, как любит говорить Моцкус – второе чтение. Несколько недель назад, приглашая Саулюса к себе, она надеялась увидеть Моцкуса немножко иным, изменившимся, наверно, таким, каким она опять выдумала его, но разве люди меняются? В душе она уже готовилась к подобному объяснению, даже мечтала о годе жизни с ним, наполненном счастьем, но издали все выглядит куда прекраснее.
Отдалились, грустно подумала она, мы слишком отдалились. Надо было все начинать вместе и нога в ногу, а теперь мы будем только мешать друг другу и ссориться, потому что я слишком горда, чтобы оставаться только служанкой, а он еще не настолько стар, чтобы обходиться служанкой… Хотя одинокой женщине куда труднее жить, чем одинокому мужчине. Да еще с такой славой! Все только и смотрят на тебя как на диковинку, жалуется Викторас, как на некий пластырь, который каждому хочется наклеить там, где у него болит или даже где у него вовсе не болит, а только чуточку чешется… Господи, как все любят брать и не давать!
И расстались они с Моцкусом очень странно. Выписавшись из больницы после этих несчастных родов, Бируте целый день бесцельно бродила по лесу и боялась идти домой. Потом под утро собрала чемоданчик и решила уехать. Хоть куда, на край света, где никто ее не знает. Раскрыв карту, наугад ткнула пальцем и прочла какое-то странное название. На вокзале кассирша долго листала толстые книги, а потом посоветовала:
– В Москве проверьте, может быть, я что-то не так написала.
В Москве на перроне ее ждал Моцкус. Стоял на крытой платформе с поломанным цветком и выглядел несчастным, но, увидев ее, начал ругаться:
– Бируте, ведь нельзя так.
– Ты даже не приехал похоронить его.
– Я не знал… Ведь мы ждали его в конце месяца.
– Если хочешь, все узнаешь.
– Стасис расспросил кассиршу и позвонил, а я сюда – на самолете.
Стасис не только звонил… Перед глазами Бируте так и стоят любительские фотографии, принесенные Жолинасом: на одной он рядом с подводой, без шапки, а на соломе – небольшой гробик, потом яма и снова этот посеребренный гробик, двое гробовщиков, какие-то незнакомые женщины, несколько букетов цветов, проведенный черенком лопаты крест и покрытая белой краской дощечка: Саулюкас Гавенас. И год. Только одна дата. Наверно, часы на могиле никто не пишет. И снова лошадь, телега, Стасис на облучке и гробик на соломе…
«Как на базар», – подумала она и на московском перроне повторила эти слова:
– Как на базар.
– Я не понимаю тебя.
– И не поймешь.
– Тут ночью хорошие цветы не достанешь. Я и этот у прохожего купил…
– Когда я спросила Стасиса, почему он написал на могиле «Саулюкас Гавенас», он ответил мне, мол, если не понравится, сама перепишешь… А я уже ничего не буду менять, Викторас.
– Хорошо, не меняй, только поехали домой, тебе надо лечиться. Билеты я уже купил.
Моцкус почти силой привез Бируте в Вильнюс. Она тогда ходила по его шести комнатам как тень и не знала, что делать. Никогда в жизни она не ощущала такой пустоты.
Через несколько дней Моцкус, словно нарочно, уехал на год за границу, а пробыл там полтора. Он долго извинялся, мол, научные планы, разрешение, будущее его и института… Он даже доказывал, что одной Бируте будет лучше, дескать, после несчастья человеку необходимо побыть наедине, пока все не осядет и не утихнет боль…
– Будь умницей, этот год пройдет скоро.
Она была умницей, пожила одна и чуть не сошла с ума. В городе ни одного знакомого, только книги, телевизор, радио и приходящая старушка, которая берет с полки необходимую сумму денег и покупает хлеб, масло, чай или идет в ресторан и приносит оттуда остывший обед, всегда недосоленный, невкусный. Вокруг – никакой жизни, только застенчивая, истоптанная и запыленная травка двора, кое-где выглядывающая сквозь асфальт вдоль тротуаров, и кактусы, страдающие не меньше, чем она. Привезенные из разных уголков мира и тесно расставленные на подоконниках, они никак не привыкнут к жирному, слишком часто поливаемому перегною и чужому хмурому небу.
«Домой!» – убеждала она себя, не понимая, что дома у нее нет. «Домой», – уговаривала себя ежедневно, потом стала повторять это слово ежеминутно, а если ее навещала Марина, которая обязательно снимала со стены какую-нибудь картину или сворачивала очередной ковер, Бируте несколько дней сходила с ума. «Домой! – Она уже ругала себя и думала, что в Пеледжяй сами стены защитят ее, что каждый куст, каждое дерево поможет ей снова вцепиться в жизнь. – Домой, только домой!» О Стасисе она даже не вспоминала. Пусть живет, пусть загнивает сам по себе, а она – опять сама по себе. Под одной крышей? Ну и что? Мало ли людей в городе годами живут по соседству, на одной лестничной клетке, и даже не знают фамилии друг друга!..








