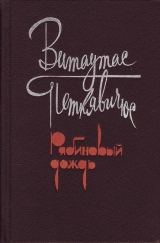
Текст книги "Рябиновый дождь"
Автор книги: Витаутас Петкявичюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
Она и сама не знает, почему, подумав о Моцкусе, взяла да сказала:
– Надо бы пригласить Марину с отцом, они столько добра сделали для меня.
– Если Марину, тогда и Моцкуса, – посоветовал Стасис и даже не заметил, как она взволновалась. – Ты не сердись, что я поучаю: по обычаям, на свадьбу письмом нельзя приглашать, нам придется съездить к ним.
Бируте ехала и уже не надеялась найти Моцкуса. Она не верила, что он поедет, так как привыкла думать, что Викторас не для нее, что он не ее круга, что такие, как он, принадлежат к какой-то более высокой касте недосягаемых, избранных людей.
Но Бируте нашла Моцкуса несчастным, расстроенным и, как ей показалось, слишком постаревшим. Его виски уже были посеребрены инеем, среди белых зубов поблескивали пластинки золота, он курил трубку, от дорогого табака исходил запах меда и еще какой-то приятной травки. Викторас старательно веселился, шутил, но теперь он был еще дальше от Бируте, чем прежде. Она даже пожалела, что приехала, а Моцкус радовался ее неожиданному визиту.
– На свадьбу?! Обязательно. И без разговоров, немедленно! – Он гладил ее как маленькую, возил по магазинам, выбирал, покупал вещи, не жалея ни своих, ни ее денег, был находчив, остроумен. – И сколько же детей вы решили народить?
– Парочку хватит, – ответила она.
– Мало. В таком случае я отказываюсь быть сватом. Ведь, по обычаю, мне принадлежит первая ночь.
– Эти ночи все могли быть вашими, – ответила она просто, а он встревожился, испугался и вопросительно посмотрел ей в глаза. Взгляд их был ясен и недвусмыслен.
– Если могли, вдруг еще будут? – стал он оправдываться. – Не стоит расстраиваться. Наполеон третий раз женился в нашем возрасте. – Однако, выйдя из магазина, он уже не сел рядом с ней, а перешел вперед, к шоферу.
А Бируте даже обрадовалась, что Викторас все еще неравнодушен к ней, а если он не принял вызова и немножко испугался – ничего, так поступают все приличные мужчины, которые не дают воли рукам, хотя и много болтают. Бируте всем существом чувствовала, что он желает ее, но боится, что он в чем-то сильно разочаровался, но не намерен исповедоваться перед ней.
Они были похожи, поэтому в отместку друг другу – теперь она прекрасно понимает это – веселились на Бирутиной свадьбе так, что удивляли всех, будто состязались на сцене, кто кого переиграет. Гости не поняли их. Первым встревожился Стасис:
– Бируте, смотри, что он вытворяет!
– Пусть пошалит, ведь мы для этого и собрались.
– Но это наша свадьба!
– Дурачься и ты.
Как ни старался Стасис, ничего у него не получалось. Счастливый человек не может быть ни слишком изобретательным, ни слишком веселым, – чтобы так веселиться, как они, нужно было страдать, как они. Всеми силами они стремились скрыть это от посторонних глаз, и это удалось.
Так ничто и не изменилось: Моцкус был снова недоступен, как божок, а ей осталось довольствоваться тем, что было под рукой. После свадьбы Викторас стал появляться возле их озер, его друзья отлавливали рыбу, потрошили, исследовали, а он все бродил по лесу с ружьем на плече. Бируте свыклась с судьбой и поверила, что иначе уже не будет. Она работала, лечила людей, выращивала цветы, а Стасис привозил всякие деревья, растения, украшал их хутор; они ездили по выставкам, фотографировали интересные экспонаты, старались вырастить в своем саду редкие растения, были изобретательны, потому что здесь их ничто не стесняло – ни размеры участка, ни городские заборы.
Но вот в один ветреный и хмурый день к ним пришел Альгирдас Пожайтис. Как и тогда, при немцах, – с полустанка и прямо к ним, не заглянув в свой дом, к своей матери. Хотя холода еще не наступили, он, высокий, заросший густой бородой, был одет в ватные штаны и заношенную душегрейку, в теплый треух и в сбитые, латаные-перелатаные валенки. Он промок от дождя, из-за ворота шел кисловатый пар.
– Не узнала? – спросил дрогнувшим голосом.
– Прошу садиться. – Она и сегодня не может простить себе этот холодный, ни к чему не обязывающий тон, но тогда испытала непонятный страх. – Прошу, – и первой шлепнулась на стул.
Он сел, долго разминал пальцами папиросу, потом постучал ею о стол, прикурил и глубоко-глубоко затянулся.
– Как живешь? – наконец спросил.
– Хорошо.
– А детей много?
– Пока нет.
– Ждете?
– Пока нет. – Она отвечала как на допросе, а он только курил, уставившись в стол.
– И у меня никого нет. А ты с ним счастлива?
– Счастлива. – Она пожала плечами и отвернулась к окну, чтобы не расплакаться. – Счастлива, – хотела добавить: только никто не завидует, но сдержалась.
Неожиданно вошел Стасис и попятился было назад, но остановился, не выпуская дверную ручку, подождал и, убедившись, что ему ничто не угрожает, спросил:
– Значит, пришел?
– Привезли. – Альгис долго барабанил пальцами по столу, потом решительно встал и сказал: – Пусть она на минуточку выйдет.
– Выйди, – попросил ее и Стасис.
Она все еще не решалась.
– Так надо, – повторил муж. – Разве не понимаешь?
Она не знала, о чем они говорили. Теперь ей ясно, что это был за разговор, да и в тот день было ясно: проглотив обиду, она вернулась к двери и услышала:
– …Так вот, Стасис, благодари Бируте и держись за нее, как вошь за ворот. Помни: только ради нее, и не ради кого другого, ты будешь месить грязь в этой юдоли слез. Ты хорошо меня понял?
– Понял, – эхом отозвался Стасис.
– Так вот: она женщина, мы и так принесли ей слишком много бед. Слишком много, ты понимаешь?
– Понимаю.
– Вот так, – сказал Альгис. – И если когда-нибудь по твоей вине она почувствует себя несчастной, я клянусь тебе: ты будешь стократ несчастнее. – Он хлопнул дверью и столкнулся с ней. – Проводи, – скорее приказал, чем попросил.
Они быстро пошли через молодняк, поднявшийся между хуторами, миновали старый лес, луг, а Пожайтис молчал. У самого дома Альгирдас вдруг обернулся, поцеловал ей обе руки и попрощался:
– Он мне все сказал, прости, я был не прав, осуждая тебя. Прости, что ты столько настрадалась из-за нас. – Глаза его заблестели, он наклонился, взял брошенную на землю возле калитки торбу и, не оборачиваясь, пошел в дом.
Она долго не могла опомниться, долго ходила по лесу, бродила по лугам, гадала, вспоминала прошлое, потом вернулась домой.
– Что он говорил тебе? – Встревоженный Стасис ждал ее на дворе.
– Ничего, а тебе?
– Сама знаешь.
– Ничего я не знаю. Ты в чем-то провинился перед ним?
– Ну, как ты не понимаешь?.. Он все еще любит тебя, поэтому и пришел.
Она ничего не сказала, работала весь вечер, работала всю ночь, а утром Стасис обнял ее за плечи и приласкался:
– Иди отдохни. Он парень с головой… И, видно, доброй души, но что тут изменишь?
– Изменить можно, да стоит ли? – задумчиво ответила она, а потом, забившись в какой-то угол, дала волю слезам.
Не успела Бируте как следует забыть про это событие, как однажды Стасис, вернувшийся из городка, еще издали крикнул ей:
– Беда!..
– Альгис?.. – невольно сорвалось у нее.
– Нет, на сей раз меня в армию забирают.
– Ты пугаешь или так просто? – не поверила она.
– Зачем мне пугать? Приказ такой вышел.
– Надолго?
– Может, на год, может, на два.
– И как ты будешь служить с юнцами, ведь ты почти в два раза старше?
– И я не знаю… Но разве там на возраст смотрят?
– Не переживай, эти годы пролетят быстро. Я тебе теплые носки свяжу, продукты посылать буду… Для обоих занятие найдется.
– Я с ума схожу, когда думаю, что ты будешь делать одна?!
– А что я делала, пока мы не были женаты?
– Ты не любишь меня, – стал попрекать он. – Ты ненавидишь меня, но скажи, за что?
– Ведь мы условились никогда не говорить об этом. Я твоя жена, и никто другой мне не нужен.
– А Альгис?
– Побойся бога, Стасис! Он хороший человек. Если я люблю тебя, то это еще не значит, что я должна ненавидеть его. И что бы ни случилось, Альгирдас был и останется для меня первой любовью. Кроме того, он из-за нас с тобой такой крест вынес!
Тогда она сказала эти слова просто так, от жалости, но они настолько подействовали на Стасиса, что он сразу успокоился, извинился и дал слово больше не напоминать ей про Альгиса.
Теперь она знает, почему он молчал, а тогда думала, что вот, поговорила с мужем и расставила все по своим местам. Но, оказывается, с этого только и начался ад. Господи, какие идиоты эти мужчины! Один любит, поэтому стрижет косы и стращает смертью, чтобы я не связалась с другим, которого он ненавидит, и охотится за ним по кустам. Второй подбрасывает винтовку, чтобы я не вышла за того, который в сто раз лучше его. Третий, чтобы заниматься наукой, боится нарушить слово, которое он никому не давал. Четвертый жертвует собой, но при этом и меня жертвует предателю и думает, что сделал доброе дело… Боже, боже, а с кем быть мне? С бандитом, с мучеником, с предателем или с приспособленцем?.. Вот счастье, пропади оно пропадом!..
Военком дал Стасису отсрочку на две недели на устройство личных дел. Ими он и занимался: ездил к Моцкусу, угощал его у себя дома, просил выручить, поил всяких подлецов, которые не могли помочь, но ничего не добился. А потом вдруг начал по ночам разговаривать с собой и, мокрый от пота и позеленевший, метался в бессоннице.
– Что с тобой? – тревожилась она.
– Ничего, видно, перекурил.
– А что ты куришь? – ничего худого не подумав, спросила она.
Он испугался, сел в постели:
– Ты знаешь?
– Ничего я не знаю. Мог бы что-нибудь получше купить, а теперь самосад режешь, как мужик, с разной чертовщиной смешиваешь – вся изба провоняла.
И, только покупая как-то чай в магазине, Бируте поняла все, когда продавщица спросила ее, что она делает с этим чаем?
– Разве это много?.. Пять пачек?.. – удивилась она.
– А твой муж уже, наверно, десять раз по пять купил.
Вернувшись домой, она вытряхнула его карманы, и руки у нее опустились. Теперь ей стало ясно, почему у него бессонница, почему пожелтело лицо. Не дождавшись, пока он придет домой, побежала на лесосеку и, вцепившись ему в лацканы, сказала:
– Больше не смей брать в рот эту отраву!
Он опустил глаза и попытался оправдаться:
– Я из-за тебя…
– Замолчи! Ты никого, кроме себя, еще не любил! А про детей ты подумал? Кого мы родим – это тебе все равно? Тебе лишь бы бабу под боком иметь, а что потом?.. Наплевать?! Отвечай!
– Прости!
– Трус ты проклятый! Ревнивец. А мне кого ревновать, тряпку? Хлюпика? Слизняка? Помни, если ты что-нибудь натворишь, я в твою сторону даже не посмотрю. Лучше с цыганом сойдусь, хоть буду знать, что он не только меня, но и жизнь любит… Подумать только – двумя годами казенной каши запахло, и он уже раскис! Альгис восемь отбыл. А какой вернулся? Прямой как ясень, гордый как олень, как мужчина… – Слова кончились, она уже не могла ни говорить, ни кричать. Обессилев, опустилась на срубленное дерево и заплакала.
Стасис стоял как пень. Все лесорубы бросили работу и уставились на него. Он их не видел и не слышал.
– Прости, – попросил голосом смертника. – Я даю слово.
– Стасис, два года – это не так уж много, – смягчилась и она. – Соскучимся друг по дружке, испытаем себя, а потом, быть может, и жить интереснее покажется, – почти умоляла она. – Неужели ты мне не веришь?
– Верю… Даже больше, чем себе.
Но в день отъезда Стасис заболел. У него появился страшный жар, кашель раздирал легкие. Увезли на «скорой» без сознания, Бируте мучилась, побежала в городок, подавала воду, принесла еду, более удобное белье, а вернувшись домой обнаружила причину и этой внезапной болезни мужа: возле баньки в вытоптанном до черной земли снегу отпечатались следы босого человека…
Едва сдерживая ярость, она снова побежала в больницу, но Стасис уже одной ногой был в могиле.
– Что с ним? – спросила хорошо знакомого врача.
– Легкие. Но если откровенно – какая-то непонятная чертовщина, какая-то чушь… Я сам как следует не разберусь.
– Доктор, – она была сама не своя, – вы никому не скажете?
– Зачем эти клятвы, Бируте?
– В конце концов, теперь все равно: я его, паразита, застала, когда он чайный лист курил. А перед отъездом он после бани нарочно босиком по снегу ходил.
– Идиот! Скарлатина, не человек… И при такой-то жене!
Эти слова оскорбили ее.
– Доктор! – предупредила она и подумала: «Почему эти балбесы замечают меня только в беде? Что я, меченая или припадочная? Как будто он не видел меня, когда я бегала за ним со шприцем».
– Простите, но ведь на самом деле, Бируте, черт возьми!..
Лучше бы он не извинялся.
– И пусть возьмет, доктор, – ответила она в сердцах, потому что вспомнила, какую курицу он привез из ансамбля песни и танца и представил всей больнице: «Моя жена».
Но Стасис умирал, умирал – выкарабкался. Когда он пришел в сознание, первая его фраза была:
– Поезжай к Моцкусу.
– Не поеду. Сам виноват. Что я тебе плохого сделала, почему ты мне такую адскую жизнь устроил? В чем я перед тобой провинилась?
– Бирутеле, поезжай. Доктор говорил, есть такие американские лекарства… Он здесь записал и на тумбочку положил.
– Не поеду, ни за что.
– Бируте, ведь ты добрая. Я же из-за тебя… Возможно, я подлец, но ведь ты добрая и умная…
Умная! А на черта он мне, этот ум, если я красива и еще нравлюсь мужчинам? И зачем эта красота, если я умна? Мне счастье нужно, немножечко счастья и бабской дурости… Бируте вспоминает, как она ехала на поезде. Она – красивая и умная, но жена самоубийцы. Нет, такого позора она еще не переживала. Так не верить в человека, так унизить его, а потом делить с ним одну постель?.. Нет, это бесчеловечно! Она всю дорогу смотрела в окно, боясь взглянуть людям в глаза, и снова надеялась, что Моцкуса не будет дома, что он нигде не достанет эти редкие лекарства, но ее надеждам не дано было сбыться.
«Почему? За что? – и теперь сокрушается она. – Почему мне не суждено счастье? Я не виновата, что вокруг меня живут более счастливые и умные. Видно, для того чтобы быть счастливой, ум не нужен», – с этой мыслью она подошла к двери и позвонила.
Моцкус встретил ее в теплом халате, с трубкой в руке. Увидев Бируте, так удивился, что даже не сказал свое обычное «Здравствуй, нареченная!» – а, схватив за руку, стал расспрашивать:
– Что случилось?
– Все те же радости дурака, – ответила она и сразу заплакала.
Потом, когда он побежал за лекарствами, Бируте нашла тряпку и прошлась ею по всем комнатам. А ночью, увидев у него в кабинете свет, хотела тихо открыть дверь, но дверь уперлась в стол. Это настолько ее обидело, что вначале она даже не знала, что предпринять. Потом решила оскорбить его, запустить в него чем-нибудь острым и тяжелым, но постепенно, покусывая кулак, успокоилась и долго молча наблюдала, как он барабанит на машинке, как курит, как сидит, запрокинув голову, и думает, как ползает среди разложенных на полу бумаг, освещая их специальной, прикрепленной к длинному шнуру лампой, и снова пишет, начитавшись чужих мыслей, пишет и пишет…
Она тихо вернулась в свою комнату и всю ночь не спала. Бируте казалось, что этот ученый муж считает ее распутницей, что боится ее или полагает, что она больна… Она всякого напридумывала, пока под утро не пришла спасительная мысль: ведь он не Бируте боится, а самого себя! Он не доверяет себе. Он хочет остаться верным этой старушке, но боится, что не выдержит! Ведь он сам придвинул стол, сам может и отодвинуть его… Не понимаю, не понимаю… Она снова подошла к его кабинету, – Моцкус спокойно сидел в своем большом кресле, сосал потухшую трубку и чему-то улыбался.
Больше она не ложилась. Включила газ, поставила воду и стала готовить завтрак. Вспоминая придвинутый к двери стол, она хохотала в душе. Наконец не вытерпела, поставила на поднос кофе, бутерброды и постучалась.
– Кто там? – Он спросил так, будто она стояла на лестничной клетке.
– Я принесла кофе и бутерброды. Уже семь.
Он долго отодвигал стол, стулья и бессовестно врал, сваливая все на капризы жены, а Бируте смеялась, пока не заметила, что он уже сам поверил в эту ложь и теперь начинает убеждать ее.
– Я вижу, вы будете выкручиваться до тех пор, пока все не запутаете. Очень прошу, отвечайте без дипломатии, честно: почему вы тогда мне не поверили, а теперь придвинули стол?
– Что ты, моя милая? Идешь, вооруженный до зубов, стреляешь и – на тебе: если хочешь, будь моим избранником. Ведь это фантасмагория!
– Поэтому вы и придвинули стол?
– Да. – Ему было тяжело сказать правду.
– Значит, за моими словами стояло еще что-то. Теперь вы остерегаетесь Марины, хотя ненавидите ее, а тогда вы ненавидели и боялись своих начальников, боялись, чтобы вас не начали в чем-то подозревать и не посчитали негодяем, воспользовавшимся беспомощностью молодой девушки. Ведь так?
– Допустим, ты права. Но была ли ты тогда искренна?
– Даже очень.
– А страха не было?
– Был и страх, но он зародился во мне совсем по другой причине. Разве зверек, за которым охотятся, боится? Он защищается, он прячется, он бежит и кусается только на ходу, оборачиваясь. И может, лишь потом, когда опасность минует, он вздрагивает, вспоминая, как было страшно. За мной охотились, вы прекрасно знали об этом, вот и не выпускали меня из виду, а смелости признаться, что я была приманкой, у вас не хватило.
– Может, и не совсем так…
– Знаете ли вы, сколько боли причинила мне эта ваша нерешительность? Лучше не будем считать… Хотя и вы заплатили и продолжаете слишком дорого платить за нее.
– Я не раз подозревал тебя в колдовстве, – он пытался превратить все в шутку, – потому что есть в тебе что-то такое…
– Для мужчин женская интуиция всегда была неразрешимой загадкой, а для вас это тайна втройне, потому что вы слепой и нечуткий.
– Спасибо.
– Не благодарите меня, я не милостыню раздаю. Я люблю вас. Это никакой не подарок. Это состояние души. Потребность.
Моцкус смотрел на Бируте, раскрасневшуюся, злую, и побаивался ее, полагая, что она устраивает ловушку подобную той, в которую он однажды так неосторожно угодил. Но мужская амбиция победила не вовремя появившуюся слабость и превратила ее в непонятную, необъяснимую силу, толкнувшую его к Бируте. Моцкус сопротивлялся нахлынувшему чувству, а ей уже нечего было терять.
– Я нисколько не покушаюсь на ваш мир, я не собираюсь превратить вас в собственность, как это сделала Марина. Я люблю вас, хотя за столько лет не сделала ни единого шага, чтобы напомнить об этом. Я не хотела делать этого, когда ехала к вам за лекарством. Я ждала, хотя уже не было никакого смысла ждать. И если я об этом заговорила, вините себя. Вы дали мне понять, что дальнейшее промедление может принести нам еще больше бед.
– Почему?
– Потому что и вы, и я избрали неверные правила игры и боимся нарушить их.
Он на самом деле почувствовал себя виноватым и стал целовать ее руки.
– И что я должен теперь делать?
– Ничего.
– Ну, а ты?
– Тоже ничего. Еще немного подождем. Но уже вдвоем: теперь, когда мы разделили ношу пополам, будет легче и вам, и мне.
– А если я не стану ждать?
– Я возражать не буду.
– Погоди, погоди… – Он покраснел словно гимназист и, не веря ушам, переспросил: – Значит, ты серьезно?.. Ты считаешь, что у нас еще может что-то получиться?..
Бируте уже забыла, что говорил ей тогда Моцкус, но и теперь улыбается, вспоминая, как он ухаживал за ней, как вертелся вокруг нее, словно ресторанный мальчик, а потом тихо, полагая, что она еще спит, встал с кровати, надеясь, что, вернувшись, уже не застанет ее. Но она нарочно дождалась его и в шутку поинтересовалась:
– Вы признаетесь жене?
– Конечно. – Он ни на минуту не усомнился, хотя сам не поверил в это.
– Похвально, – усмехнулась она, – но оставим это на вашу совесть. А если откровенно: не только вы, я тоже немножко жалею о том, что произошло между нами, – кокетничала, а он снова испугался. – Раньше вы были моим идеалом, а теперь вы – растерявшийся муж, который не может сообразить, как он оправдается перед женой, когда та вернется с курорта.
Но Бируте ошиблась. Моцкус, привыкший заранее все обдумывать, был просто ошеломлен тем, что произошло. Злые слова задели его. Отправив ее домой со своим шофером, Викторас вдруг понял, что совершил ошибку, и, поймав такси, приехал на хутор раньше, так как она задержалась в районной больнице. Когда она вошла в комнату, он стоял там, веселый и уверенный в себе, а на столе были цветы, шампанское, конфеты и изрядно помятый торт с надписью «Поздравляю!».
Радость Бируте не знала границ.
– Давай позовем ксендза, – озорничала она.
– Хоть двух, – не уступал Викторас.
– А может, лучше попа? Есть тут один спившийся.
– Можно и попа, но не лучше ли всех сразу?.. И ксендза, и попа, и пастора, и баньку растопить, и народ пригласить.
– Послушай, может, неудобно? – сомневалась она.
– Почему? Я ломаю правила, которые создал сам, а они пускай привыкают. Я здесь не впервые, и они хорошо знают меня.
Больше десяти лет подозреваемый, что он, может быть, хуже чем есть, и тщетно доказывавший обратное, Моцкус был энергичен и так внимателен к ней, что она жила как во сне.
Такая жизнь длилась всю весну и все лето. Он ездил к ней, а она – к нему, на оперу, в кино, на концерты. Они были счастливы, встретившись тайком; они были счастливы, ожидая друг друга; они были счастливы, работая и мечтая, но наконец произошло то, о чем Моцкус думал, как ему казалось, без страха. К Бируте приехала Марина. Она была весела и беззаботна или прекрасно изображала таковую.
– Как ты изменилась, как похорошела! – С подозрением глянула на ее талию и нахмурилась: – От него?
– Не от нее же, – Бируте тоже была счастлива, поэтому не покраснела, не застыдилась и ответила Марине так же нагло.
– Сегодня он опять приедет к тебе.
– Знаю. – Она была горда и не менее находчива: – Но раньше он сам сообщал об этом.
– Я опередила его.
– Это нетрудно сделать, когда есть казенная машина.
Марина долго сдерживалась, нахваливала ее вкус, редкие цветы, которые она выращивала, а потом все так же беззаботно сказала:
– Бируте, давай будем разумными. Я думала, что все закончится куда проще, поэтому все время вдалбливала себе в голову, что умная женщина никогда не запрещает мужу побегать на стороне… Но вы зашли слишком далеко.
– А как назвать женщин, принимающих у себя этих спущенных с цепи мужчин?
– Я не считаю тебя такой. Ну, случилось, ну, у старика ум за разум зашел… Но неужели ты за добро заплатишь мне злом? Неужели ты станешь разрушать нашу семью?
– Товарищ Марина, зачем такая торжественность? Ведь вы все равно не любите Виктораса.
– Мне лучше знать, кого я люблю и кого ненавижу! – Она закурила. – Ну, допустим, ты права. И что с того?
– Если бы вы любили его, не поехали бы сюда. Кроме того, вы бы намного раньше знали, что не я, а вы разрушили нашу жизнь.
– Допустим, что и это правда. Я однажды видела, как ты вешалась ему на шею. Но мало ли тогда было у него девушек? Однако теперь – совсем другое дело. Что ты, деревенская баба, можешь дать ему, такому известному ученому?
– Ребенка, – спокойно ответила Бируте. – Это лучше и больше, чем хорошая квартира и протекции.
– Ты наглеешь, – предупредила ее Марина.
– Это должно быть ясно и без помощи медицины, хотя, по правде говоря, вы и к ней уже давно не обращаетесь.
И на сей раз Марина смогла взять себя в руки. Она рассмеялась и, обняв соперницу за плечи, сказала:
– А может, на самом деле будем не только остроумными, но и разумными: возьмем да позовем на помощь эту самую медицину?
На Бируте будто ушат холодной воды вылили, но она сдержалась:
– Вы правда сделали для меня много добра, и только поэтому я не указываю на дверь. Я не могу ни отнять у вас Виктораса, ни отдать его вам: это в его воле. А что касается моего ребенка, прошу – поосторожнее!.. Вы не моя мамочка, а я не ваша избалованная дочка.
– Бируте, ты хорошо знаешь меня: я хороший человек, но, если потребуется, могу быть и очень плохой.
– Вам ничего и не остается! Вы приманили Виктораса добротой, а оттолкнули ревностью, теперь собираетесь вернуть его местью, а чем опять оттолкнете?.. Смертью?
– Ты – ведьма!
Не дождавшись мужа, она умчалась своей дорогой и оказалась в больнице у Стасиса. Вскоре вернулся и тот, кашляя и задыхаясь, словно расхворавшийся шестидесятилетний старик.
Саулюса разбудила страшная боль, от которой мутился разум. Вокруг него двигались белые бесформенные фигуры. Они что-то делали и плавали в густом, наполненном клейким страданием пространстве. Через некоторое время все как бы впечаталось в прозрачную и холодную глыбу льда. Малейший шорох проникал в мозг и замораживал мысль. Потом на него снова стали сыпаться гроздья рябины…
– Где Моцкус?! – закричал он, придя в себя, и снова зажмурился: перед ним стояла Бируте! Она была в тесном, не по росту халатике, заплаканная, но такая же большеглазая и чуть неуклюжая, как в тот день у костра, когда стыдилась своих неприкрытых, мокрых от росы икр. – Простите, – застонал Саулюс, – за все простите, – сильно сомкнул веки, стараясь побороть боль, а когда спустя минуту открыл глаза, ее уже не было.
Время делало свое. Через несколько дней все обрело черты реальности и обыденности. Его уложили на жесткие, чуть покатые доски, надели под мышки кольца, взнуздали подбородок, обвязали ремнями и растянули. Исчезла боль, вернулось сознание. Тогда до него дошли шепотом и вслух произносимые слова сочувствия. И чем внимательнее были навещавшие его друзья, тем отчетливее проникало в каждую живую клетку страшное предчувствие, что вторая, потерянная, как ему казалось, во время аварии половина тела уже никогда не оживет, что доктора только из жалости и на всякий случай соединили ее с другой частью тела. Наконец это предчувствие превратилось в уверенность: все кончено.
И когда, рядом с уткой в руках снова появилась Бируте, он спросил:
– Это вы?
– Я.
– Как хорошо!.. Вы скажете мне всю правду, да?
Она вытерла слезы.
– Что тут скроешь – сломан позвоночник.
– А доктора, что доктора?! – В этот крик он вложил всю свою надежду, всю веру в чудеса, в суеверия, врожденное желание человека достичь невозможного. Но Бируте в его голосе услышала только страдание, мольбу о помощи.
– Доктора – ремесленники, – пожалела она больного, – когда сами ничего не могут, уповают на всевышнего: мол, будем надеяться… Поправляются неизлечимые, умирают здоровяки.
– Спасибо, – поблагодарил он и тут же почувствовал, как все его существо восстало против этой убийственной логики, убеждающей в ничтожности человека.
Господи, как легко десятки раз за день осуждать себя, – он вытирал холодный, покрытый испариной лоб, – как просто пугать других, угрожая им своей смертью, и как бесчеловечно страшно услышать от другого, что ты обречен.
– Мы с Моцкусом к вам ехали, – заставил он себя улыбнуться и попросил: – Дайте мне руку. – И, думая о Грасе, признался: – Я лгал, в ту ночь я ехал к вам. Ругался всю дорогу, сам с собой боролся, но спешил…
– Я знаю.
– И еще: вы должны помочь мне.
– Не понимаю.
– Только не сердитесь. Я никому не смог бы доверить это, даже матери, даже жене, а вам – могу, – он перевел дух, стараясь окончательно победить себя, и, стиснув ее пальцы, принялся горячо объяснять: – Я не хочу сделаться таким, как Стасис. Не могу, не имею права цепляться за жизнь, как вошь за воротник, только чтобы превратить жизнь других в сущий ад. И пока болезнь еще не затронула мой мозг, пока мой разум еще светел, пока я не превратился в животное… Помоги мне, ведь ты добрая.
Бируте сидела, боясь шевельнуться, и напряженно думала. Потом осторожно убрала пальцы.
– Но у меня рука тяжелая, – рассмеялась через силу. – А если сразу не поможет?
– Не верю! Я не хочу верить ни в единое слово из этой сказки про Стасиса и яд.
– А Моцкус поверил.
– Его дело. Я совсем не потому, я только тебя, одну-единственную, здесь знаю. Ты не сердись. Я как к подруге, как… – хотел сказать: «как к матери», но сдержался, сообразив, что такое обращение было бы слишком тяжким и для него, и для нее.
– За что я должна рассердиться? – она все отдалялась от него и становилась холоднее.
– Что встрял между вами, словно судья какой-то… И что рылся в вашей жизни, как свинья… И что прошу такой помощи…
– Никуда ты не встрял и ничего ты не знаешь, потому что я еще никому своей правды не рассказывала, боялась, как бы, выговорившись, не стать пустой и глупой, как Марина. Хватит. Кроме того, я и на Стасиса насмотрелась.
– Но ты защищала его!
– А что я должна была делать, если тебе машину стало жальче, чем меня?
– Я совсем не такой, каким иногда кажусь, – Саулюс снова хотел взять ее руку.
– Ребенок ты. В больнице я оказалась по своей воле, ибо решила, что куда полезнее лечить больных, чем калечить здоровых.
– Врешь.
– Пусть так. А что, по-твоему, человечнее: отравить одного мерзавца, который приговорил к смерти тебя, твоего любимого и твоего еще не родившегося ребенка, или пожалеть его и продолжать смотреть, как он потихоньку калечит и уродует все, что тебе дорого и любо?
– Не знаю.
– Тогда почему судишь? Почему просишь меня, если сам еще не решился? Если ты такой герой, надо было всю жизнь носить ампулу яда в воротничке. Ишь каков!.. Он, как в кино, честно протянет ноги, а ты потом мучайся из-за него до гробовой доски, кайся за чужие грехи…
– Я к вам как к товарищу, я только хотел…
– Хотел ты или не хотел, но сказал, – она немного оттаяла. – Думаешь, у бабенки уже есть опыт, и все будет хорошо. Я казнюсь только потому, что тогда сразу не сделала этого. Думала, Моцкус окажется более мужественным, а он только тянул все, тянул, пока веревочка не кончилась. Душа потрескалась, прогоркла, и не осталось в ней места для счастья. Он думал денежками, ласковыми речами от зла откупиться. Подлецы только жиреют от этого. Теперь уже поздно, мальчик. Все во мне перегорело, остался лишь долг, ни большого ума, ни больших усилий не требующая необходимость жить и не выделяться среди других. Не поладили мы с Викторасом и не могли поладить: я думала, что для счастья достаточно не замечать ложь, но оказывается, ложь надо раздеть, как учит сам Викторас, сорвать с нее блестки и пустить в мир голой, как правда, чтобы она своим отвратительным ликом постоянно пугала всех и каждого. А Моцкусу стало жаль этих блесток. Он все так запутал, что чуть не погубил и себя, и меня… Это напоминает мне одну гнусную сцену, которую я видела в кино, когда талантливые, аккуратно одетые юноши разбили в щепки новенькое пианино только для того, чтобы эти щепки пролезли в вырезанную в доске дыру. Но еще глупее, когда взрослый человек, глядя на эту кучу обломков, удивляется, почему пианино не играет? А музыка все равно нужна. Без нее нельзя. Но человек – не вещь. Он становится человеком, только когда живет среди других людей. Я не знаю, кто и почему все так устроил, но, поверь, как прикоснешься к другому, так зазвенишь и сам, – как аукнется, так и откликнется… Яд из аптеки я принесла для себя. Вот в чем была моя ошибка. Но бутылочка пропала. Я думала, этот дурень со своими лекарствами перепутал. Перепугалась и влетела в его комнату как сумасшедшая, разбила, расколотила все и с плачем призналась, что никогда не смогу быть судьей – ни себя, ни других судить невозможно. Боже упаси! – Она поправила волосы. – Но, оказывается, я опять ошиблась. Моя решительность еще останавливала его, а когда он сообразил, что и я такая же трусиха, то украл эту бутылочку, начал шантажировать меня и пугать прокуратурой. Надо было спасать Виктораса, спасать подругу, работавшую в аптеке, думать о ребенке, поэтому я унижалась, умоляла, жертвовала собой, пока не превратилась в тряпку. Зло – болезнь заразная. Выдержать ее может только человек, переживший большое горе. Я долго не понимала, откуда у сильных людей эта чудесная невосприимчивость ко злу? Теперь знаю: такими их делает страдание. И поэтому оно необходимо нам не меньше, чем счастье. Вот что, милый, и хотела сказать тебе тогда у озера, но ты был нетерпелив и не совсем красиво прогнал меня прочь.








