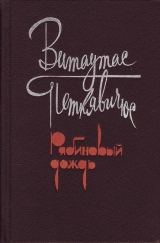
Текст книги "Рябиновый дождь"
Автор книги: Витаутас Петкявичюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
Это святотатство, подумал Саулюс, но по привычке скрыл свои чувства к начальнику.
– А насчет головы?
– Не очень-то она мне тогда нужна была.
– Но все-таки, – допрашивал, словно прокурор, – в магазине запчастей такие вещи пока не продаются…
– Если бы и продавались, дурак не нашел бы более подходящей. А насчет той истории – ничего особенного. Все случилось так, как и должно быть на войне: немчик нарочно это ружье оставил и заминировал. Только протянул руку, смотрю – тонюсенькая проволочка в стену уходит. Перерезал осторожно, но она, проклятая, все равно бабахнула. Хорошо, что догадался шкаф задвинуть, иначе быть бы мне в вечном отпуске…
Водка шла как в бездонную бочку, словно заграничный джин, приправленный запахом увядающего можжевельника и невиданными блестящими картинками.
– Я бы такое ружье ни за какие деньги не отдал, – вспыхнул Саулюс. – Ведь это реликвия, это свидетельство, что не с дурачками воевали.
– Так уж получилось, и теперь поздно жалеть. Он меня в тюрьме навестил, мол, все равно жена за бесценок спустит… Ну, я и черкнул ей записку. Написал, спасая детей, чтобы она взяла деньги у Моцкуса. А потом сколько он мне помогал! Какие характеристики дал! Как родному брату. Я года не отсидел и снова на работу вернулся. Но даже не это главное: не сказав ни полслова, он взял меня на старое место и никогда больше не напомнил об этой моей беде. Да что языком чесать, лучше давай выпьем! За твою молодую жену и за тебя!
С подозрением взвешивая каждое слово Йонаса, Саулюс опрокинул стаканчик и даже не поморщился.
Он или придурок, или святой, решил Саулюс и зло спросил:
– Ведь она эти твои деньги наверняка с другим?..
– Может, немного и уплыло на сторону, но что тут такого? Детям тоже хватило.
– Дурак, – Саулюс ткнул вилкой ему в бок. – Патентованный! Ведь он не из-за тебя, он из-за этого редкого ружья старался. А если уж хочешь откровенно – ты сам ходячая характеристика. В гараже тебя иначе уже не называют – Текле в сапогах!..
– Ну, тут ты переборщил. Тогда весь коллектив на меня ополчился, из партии поперли, а он – понял. Ну, давай до дна.
– С таким тюхой я больше не пью! – разгорячился Саулюс и встал. – Ни капли.
– Как хочешь, – Йонас пожал плечами, словно речь шла о постороннем человеке, и с трудом проглотил обиду. – Когда я учился в автошколе, – начал издалека, будто желая смягчить разговор, – такой же красивый и горячий был, думал, весь свет на четырех колесах объеду, всю правду и неправду собственными глазами увижу, по меньшей мере – за счастье людей на костер взойду, а теперь – покупаю на базаре вынесенную с фабрики шерсть и вяжу детям носки. Правда, еще по собственному желанию в заочный клуб телепутешественников записался, вот и все. Словами – это не руками. И тебе горячиться не советую. Лучше книгу возьми, раз вязать не любишь. Вот до меня возил нашего шефа такой деревенский тюфяк. Ему только пугалом в огороде стоять. А все читал, все учился. Бывало, как только остановится где-нибудь – сразу за книгу, уедет на охоту – читает, пока аккумулятор не сядет… И что ты скажешь? – Он помолчал, будто взвешивал каждое слово. – Теперь этот тюфяк сам по охотам разъезжает, а наш уже не раз под его дверью подписи ждал. А было время, когда он этого тюфяка даже на работу брать не хотел.
– Нет! – поежился Саулюс и поперхнулся. – Нет! – кашлял сквозь слезы, бил себя кулаком в грудь и, с трудом переведя дыхание, попытался оправдаться: – Не туда пошло… – Пил, запрокинув голову, минеральную воду и, немного отдышавшись, чуть потише попросил: – Ладно, давай не будем ругаться. Лучше расскажи, как жена от тебя сбежала?
– Чудной ты какой-то, – рассмеялся Йонас. – Жены просто так не убегают. Нашла кавалера, тот научил, вот она, курочка, и говорит: «Знаешь, Йонялис, мы не мещане, давай не делать из этого трагедию. Разделим все без скандала: что твое – тебе, что мое – мне, и разойдемся, как хорошие друзья».
– Ну, а ты? – Саулюс снова сел.
– А что мне, на цепи ее держать? Насушил мешочек солдатских сухарей и дал на дорогу. Говорю, пригодится, а она – гордая! – не берет. Но когда из тюряги вернулся, даже сухарей не осталось: нашел ее голенькую. Если б ты знал, как этот философ, этот немещанин ее ощипал!.. Она уже на вокзал бегала подрабатывать, лишь бы поставить этому интеллектуалу к обеду бутылочку сухого.
– И ты после этого опять ее принял?! – Саулюс даже наклонился к Йонасу.
– А куда мне деваться? Трое моих ребятишек, четвертый ее… Да больной вдобавок.
– Я бы с нее шкуру спустил, голову оторвал, я не знаю, что бы с ней сделал… Как она могла? Как она вообще?..
– Бил и я, – защищался Йонас, – да еще как! Только ничего не добился. Однажды пришел я чего-то злой, так он, как кот, с третьего этажа по балконам прыгал, а ее я вытащил из постели за косы и до тех пор бил, пока двигаться не перестала. Потом прокуратура, суд. За нанесение тяжких телесных повреждений меня чуть под указ не подвели. А сколько защитниц у нее появилось! Комсорг, парторг, профорг – весь женский комитет при домоуправлении поднялся. Мол, эмансипация! Потом к ним еще несколько корреспонденток, старых дев, присоединилось. Разозлившись, что их никто не берет, не бьет, не любит, такие страшные статьи напечатали, что я прочитал и даже сам поверил: изверг этот шофер первого класса Йонас Капочюс, а не человек, буржуазный пережиток он, кровопийца, только не бывший солдат шестнадцатой дивизии. Опять читал и уже сомневался, думал, они что-то перепутали, другого, на меня похожего негодяя описали, но на суд-то вызвали меня.
Конечно, не в этом суть. Как сегодня помню: иду между двумя милиционерами и ни о чем не жалею. Даже о детях не вспоминаю. Думаю, пусть только подвернется эта шлюха под руку – убью, чтобы знать, за что в тюрягу попал. Иду и ног поднять не могу, словно по растопленному вару бреду, одна лишь злость во мне кипит и сознание затмевает. Это чувство безысходности, незаслуженной обиды как бы моим вторым «я» стало. И вдруг вижу: по тротуару бежит она. Запыхалась, раскраснелась… И улыбается, и слезу вытирает, змея. Я уже выбрал, куда ее ударить. Камушек сподручный взглядом нащупал… Оттолкнул в сторону милиционеров и рванулся к ней, но в последнюю минуту вдруг наткнулся взглядом на стоящих в очереди людей и остановился как ошпаренный. Сам не знаю, почему разогнал их, почему влетел в магазин и, схватив с полки поллитровку, сорвал пробку и тут же выдул залпом. Не слушал, о чем трещат перепуганные бабы, что кричат мужчины, только почувствовал, что еще живу, что еще долго буду жить и не исчезну вместе с ней и с посеянной ею злобой. Словно заново родился… и лишь потом порядочно окосел и обмяк. После этого одна корреспондентка даже статью написала: мол, украденная бутылка еще раз убедительно показала, в кого превращается человек, ставший алкоголиком, – и тут же от имени всех честных женщин потребовала: мужчинам следует продавать только пиво, и не чаще как по случаю государственных праздников или по запискам жен.
Саулюс больше не слышал выстрелов, так возмущавших его, только дрожал от волнения, пожирал Йонаса глазами и не мог понять, как это приятель, рассказывая такие вещи, остается спокойным и даже голос не повышает, точно эта история произошла не с ним.
– А перед тем как выйти на свободу, стал получать я от жены посылки и письма, детишками нацарапанные… И поверь, не из-за нее я изменился. Там я не таких бедолаг повидал, и, когда вернулся, уже и рука не поднялась. Она плакала, умоляла, мол, хоть служанкой своих детей оставь…
– И оставил?
– Я уже говорил, – впервые поморщился Йонас. – Нам теперь куда лучше, – ушел от прямого ответа. – Дороги хорошие, гостиницы, телефоны… За день-другой обернешься – и снова дома. А тогда, бывало, как выгонят с начальником на посевную или жатву – по нескольку недель не возвращаемся. Может, и моя вина тут была – не отказывался, когда находил бабу посговорчивее.
– Я бы не смог.
– Как тебе сказать?.. Человек, без нужды приносящий клятву, куда страшнее клятвопреступника. Помни это, Саулюс, и немножко успокойся. Я тебе как другу скажу: о такой жене, какой была она у меня после всех этих злоключений, даже мечтать не смею… Словно молодожены жили, детей вырастили, образование им дали, дачу за городом построили.
Солнце накололось на редкие, чахлые деревья, растущие на болоте, и стало медленно погружаться в глубь леса. Над озером собирался туман. Йонас вколотил ногу в сапог и принялся командовать:
– Ты, Саулюкас, здесь убери, а я пойду палатку натягивать. Видно, сегодня уж точно не вернемся. Картошки надо начистить, котелки помыть.
А Саулюс снова вспомнил оставленную дома молодую жену.
– Я им не повар, – вдруг ощетинился. – Не горничная, не слуга и не шестерка!
– Ну и дурной же ты, парень. Разве дома комнаты никогда не подметаешь, обед не варишь?
– Это дома.
– А здесь жрать не надо? – Он размял вколоченную в сапог ногу, походил вокруг машины и стал работать, не обращая внимания на Саулюса. Забил колышки для палатки и, о чем-то поразмыслив, сказал: – Самое обидное не это. Стремишься к чему-то, вкалываешь, разрываешься и, пока чего-то добьешься, порядочно устанешь. А когда наконец начинаешь жить спокойно, голова тупеет, обрастаешь жиром и ничего вокруг себя не замечаешь. Видно, чтобы человек не отвык думать, жизнь должна то и дело, и притом довольно чувствительно, бить его по одному месту. Вот откуда и разум, и опыт, и сказки-присказки. Может, только любовь иначе приходит, но без страданий даже она – мыльный пузырь.
– Болтовня! – оскорбившись, вскинулся Саулюс. – Вымысел агитаторов. Значит, чем сильнее будет бить жизнь, тем больше мудрецов появится, правильно я тебя понял? Чем больше жена будет крутить хвостом, тем возвышеннее станет наша любовь, да?
– Ты не туда сворачиваешь…
– Я не страдать – я любить хочу. Хорошо тебе быть мудрецом, когда сам уже ничего не можешь! А что мне делать – ждать, пока постарею? Стеклянным забором отгородиться и мучить друг друга?
– В этом, Саулюкас, и кроется суть: собственная боль, собственные ошибки куда милее даже величайшего добра, полученного из чужих рук. Даже самая прекрасная вещь, навязанная тебе, уже не вещь, а орудие насилия; даже прекрасная мысль, которую вдалбливают тебе, уже только источник досады. Кто же согласится весь век один и тот же лапоть носить, пусть даже золотой? Никто! Людям необходимо разнообразие и в делах, и в мыслях. Поэтому и тебе не стоит ломать себе голову: делай, как тебе лучше, чтобы потом не обвинять других. Будь мужчиной и послушай старшего.
– Как тут не послушать! Теперь на шее маленького человека столько воспитателей сидит, аж страх берет. Каждый все на свой аршин мерит. И превращается твоя жизнь в концерт по заявкам: начальнику – одно, друзьям – другое, профсоюзу – третье, комсомолу – четвертое, а самому что остается? Растягиваешься, как старый лапоть, приноравливаясь к каждому, потом в зеркало на себя взглянуть стыдно. Не настоящим, а каким-то заявочным становишься и затасканным, словно полонез Огинского, – Саулюс совсем опьянел. Он смотрел на остатки водки и не мог понять, почему вот так сидит, чего ждет сложа руки и слушает, как Йонас вытягивает из него жилы, словно нитку за ниткой, и с наслаждением набрасывает на потертые спицы петли, которые кажутся живыми и так нервируют его. Вдруг страшное подозрение кольнуло в сердце. Он глянул на часы – половина седьмого. – Хорошим, но затасканным, слышишь?! – допил водку. – И поэтому иногда мне хочется побыть плохим, даже очень плохим, но самим собой. Тебе понятны, господин ветеран, такие желания или нет?
– Чего тут не понять!.. Быть плохим нынче даже модно.
Саулюс уже ничего не соображал. Он смотрел на Йонаса, но мысленно уже был дома. Он уже не принадлежал себе. Он внушил себе эту идею, и она завладела им, а водка освободила последние тормозные центры. Саулюс вскочил.
– Послушай, а Игнас теперь в отпуске? – спросил с тревогой.
– Какой Игнас?
– Ну тот, знаешь, что на артиста похож и в бабочке ходит.
– Тот, что на пикапе ездит?
– Ну?
– Кто его, черта, отпустит! Машину вчера разбил. С грузовиком поцеловался, вот теперь и ремонтирует за свои кровные.
Саулюс побросал одежду в машину, покопался в моторе, включил стартер и на второй передаче рванул с места.
– Куда?! – испугался Йонас.
– Не твое дело.
– Не дури, пьяный машину разобьешь!
Но Саулюс ничего не слышал. Он словно ошалел: выжал до конца акселератор и на полной скорости понесся по извилистой лесной дороге. Нет, он только притворился, что ничего не расслышал, так как через часок, застрявший где-то глубоко в подсознании, его еще раз догнал голос перепуганного товарища:
– Парень, не играй со смертью!
Оставшись один, Стасис обошел все курящиеся костровища, носком сапога отбросил несколько головешек, оказавшихся за границей круга вскопанной земли, и через лес отправился на пастбище за лошадью.
«Поможет мне эта часовенка или не поможет, но дуб я все равно привезу домой, – снова распаляемый воспоминаниями, подумал он и стал сдерживать себя: – А если они за такое страшенное дерево мне статью пришьют?.. И пусть. Отсидел бы что положено и вернулся, вольный как ветер. Господи, если бы от этого полегчало, я бы добровольно в тюрьму сел, свечу бы им поставил… Самую толстую! Но разве откупишься? Все намного сложнее. Мы замечаем за собой только то, что уже давно в себе носим. Неправда, что побеждают сильные. Они побеждают и погибают. Выживают слабые, так как они приспосабливаются. Такой ценой они платят за победу». Дойдя до запруды, Стасис не спеша помыл руки, смочил шею и лицо, а потом долго любовался модной баней, отражающейся в ручье. Ему нравилось стройное, придвинутое к откосу здание, белые ступеньки, уходящие в воду, красная крыша и желтоватые, аккуратно оструганные доски, как бы беседующие с ним каждым темным сучком. Он долго ласкал взглядом цветущие розы и ломоносы, восхищался голубоватыми свечами туй над зеленой изгородью, пестрыми, посыпанными песком дорожками и большими камнями, пока его взгляд не задержался на возвышающемся в сторонке альпинарии. Увидев его, Стасис нахмурился и передернулся.
Если бы отец не погиб, – снова ухватился за прошлое, – и я теперь жил бы иначе. Выучился бы и сегодня, может, не по таким баням разъезжал, не за таким столом сидел бы… Вот какова цена жизни: молокососы тополь взорвали, поиграли, так сказать, в войну, а его, бедного, – в яму, мол, оружие прятал, взрывчатку для партизан хранил…
И снова вспомнил, как ждал отца, как вздрагивал, когда хлопала дверь, как, увидев человека, сворачивающего к их хутору, бежал ему навстречу, а потом плелся обратно и со страшной болью в душе молился:
«Господи, ну что значит для тебя один человек? Ну, сделай так, чтобы он вернулся! Выслушай меня, а я всю жизнь буду верно служить тебе. В монастырь уйду, все святые места на коленях обойду…»
Мать заказывала обедню, сзывала соседей петь псалмы, а встретив учителей, со слезами клялась:
«Пусть только отец вернется, я сына ни на час дома не задержу, в ту же минуту отпущу. Даже и на последний урок – пусть ребенок учится».
Но отец не возвращался. Бог поскупился на чудеса. Он был глух и к молитве, и к страданиям, однако не забыл, когда началась война, уложить в могилу обоих младших братьев.
Изможденный непосильной мужской работой, Стасис попрекал его, а иногда, потеряв терпение, осыпал отборной бранью, но ничто не менялось: дети, погубившие его отца, ходили в школу, а Стасис, поднимая тяжелый мешок, надорвался. В больнице, мучаясь от постоянных болей, он многое обдумал. Надо было или смириться с судьбой, или плюнуть на все, чему научила его богобоязненная мать, и восстать против собственной, но кем-то предусмотренной и запрограммированной покорности, надо было самому что-то изменить, разрушить устоявшийся порядок, только ни в коем случае не ждать милости неизвестно откуда… Нет, тогда он был еще слишком молод для таких мыслей, однако отчетливо чувствовал, что человек, отвергнутый от добра и красоты, раньше или позже начинает служить злу… Нет, и для этого ощущения Стасис тогда еще не созрел. Все пришло гораздо позже, когда, разозлившись, вдруг подумал: «Ведь черти не появляются сами по себе, их порождает равнодушие господа бога…» Нет! Нет! Ничего подобного не было – так он думает теперь, обиженный и помеченный высочайшей несправедливостью, называемой роком. А тогда он каждую свободную минуту спрашивал себя и бога: «За что?.. – И, не получив ответа, богохульствовал, как еретик: – Неужели ты, господи, глух и слеп? Неужели у тебя нет сердца и чувств?.. Кто ты такой, если ничего не можешь?.. – И, испугавшись подобных мыслей, снова спрашивал: – А может, это полное равнодушие и есть высшая истина?..»
Вернувшись из больницы, Стасис уже не плакал, наблюдая, как дети возвращаются из школы, терпел, стиснув зубы. И, не найдя никакого утешения, принялся отыскивать виновников своего несчастья. Расспросил малышей, кто их подстрекал, кто научил, и твердо убедился: Вайчюлюкас… И эти двое его постоянных спутников – увалень Навикас со старшим Пожайчюкасом.
Отыскал – и словно камень с души свалился. Теперь уже не надо было ссориться с богом, не надо было замахиваться на всех и на себя, не надо было сокрушаться и ломать голову – перед ним ходили живые виновники, с исчезновением которых сразу же должны будут исчезнуть и все несчастья, преследующие Стасиса. Так постепенно безысходность превратилась в злобу, потом – в досаду, которая очень скоро переросла в хорошо осознанную и призывающую к действию месть. Зажав в ладони спички, он не раз бродил по ночам вокруг хуторов Вайчюлиса, Навикаса, Пожайтиса, намеревался пустить их по ветру и хоть так заставить этих подлецов страдать. Он хотел честно поделиться своей непосильной ношей с теми, которые так бессовестно взвалили ее на его плечи. Однако в мечтах судить и карать было куда легче, чем в жизни.
«Не приведи господь, что бы тут началось, если бы каждое наше проклятие сразу же осуществлялось! – Он даже сейчас передергивается, вспомнив, как задумал тогда превратиться в перст божий и что у него вышло из этого замысла. – Нет, нельзя взваливать на человека такую ответственность, – ругает себя и оправдывает: – Но иногда надо. Ой как нужны испытания, чтобы подлецы не обнаглели окончательно… – Наклонившись, распутал лошадь, привязал веревку к уздечке и неторопливо повел скотинку домой. – Что ни говори, но есть какая-то высшая справедливость, – решил и тут же почувствовал свою правоту: – И судьба есть, и бог, – Жолинас может засвидетельствовать это, – и ни страдания, ни молитвы, ни чрезмерная распущенность – ничто в жизни не проходит без следа».
Это случилось в их первую зиму без отца. Он ехал за дровами, а Вайчюлюкас со своими неразлучными дружками катался на пруду. Стасис уже хорошо не помнит, но, кажется, во второй раз нагрузив сани, он пешком тащился домой, когда услышал крики. Он схватил жердочку сподручнее, подбежал к пруду и остановился как вкопанный: среди обломков льда в черной воде барахтался Вайчюлюкас и визжал страшным голосом:
– Спасите!
Стасис протянул ему жердочку и сам не почувствовал, как тут же отдернул ее. Даже теперь не может сказать, почему так поступил, но в ту минуту ему больше всего хотелось посмотреть, как мучается тот, который поджег бикфордов шнур, который приказал малышам кричать: «Стасис, выйди!..» Ему было страшно приятно слышать, как этот хулиган, гроза всех девочек, смотрит на него ошалелыми глазами и умоляет, словно всевышнего:
– Стасис, Стасялис… Хватай меня!..
Но Стасис не спешил. И лишь когда сбежавшиеся дети стали торопить его и визжать, он снова протянул жердочку, но Витас уже не мог ухватиться за нее: от ледяной воды заныло под ногтями, пальцы не повиновались.
– Визжишь? – наконец заговорил Стасис. – А почему ты не визжал, когда из-за твоих дуростей немцы увели моего отца? Ты даже извиниться не пришел! – Но Вайчюлюкас ничего не понимал, только хватался за края полыньи и скользил, только хватался и скользил…
– Видишь, как трудно подыхать преждевременно!..
Вайчюлюкас смотрел на него как на единственную возможность остаться в живых и не понимал, почему тот истязает его, за что губит, почему запихивает обратно в воду и не спасает?
Жолинас заигрался. Барахтаясь, Витас выломал лед, и в тот же миг Стасис оказался в воде. Сначала он испугался, вскрикнул, но наполненный воздухом полушубок тут же поднял его на поверхность, а в следующее мгновение на его спине уже очутился Витас и так крепко обхватил руками шею, что спасатель начал задыхаться и закатил глаза. Уже ничего не соображая, он стал опускаться на дно, но воды в пруду было по шею.
Несколько передохнув, он скинул товарища на лед, стынущими руками подтянул к себе жердочку, лег на нее и без труда выбрался на берег.
– Дерьмо ты, дерьмо! – сказал под всеобщее оханье. – Ведь ты, подогнув ноги, кричал! – И, чтобы придать весомость своим словам, пнул ослабевшего утопленника в зад.
Стасис тогда схватил жестокий насморк, не было времени болеть серьезнее, а вот Вайчюлюкас так и не поднялся с постели: сгорели легкие. Вернувшись с кладбища, старый Вайчюлис зашел к Жолинасам, сидел опустив голову, молчал, мял треух и на прощание сказал:
– Он в бреду все время тебя звал.
Стасис молчал.
– Видишь, Жолинюкас, напрасны были твои старания. Из-за болезни Витаса я тебя даже поблагодарить как следует не успел. Но ты не бери в голову: соседи должны оставаться соседями. Когда нужда совсем прижмет, дай знать, – и ушел, оставив в комнате принесенный с кладбища запах похорон и страшную правду, в подлинности которой Стасис не мог усомниться ни на миг: Витас и после смерти звал его каждую ночь, не позволяя спокойно сомкнуть глаза, преследовал и днем, когда у Жолинюкаса выпадала свободная от трудов минута и он сваливался передохнуть. Витас не давал покоя ни в избе, ни в поле, ни дома, ни в гостях; только Стасис оставался наедине со своими мыслями, он был тут как тут.
«Только ты меня хватай!» – этими словами Вайчюлюкас иногда молился Стасису, а иногда и проклинал его, но постоянно преследовал и пугал. Витас плакал во дворе за стеной, хлопая сорванной с крючка ставней, или негромко ухал в давно не ремонтированной трубе, а Стасис защищался от него то подвернувшейся под руку березкой, то заталкивал товарища обратно в полынью, в кипящую воду, в смолу или в какую-нибудь бездонную пропасть, наполненную всякими гадами и страхом. А иногда все переворачивалось: Стасис нападал на Витаса, тот защищался – с остекленевшими от ужаса глазами, неподвижными, посиневшими пальцами и перекошенным от боли лицом. Он – никто, полумертвый, мертвый и посиневший… Он не может защищаться. Но вот Вайчюлюкас снова оживает, возвращается в этот мир и выбирается из разрастающейся черной полыньи, садится на шею Стасису, а Стасис его – палкой, жердочкой и кулаками, ногами и зубами…
– Ты дерьмо, ведь ты со страха поджал ноги! – Эти слова Жолинас повторял, вскочив в постели, выкрикивал их, не в силах проснуться от кошмарного сна, он защищался ими от угрызений совести, он повторяет их и теперь, хотя чувствует, что, произносимые слишком часто, они давно уже превратились в проклятие.
«Для мести нужна благородная душа, так как в руках подлеца месть сразу же превращается в преступление, которое не оправдать ничем, – рассуждает и снова искренне жалеет: – Почему нельзя эти противные, ранящие совесть слова затаскать до смерти? Почему эти злые слова забираются в душу и, словно подземные удары, вызывающие землетрясение, потрясают совесть? Господи, ведь даже горы, если их без нужды толкать, в конце концов разрушатся, а что уж говорить про человека…»
…После смерти Вайчюлюкаса Стасис уже и не думал мстить Навикасу и Пожайтису. Не мог. Но и обиды ни одному не простил. Как и раньше, ненавидел их, однако больше всего боялся, чтобы эта ненависть снова каким-нибудь образом не обернулась против него самого.
– Стасис, у тебя ум за разум зашел? – прервала его тяжелые воспоминания жена. – Иль ослеп? Ведь на стол с лошадью лезешь!
Он остановился и осмотрелся. За столом из неструганых досок, с ножками из неотесанных столбиков, ушедшими в свежескошенный луг, сидели все лесхозовские практиканты и хлестали пиво. Среди них, разнаряженная, чего доброго, уже под хмельком, ходила жена. Одной рукой она прижимала к боку большую чашку, а другой накладывала из нее мужчинам горячую закуску.
– Стасис, присаживайся к нам!
– Будет тебе дуться, ведь с рубкой покончено!
«Тебе-то что, а мне дерево чуть голову не размозжило… – Он умышленно прошел совсем рядышком с крикунами, искоса наблюдая за лошадью и поглядывая на так неожиданно нагрянувших в его хутор гостей, и от всей души рассердился на Гнедка, что тот послушно плетется за ним, словно оскопленный, и не хлестнет хвостом этих крикунов по глазам. Не обнаружив среди выпивох директора лесхоза, Стасис еще больше осмелел и подумал: – Чувствуется рука Моцкуса».
– Стасис, я же не Гнедку говорю! – рассердилась жена и походя толкнула его тяжелой чашкой в бок. – Отойди в сторону, грелка!
– Ты уже в юбке не умещаешься и опять начинаешь?
– Начинаю, – двусмысленно ответила она, – а ты, гляди, из штанов не вывались.
Стасис понял, что дальше злить жену нельзя, поэтому осадил лошадь, заслонил от нее стол и примирительно сказал:
– Что правда, то правда: здесь воздух пьешь и воздухом закусываешь.
– Чудо, не хутор, – удивлялись горожане, – но и труда сколько вложено!
– Да разве одному, без помощи лесхоза, удалось бы такое сделать, – заскромничал Стасис, увидев вылезающего из подъехавшей машины директора. – Вот и сегодня у директора древнюю ель, что еще бортникам служила, выклянчил, а вот дуб он отказался дать.
– Все-таки свалили эти черти старика? – прислушалась жена.
– Свалили.
– А зачем он тебе?
– Еще и сам не знаю. Вот молодежь говорит, что часовенка тут возле пруда нужна. Теперь это модно. Хорошо, если бы ты прибралась, накормила гостей и помогла мне.
– Хорошо, но мне это не нравится.
– Что, опять Моцкус к тебе посватался?
– Знаешь, Стасис!..
– Знаю, знаю… Уж и сказать нельзя.
– Иди посмотри баню.
– У меня каждый день баня.
– Кому я говорю?
– Ну, иду уж, иду, вот только лошадь запрягу, – Стасис и не думал торопиться.
Весь превратившись в слух, он шел нарочито медленно и уловил, как, подойдя к столу, директор упрекнул Бируте:
– Это вы зря, он хороший человек.
– Хороший, – Бируте хотела казаться равнодушной, но не могла. – За десять лет я ему ничего плохого не сделала, и десять лет он меня подозревал, что могу что-то натворить. Теперь мы чужие, но он все равно с меня глаз не спускает.
– Наверно, любит очень.
– Любит, – Бируте тяжело вздохнула. – Нелегко без любви, но не приведи господь, когда ее слишком много.
– Вы не совсем правы, – Стасис вдруг обернулся и увидел, как директор обнял его жену. – Кроме того, сегодня он был на волосок от смерти.
– Ничего ему не станется… – Он не расслышал ее слов, но почувствовал, что она сказала, поэтому зло дернул лошадь за уздечку, развернул и заставил попятиться к лежащим на земле оглоблям.
– Но-о, чтоб тебя черти!
Саулюс страшно торопился. Мимо мелькали стоящие и поваленные деревья. Подпрыгивая на оголенных ветром корнях, машина задирала нос, раскачивалась и, словно живая, огибала все чаще встречающиеся препятствия.
«Ни черта, – парень прямо-таки сросся с ней, – не корова, не сбросишь. – Он выделывал такие виражи, будто защищал спортивную честь страны на международном кроссе. – Ишь теоретик нашелся! – не мог забыть Йонаса. – Страдания ему подавай. Что, я ногу должен из-за любви сломать, палец себе откусить или в Арктику сбежать, чтобы свои чувства испытать? Книжный идиотизм! Один на Камчатке, другой в Пабраде, и от переписки рождается сын, здоровый советский ребенок… А может, мне развестись с Грасе, чтобы потом было что детям рассказывать? Может, к девкам сходить, потискать какую-нибудь Магдалину, а в последний момент встать, посмотреть на часы и извиниться: знаешь, красотка, я уже достаточно себя испытал и теперь пойду к жене… Болтовня! Изучение любви в чужой постели…
Нет, Саулюкас, – ему не нравилось разговаривать с самим собой, – этому уж не бывать. – Он даже вспотел, напряженно вглядываясь в проселок, но скорость не сбавлял. – Я не хочу делить супружескую постель ни с красавцем Игнасом, ни с неряхой Андрюсом, ни со святошей Йонасом, пусть даже меня за это на электрический стул будут по нескольку раз в день сажать! Она моя и только моя!» С ужасом представлял сцены измены, осуждал за это и судил, наказывал и мстил, ни разу не вспомнив о жалости или милосердии. Даже на дорогу не мог смотреть спокойно, возмущался каждой встречной колдобиной, а тем временем из леса вдруг вынырнула крупная, до блеска откормленная лошадь, которая тащила на телеге огромное бревно. Телега перегородила дорогу. Саулюс от страха изо всех сил надавил на тормоз и, видя, что ничего из этого не получится, резко вывернул руль вправо и перед самой мордой лошади, ломая кусты, перемахнул пологую канаву, потом бросил машину влево, однако она, потеряв скорость, стала на дорогу передними колесами и тут забуксовала.
– Куда тебя черт несет?! – Выскочив из машины, он схватил за грудки невысокого, пожелтевшего человечка, тот, перепуганный и растерянный, хлестал кнутом дорожную пыль и тонким голосом повторял:
– Но-о!.. Но, чтоб тебя… Но-оо…
– Глухой ты, подлюга проклятый, или дурачком прикидываешься?! – Он таскал человечка за грудки вдоль бревна, но ударить не посмел.
– Это еще что? – Из леса вышла высокая женщина, застегивая заправленные в резиновые сапоги мужские штаны, и встала между ними. – Ты вроде драться хочешь? – уперлась мягкой грудью Саулюсу в подбородок и предупредила: – Остынь, ведь видишь – лес кругом.
Саулюс не понимал – смеяться ему или ругаться? Скручиваемый болью, он глянул на ее округлое, но очень красивое лицо и удивился: на него смотрели два больших, необычайно спокойных и задумчивых глаза. В это мгновение он не сумел бы их ни с чем сравнить, только почувствовал, что ему стало куда спокойнее, уже не так колотила вызванная испугом дрожь. Немного придя в себя, он снова взялся за человечка:
– А если б я тебя убил?! Если б машину разбил?!
– Тогда и разговор был бы другой, – ответила женщина.
Ее преувеличенное спокойствие начало раздражать Саулюса:
– Я не с вами разговариваю. Пусть этот обормот ответит, почему дорогу загородил?
Человечек отошел в сторону и совсем уж неожиданно сказал:
– Как она велит, так и будет. – Он все еще не мог опомниться и несколько раз хлестнул кнутом по дорожной пыли.








