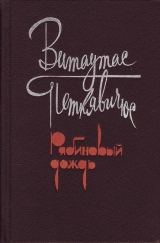
Текст книги "Рябиновый дождь"
Автор книги: Витаутас Петкявичюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
Саулюс уже не мог ни спорить, ни сердиться. Несколько мгновений нечеловеческого напряжения и молниеносная, неожиданная очная ставка со смертью, сознание, что за эти несколько мгновений он мог распрощаться с жизнью, обессилили Саулюса. Его охватила лень, руки налились приятным теплом. Он по привычке обошел машину, внимательно осмотрел крылья, буфер и тихо обрадовался: мало досталось. Поплевав на палец, потер царапины, оставленные мягкими ветвями молодой ольхи, и только потом увидел, что женщина идет вслед за ним и так же внимательно осматривает каждую царапину.
– Счастливчик ты, – сказала она и как бы в подтверждение своих слов хлестнула по голенищу сапога резным прутиком орешника.
– Спасибо за комплимент, – все еще дулся Саулюс. – А кто мне машину вытащит?
Женщина снова обошла машину, попыталась подтолкнуть ее, попыталась приподнять, но, увидев, что ничего путного у нее не получится, вернулась назад.
– Что ж будем делать, мать? – нерешительно переминался человечек. – Поедем или его матерщину слушать станем?
– Погоди, Стасис, – она еще раз глянула на машину, на Саулюса и, подтолкнув мужа в спину, приказала: – Сходи и посмотри, что ты наделал.
Человечек все еще растерянно переминался на месте и ждал указаний жены.
– Посмотрел? – еще строже спросила она.
– Ну…
– Тогда не жди чудес, а распрягай лошадь.
Слушая их диалог, Саулюс не выдержал и захихикал. Потом, как и пристало воспитанному человеку, отвернулся в сторону и рассмеялся от всей души.
– Весело? – рассердилась женщина.
– Очень.
– А если я разверну лошадь и возьму да укачу своей дорогой? – спросила она тем же строгим и не по-женски холодным тоном, хотя ее карие и необычайно большие глаза смотрели на парня довольно искренне, с сочувствием и пониманием. Желая казаться суровее, она наморщила лоб и спрятала доброжелательные глаза под черными и по-девичьи длинными ресницами. Потом, сосредоточившись, пристально поглядела на него. – Что тогда?
И Саулюс не нашел слов. Удивленный, он смотрел в глаза женщины и никак не мог понять, откуда столько твердости в их очень милом и спокойном взгляде. Тем временем человечек распряг лошадь и, не осмеливаясь сам что-либо предпринять, топтался возле машины. Женщина глянула на него и еще больше насупилась. Потом решительно подошла и надавила мужу на шею.
– Согнись и поищи крюк, баран, – ткнула пальцем в буфер. – Он здесь. – Улыбнулась шоферу: – Мы когда-то тоже собирались машину покупать.
Саулюс бросился помогать. Привязав валек, несколько раз с силой подергал веревку, проверяя узел, потом схватил вожжи и хлестнул лошадь, а сам прыгнул за руль. Гнедок напрягся, «Волга» без видимых усилий выбралась на дорогу и замерла с тихим урчанием. Саулюс вылез попрощаться.
– Чего хромаешь? – обеспокоенно спросила женщина.
– Наверно, вывихнул, когда тормознул, или черт его знает что.
– Нехорошо, – снова улыбнулась она и успокоила: – Вот и конец твоему горю. – Потом, будто ничего и не было, спросила: – И куда ж несся как угорелый?
– Домой, – не мог соврать Саулюс.
– К жене или еще к кому? – расспрашивала, словно старая знакомая или соседка.
– К жене, – объяснял как ребенок и почему-то подумал: «Но из-за нее и впрямь еще можно согрешить».
– И мой никак от юбки не оторвется, – сказала с какой-то только ей одной понятной болью. – Когда надо было в армию уходить, меня оставить побоялся, накурился чаю и пожелтел весь.
Человечек виновато улыбнулся и снова хотел улизнуть, но женщина схватила его за рукав:
– Поройся в бумажнике.
– Сколько? – сразу же понял тот.
– Хватит красненькой, – решила она.
– Не надо. За что? – смутился Саулюс.
– За страх, – объяснила она, – ну, и за эти царапины.
И опять Саулюс не посмел ослушаться. Взял червонец, сложил пополам, сунул в карман и, нащупав Йонасовы папиросы, предложил закурить.
– Он только чайный лист сосет, – женщина строго оттолкнула руку Саулюса. – А мне вроде и не пристало…
Человечек сдернул с грядки телеги вожжи, хлестнул кнутом по земле и погнал лошадь:
– Но-оо, чтоб тебя!.. Нно-о, браток… – удалялся с огромным бревном, а его жена все не хотела расставаться с Саулюсом.
– Вот и отлично, что ты такой сговорчивый. Если опять будешь в наших краях – загляни, не побрезгуй… Наш хутор тут первый за лесом. И постель найдется, и голодным из-за стола не встанешь. Ну как? – Она немного раскраснелась, говорила с ним как с добрым знакомым, смотрела на него милыми, ласкающими душу глазами.
– Заеду, – Саулюс не мог ответить иначе, хотя чувствовал, что говорит против собственной воли. – Обязательно, – и, совсем не желая обидеть ее, посмотрел на уезжающего человечка.
Заметив это, женщина слегка рассердилась:
– Ты его боишься?
– Не-ет, – промычал Саулюс, глядя на безнадежно согбенную спину измученного мужичка и не понимая, чем этот неудачник так привлек его внимание. В первое мгновение ему показалось, что они где-то уже виделись, а затем возникла уверенность, что они непременно встретятся, и еще не раз… И от неясного, недоброго предчувствия дрожь прошла по телу.
– Не волнуйся, он теперь только с теплой грелкой спит, – она сказала ему это будто доктору, нисколько не стесняясь и не думая, что ее могут понять превратно. Потом сдвинула платок на плечи, еще раз согрела его открытым, любопытным взглядом, тяжко-тяжко вздохнула, окончательно снимая с лица смущение и следы застенчивого румянца.
Саулюс застыдился этой откровенности, испугался и хотел юркнуть в машину, но, сделав шаг, припал на больную ногу и, сморщившись, остановился.
– Я же говорила: пройдет испуг – появится боль, – не растерялась женщина и, обхватив его, подвела к машине. – Садись, – открыла дверцу и рывком стащила намокшую туфлю. Снять мокрый носок оказалось несколько труднее. – Ого! – удивилась, а Саулюс даже вспотел, глянув на грязную и неприятно пахнущую стопу.
– Я сам, – дернулся, не зная, куда девать глаза.
Но женщина не проявила брезгливости. Отошла в сторонку, намочила в канаве платок, выжала его на стопу, помыла и, вытирая, проговорила:
– Чего покраснел?.. Как будто мать никогда твои пеленки не стирала. Все вы такие: грязи боитесь, а в грязь лезете.
– Я в болоте ноги промочил, – стал оправдываться, словно перед матерью, ибо чувствовал, как с каждым прикосновением ее рук уходит злость, накопившаяся за день, и как от этого ему хочется быть очень хорошим и послушным.
– Не слепая, – одернула она вспыхнувшего Саулюса и предупредила: – Но мне твоя нога не нравится, – помяла, потискала пальцами лодыжку и добавила: – Хорошо, если только вывих. – Потом, словно опытный хирург, стиснула стопу, с поворотом дернула изо всех сил и вправила сустав. Саулюс подпрыгнул, сморщился от боли, и она упрекнула: – Ну и слаб же ты…
– Какой есть, – оскорбился парень и машинально облизнул сухие губы.
– А дорога-то дальняя?
– Дальняя.
– До Вильнюса?
– Да.
– Не доедешь.
– Мне лучше знать. – Саулюс взял себя в руки, встал, хромая, доплелся до багажника, вытащил сухие носки, переобулся и снова сунул распухшую стопу в размякшую, влажную туфлю. – Ну, докторка, всего доброго!
Она улыбнулась ему словно ребенку, изображающему сурового мужчину, и снисходительно спросила:
– А кого же ты пугаешь этой своей суровостью?
– Сказал: какой есть.
– Не такой, – она опять рассмеялась, – и путаешь только себя. Теперь и пугают-то с улыбочкой, обходительно.
– А мне кажется: если не умеют уважать, пускай хоть боятся.
– По-детски все это. Если ты не веришь в себя, значит, пестуешь в себе великий страх. Тебе бы судебным исполнителем поработать или в хорошие руки попасть.
– В какие еще руки? – вроде не понял Саулюс, но про себя уже протестовал: не ее дело подозревать и учить меня. Чего она пристала? Чего лезет, будто за профвзносами?
– А мои не хороши? – Она рассмеялась, рассматривая свои руки, но глаза ее не повеселели. Они так и остались грустными; с легким упреком, как на несмышленыша, смотрела она на Саулюса. – Я же не слепая: тебе женское тепло теперь как воздух требуется.
«Ведьма», – подумал Саулюс и даже попытался рассердиться.
– Ты своего папашу как-нибудь отогрей, – сказал и словно грязью плеснул, но после этих слов не посмел прямо взглянуть на нее, а тайком посматривать ему надоело. К тому же он вдруг почувствовал, как изнутри начинает медленно подниматься эта хорошо знакомая ему трепещущая волна, такая горячая и так же приятно заволакивающая разум, как и в то утро, полгода назад, когда он с Грасе на руках, не разуваясь, вошел в речку… «Но ее я не подниму», – подумал с досадой и застыдился.
– Я с тобой по-хорошему, а ты уже камушки подбираешь. Нехорошо, – взгрустнула и стала ломать в руках палочку. – Кроме того, хоть я и нехорошая, но тебе неровня… и женщина.
– Вижу, поэтому и не сватаюсь. – Саулюс распалял себя и чувствовал, что на душе уже нет злости, осталась только какая-то незадачливая детская строптивость; он еще хотел побороться за свою мужскую честь, но и это желание тут же исчезло, его заслонил стыд. Опустив глаза, неожиданно буркнул: – Вы тоже не гладите по головке.
– Но ты не мой муж.
– Я и не собираюсь им стать.
– Спасибо, но ты напрасно дуешься. Ведь я стараюсь угодить не тебе, а твоему шефу.
– Ведьма, – буркнул в растерянности и стал пятиться, мысленно осуждая себя за такую глупость: «Может, мне не стоило говорить это? Может, она только пошутила? – И снова принялся обвинять себя: – А чего она лезет, чего навязывается? Ведь говорил я: тороплюсь к жене. Подумать только – красавица! Она, чего доброго, на целых десять лет старше меня. Барышня-учительница», – повернулся, шмыгнул в машину, мотор которой все еще тихо урчал, надавил на газ и умчался не попрощавшись.
Уже опускались сумерки. Автострада была мрачная и пустынная. Привычным движением он нажал на рычаг и включил фары. Желтоватые лучи протянулись вперед и осветили ярко блестящее шоссе. На вобравшем в себя дневное тепло асфальте в предчувствии утренних заморозков грелись лягушки. Множество их уже было раздавлено колесами машин, но на их место в поисках убегающего от осени лета скакали все новые и новые пучеглазки. При свете фар они странно блестели, но еще более странными казались их продолговатые, приплюснутые к земле тени. Саулюс смотрел на них, смотрел и вдруг передернулся, представив, что мчится не по привычному, насыпанному человеческими руками шоссе, а по огромной спине какого-то живого, через всю землю протянувшегося существа. Он машинально притормозил, подрулил к обочине и остановился.
«Ну, чего вы все сюда? Чего вам здесь надо? – отбрасывал их в сторону носком туфли, в сердцах пинал к обочине и, понимая, что все это бесконечно глупо и смешно, снова бросился за руль. – Почему?.. Почему все настолько глупо и смешно? Почему так неразумно устроено? – Не мог успокоиться, нечто подобное, казалось, есть и в жизни людей, но, не умея конкретизировать свою мысль, он занервничал еще сильнее и, сам того не замечая, все увеличивал и увеличивал скорость. – Ничего не выйдет… – Он не мог забыть эту суровую, грубоватую, но по-своему прекрасную женщину. Еще ощущал прикосновение ее сильных рук, жар высокой груди и, вспомнив извивающегося вокруг нее пожелтевшего, словно китаец, мужичка, невольно вздохнул: – Ну и везет людям!»
– Какой же он осел! – выругался вслух.
Рядом с такой не чай курить – корень женьшеня сосать надо. Три раза в день. И зверобоем запивать. Интересно, что сказал бы Йонас, посмотрев на такую пару? Стал бы проповедовать или позволил бы помыкать собой, как этот убогий, которого она называет отцом, а он пресмыкается, будто последняя шестерка? Разозлившись, еще сильнее надавил на акселератор. Стрелка спидометра прыгнула к другому краю освещенной шкалы. Шины шелестели, свистели, словно обдираемые на точильном круге, а режущий уши звук то оставался где-то за спиной, то догонял, когда Саулюс нажимал на тормоз.
Проезжая через хорошо знакомый городок, Саулюс надавил на сигнал и не отпускал до тех пор, пока не пролетели мимо последние дома.
«Еще остановят, – подумал, – с такой скоростью еду. – Поэтому хотел заранее обмануть инспектора и чуть не слетел с насыпи на неожиданно вынырнувшем из темноты повороте. – Теперь ясно, почему этот артист усмехался, когда я собирался уезжать с Моцкусом», – он снова вспомнил красавчика Игнаса.
«Все охотишься? – спросил тот. – Ну что ж, стреляй, стреляй, но не думай, что утки только на болоте живут…»
«Видишь, какой подлец! Издевается, помнит, гад, как я Грасе у него из-под носа увел».
Дорога вновь шла ровная и скучная. Исходящее от мотора тепло повисло на ресницах и склонило голову. От жары еще сильнее распухла стопа, и так уже не умещающаяся в туфле. Покалывало мускулы. Саулюс опустил окно. В освещенной полосе метались какие-то осенние жучки и разбивались о лобовое стекло. Встречные машины прижимались к обочине, издали уступая дорогу несущемуся на бешеной скорости Саулюсу, а он все еще нажимал на педаль.
«Артист, чтоб ему сдохнуть! – Подозрения не давали ему покоя. – Но как он ошибся, сопляк, если замыслил что-то недоброе. Я с такими цацкаться не стану, как Йонас. Мне пока что не нужны ни приличная нянька, ни плохой министр. И без трофейного ружья как-нибудь проживу, лишь бы мотор не перегрелся…» Перед его глазами вперемежку с пролетающими мимо хуторами и городками мелькали сцены, о которых совсем недавно рассказывал Йонас, – одна страшнее другой. Представлял жену с другим, как он бьет их обоих кулаками, ногами, как этих лягушек, монтировкой, удобной железкой…
Когда Саулюс подъезжал к Вильнюсу, на хвост ему сел милиционер.
Этого только не хватало, – он даже не подумал снизить скорость, еще сильнее нажал на педаль и оставил развалюху инспектора далеко позади. Потом выключил фары, резко свернул в слабо освещенный переулок и долго кружил по лабиринту Старого города, пока, наконец, не выскочил на проспект и уже на нормальной скорости подъехал к дому.
Света не было ни в одном окне. Выбрав в багажнике ключ поувесистей, Саулюс сунул его за пазуху, огляделся и, увидев приоткрытую дверь балкона, злорадно усмехнулся.
Осторожно доковылял до входа, открыл парадную дверь и, придерживаясь за нее, поднялся на выступающий карниз. Потом схватился за козырек крыльца и, забросив ногу, кое-как закатился на него. Немного отдышавшись, прыгнул к балкону и чуть не сорвался. Но в последнее мгновение, больно ободрав кисть, схватился руками за перила и повис мешком. Собравшись с силами, подтянулся, вскарабкался на балкон и долго облизывал ободранные руки. Когда боль немного поутихла, он бесшумно прокрался в комнату и огляделся. Все было как и прежде.
Саулюс подошел к развороченной кровати, сдернул одеяло и застыл, ничего не понимая. Жены не было. Он бросился на кухню, в ванную, побежал в другую комнату, заглянул в шкаф, под кровать – дома не было ни одной живой души. Все еще не веря своим глазам, он включил свет. На столе лежала поспешно нацарапанная записка:
«Саулюкас, заболела Яне. Я в ночной смене. Все в холодильнике. Делай что хочешь, только не бросай работу. Где ты найдешь лучше со своим средним образованием? Ведь квартиру дали!!! Целую. Грасе».
Какая еще Яне?.. Слонялся по комнатам, осматривая каждый угол. Наконец взял с кресла брюки, пиджак, переоделся и только тогда понял, насколько все глупо.
Разозлившись на себя, разорвал записку на клочки, пнул стоявшие на пути туфли, но ничего изменить не мог, только смеялся нехорошим смехом перенервничавшего, подвыпившего человека и хлопал себя ладонями по ляжкам. Смеялся, сунув голову под кран, хихикал, вытираясь полотенцем. Потом стянул через голову рубашку и испуганно вздрогнул, когда из нагрудного кармана посыпалась мелочь. Ползал на четвереньках, водил ладонями по холодному, гладкому от лака полу, собирал рассыпанные медяки и все смеялся. Наконец сел на кровать и стал бить кулаком по сложенным друг на дружку подушкам.
Ему не хватало Грасе. Именно теперь, в эту минуту, ему не хватало ее близости, тепла и ласки, а все остальное – не имело никакого значения. Ему обязательно надо было поделиться с кем-нибудь своей тревогой, отдать свою мужскую силу, что накопилась за такой длинный, бессмысленный день. И бесшабашная спешка, и дурацкий разговор с Йонасом, и ненависть к шефу – все это отдалилось, поблекло, показалось смешным, бесконечно мелким и глупым. Саулюс опять стал самим собой. Ему не хватало жены, и поэтому он в сердцах бил кулаком по подушкам, ругался, словно последний извозчик. Потом, немного успокоившись, стал снова собираться в лес.
В коридоре его взгляд наткнулся на поспешно сметенные в угол осколки бутылки из-под шампанского. Рядом с ними среди мусора алел маленький, завернутый в прозрачную бумагу цветок. Саулюс поднял гвоздику, понюхал и неторопливо спустился по лестнице, так и не осмелившись взглянуть на свое отражение в черном от ослепительного света и превратившемся в зеркало стекле двери подъезда.
Ничего особенного не случилось. Все окружающее снова стало повседневным и серым. Саулюс отыскал под балконом выроненный ключ, бросил его в багажник, проверил уровень масла и осторожно вырулил на улицу.
А может, заехать на фабрику и проверить? – подумал, но, устыдившись, махнул рукой и, ни о чем больше не размышляя, укатил по улице, изрытой строителями. У бензоколонки выстроилась огромная очередь машин. Не было бензина. Одни – шоферы дальних рейсов – ругали молодую перепуганную девушку, а другие спокойно дремали, приоткрыв дверцу кабины.
– Нет, нам обязательно должно чего-то не хватать, будто если не будет трудностей, все сойдем с ума, – доказывал молодой шофер пожилому. – Безработные появятся.
Слушая ворчание парня, Саулюс будто слышал себя, и у него появилось ребяческое желание пошалить. Торопливо выбравшись из машины, он пальцем поманил ворчуна и таинственно, но достаточно громко сказал:
– Не выступай, в третьей уже дают бензин.
– Не заливай, я только что оттуда.
– Ты – только что, а я сейчас там был, – сел и, развернувшись, уехал.
За его спиной один за другим взревели несколько мощных моторов.
Он не спеша подъехал к фабрике, как следует разозлил дежурившую в проходной женщину, отказавшуюся его впустить, вполголоса выругал отвратительные порядки и сказал:
– Раз так, сами вручите ей этот цветок.
– А что мне с того?
– Взятки у меня нет, но сегодня у нее день рождения, – врал не краснея.
– Когда придет домой, сможешь ей целый воз таких занюханных цветов вручить.
– Идол всемогущий, выслушай мою горячую молитву: в армию ухожу, вот какое дело.
– Ну?.. Так и уходишь? Ночью?
– Мобилизация. Поэтому и примчался что есть духу. А разве в такое время хорошие цветы достанешь?
– Иди ты!.. Только этого не хватало! А как ее фамилия?
– Дилите.
– А почему не Дилене?
– Она еще не успела поменять паспорт.
– А имя?
– Грасе.
– Здесь их сотни. Лучше скажи, как она выглядит?
– Невысокая, светлая, тонкая, – и очень удивился, когда не нашел больше ни одного слова, чтобы описать жену, – короче, самая красивая. Только не позабудь: вернусь – в долгу не останусь.
– Мне кажется, я ее знаю, – успокоила вахтерша и дружелюбно помахала рукой.
Оставшись один, Стасис ехал черепашьим шагом и без всякой нужды хлестал придорожные кусты, пока кнут не измочалился и совсем не оборвался. Потом сел боком на бревно и стал вспоминать свою жизнь – такую немилую и так странно сложившуюся. Слушая, как поскрипывают пересохшие колеса и стучат оси о жесткие стальные тяжки, он стиснул губы и уже в который раз попытался одолеть свою боль.
«Господи, сколько этих бревен я вот так вывез из леса! Бывало, заборы от стужи постреливают, а я запрягаю лошадь и на заработки еду. Обмотав ноги портянками, водой оболью, чтобы ледком покрылись, и сижу верхом на бревне, направляю связанные цепью вторые оглобли то в одну, то в другую сторону, чтобы задние санки за дерево не зацепились, а мама – впереди. Она женщина, ей надо где полегче, – Жолинас насилует себя картинами отрочества, но мысли все чаще и чаще возвращаются к словам, произнесенным женой, пока в конце концов не вязнут в них. – Она – женщина… Ну и что? Ведь даже им не все дозволено. Как она смеет? Как она вообще может? „Он только с теплой грелкой спит“!.. Ну, спит, но эта грелка не от хорошей жизни в нашем доме появилась. Все это из-за нее. Вот хотя бы и сегодня: на кой черт мне это бревно? Будто это не она целую весну жужжала: часовенку, часовенку!.. Теперь, видишь ли, они в большой чести. А когда уговорила, ей уже расхотелось. Делай что хочешь и насильно навязывай, а она еще подумает: то ли принять твой подарок, то ли нет?.. – Долго и назойливо, словно зубная боль, мучает эта мысль, а сердце не успокаивается, даже не думает сдаваться. – Дуб этот какой-то проклятый, вот и установлю его для такого же проклятого, и пусть напоминает всем, что человек – единственное живое существо, с которого можно содрать несколько шкур. – Стасис прячется за эти жалкие мыслишки, словно за великие истины, хотя прекрасно знает, что до больших истин ему не дотянуться, что он всю жизнь довольствовался крохами со стола мудрости других. – Теперь поздно, теперь я – никто, отдал все за то, чтобы понять: человека никогда не следует оценивать по его взглядам, о нем надо судить только по тому, в кого он превращается в борьбе за эти взгляды. Я не создавал ложь, я только унаследовал ее, поэтому и попался. Сразу после войны, когда половина парней удрала из деревни в лес, притащился этот Увалень Навикас и увел в пущу…»
– Пошли, – только и прогнусавил.
– А куда?
– Разве тебе теперь не все равно?
Стасис не до конца понял смысл этих слов, но Навикас дернул на себя затвор автомата и буркнул:
– Пошевеливайся!
И Стасису стало жарко. Потом чертовски захотелось бежать, бежать без оглядки, как тогда от немца, но ноги не повиновались.
«Ну и пусть! – успокаивал себя всю дорогу. – А что тут такого? Ну, хлопнет, и ничего больше не будет. Кончатся издевки, кончатся беды, все кончится, – убеждал себя, а где-то глубоко в душе еще надеялся: – А может, только теперь и начнется?.. А может, он пожалеет, может, промахнется или земля вдруг разверзнется у него под ногами, увидев такую страшную несправедливость?..»
– Стой! – Навикас поставил его к стволу дуба, снова щелкнул затвором автомата и неожиданно сказал: – Ты не думай, что я тебя из-за Вайчюлисова Витаса… Что было – сплыло. Я из-за Гавенайте, к которой ты прицепился словно лишай.
– А тебе что? – бескровными губами произнес Стасис и обрадовался, что может разговаривать. – Может, она тебе обещана?
– Не обещана, но из-за нее я тебя не раз колотил в школе, потом дома, а ты только отхаркаешься, зубы выплюнешь и опять за свое.
– А тебе что? – настойчиво повторял Стасис и, не опуская взгляда, смотрел на так неожиданно объявившегося врага. – Ты пропуска к ней выдаешь?
– Не выдаю, но ты забудь, где она живет.
Долго, невыносимо долго готовился Стасис к смерти. Может, всю свою жизнь, может, две жизни… Глотал внезапно нахлынувшие слезы, давился ими и упрямо мотал головой.
– Я буду считать до трех, – предупредил Навикас.
Стасис прислушивался к словам, падающим с неведомых необозримых высей, пытался понять, почему Навикас так страшно медленно, с невыносимо длинными паузами разевает рот и ничего не говорит.
– Один…
Он видел, как Увалень неумело поднимает автомат и боится того, что собирается сделать, как он озирается по сторонам и почти молится, чтобы товарищ уступил, отказался от Бируте, или чтобы кто-нибудь неожиданно появился в лесу…
– Два…
Навикас весь вспотел и принялся непослушным языком облизывать спекшиеся губы. Он дрожал, а дуло автомата прыгало вверх-вниз, словно живое.
– Три…
– Ты сам всю эту гадость придумал или кто-нибудь попросил? – не дождавшись выстрела, спросил Стасис.
– Она сама меня умоляла.
– Не ври! – Над головой загрохотал автомат. От выстрелов заложило уши, злые огоньки полыхнули в лицо, но Стасис не сдался: – Стреляй! Все равно мне не жить без нее. Только сразу! Но запомни: я и после смерти к тебе явлюсь! Ни днем, ни ночью покоя не дам!
И Навикас не выдержал. Не выпуская автомат из рук, он по старой привычке пнул Стасиса в живот. И когда тот скорчился, Навикас схватил оружие за дуло и ударил прикладом Стасиса по голове. Стасис упал на колени. Ему показалось, что после этого сокрушающего удара он еще услышал и выстрелы, но точно не помнит, потому что все вокруг вдруг загудело, вспыхнуло, почернело и исчезло. Когда он очнулся, по его лицу бегали муравьи, они заползали в рот, в глазах стояла резь. Подняв голову, он отплевался от этих противных насекомых, кое-как продрал заплывшие глаза и огляделся. Навикас сидел рядышком, прислонившись к дубу, непослушными, изуродованными выстрелами пальцами рвал свою рубашку и пытался перевязать грудь, на которой виднелось несколько дырок, опоясанных голубыми кружочками. При каждом вдохе из них медленно сочилась кровь.
– Помоги, – попросил Навикас, видя, как Стасис отползает от него на руках. – Не бросай!
Но Стасис встал, качнулся и, перешагнув лежащий между ними автомат, побрел домой.
– Господи! – вскрикнула Бируте, увидев входившего через калитку Стасиса. – За что они тебя так? Откуда ты такой?
– Ты его просила? – спросил Стасис.
– Чего? – Она не поняла.
– Чтобы он убил меня?
– Ты о ком?
– О Навикасе.
Перепуганная, она обеими руками зажала себе рот и большими немигающими глазами долго смотрела на окровавленное лицо Стасиса.
– Ирод он, – наконец сказала она, – сумасшедший.
– Ты его просила?
– Нет.
– Говори правду.
– Давно, когда еще в школе учились, когда ты мне прохода не давал.
– Я и теперь не даю тебе прохода.
– Теперь – другое дело… Мне даже приятно… А тогда мы были детьми.
– Ты его просила?
– Нет, если тебе так важно: нет! Безумцы вы. Насобирали под кустами всякой дряни и стреляете друг в друга, играете в героев.
– Тогда спасибо, – сказал Стасис и пошел домой.
Мать охала, плакала и всю ночь умоляла:
– Только не жалуйся, Стасялис, только не доноси. Как-нибудь вытерпим. Если его дружки узнают, еще хуже будет. Святая богородица, только не жалуйся. Такие страшные леса вокруг…
А на другое утро, когда отступили слабость и тошнота, он снова вспомнил Навикаса и собрался в лес. Мать семенила рядом, то цепляясь за руку, то снова отставая и спотыкаясь о выступающие корни, и все время поучала:
– Лучше бы к ксендзу сходил за советом… Лучше бы в город уехал, службу подыскал, пока все утрясется… Давай вместе уедем…
Он молчал и, казалось, убегал из дома.
Навикас все еще сидел возле дуба, но уже не двигался и не звал на помощь. Его кровь уже побурела, а в приоткрытом рту и в глазах хозяйничали муравьи.
«Те самые!» – ударило в голову, и Стасиса замутило. Мать бегала по лесу, собирала какие-то травки, совала ему в рот и умоляла:
– Пожуй немного, подержи за щекой, и пройдет. Как рукой снимет.
Он долго икал, мучился и никак не мог отдышаться. Икал не столько от увиденной картины, сколько от пережитого им животного страха, с исчезновением которого вдруг освободились и все тормозные центры. Пока над головой висела смертельная опасность, пока разум искал выхода, пока он пытался оправдать соседа, найти какую-то закономерность, которая привела их обоих к этому многое повидавшему дубу, Стасис еще владел собой, еще пытался сохранить ставшее для него привычкой самообладание, но когда все ограничения исчезли, он расслабился, размяк, словно старая, измочаленная тряпка, не в силах справиться с телом, отдавшим этому сопротивлению все до конца. Это была естественная борьба здорового организма с бессмысленностью, чуждой человеческой природе и уродующей человеческую душу. Уже, казалось, Стасис брал себя в руки, уже сдерживался, вытирал губы, но едва вспоминал, что вместо Симаса Навикаса здесь должен был лежать он, Стасис Жолинас, тут же все начиналось сначала…
Наконец мать догадалась намочить в лужице передник и крепко прижать его к пылающему лицу сына. От прохлады ему стало немного лучше, он вернулся домой бледный, разорвал все угрожающие записки Симаса, побросал их в огонь и с огромным облегчением смотрел, как языки пламени пожирают черепа, скрещенные кости, кресты витязя и пронзенные стрелами сердца.
И когда его вызвал Моцкус, Стасис уже был спокоен, с перевязанной головой, на которую врач наложил швы.
– За что они тебя? – спросил офицер.
– Не они, только он.
– Неважно, сколько их, скажи: за что?
– Не знаю, – пожал плечами. – Много ли им надо?
– Связей с ними не поддерживал?
– При немцах они моего отца сгубили.
– А почему в тот же день не сообщил?
– Не мог, сил не было.
– И все? – расстроился Моцкус.
– Нет, не все. Как он застрелился?
– Нечаянно. Сам. Схватил автомат за дуло, стукнул тебя как следует, от удара затвор соскочил, поймал патрон, а потом, сам знаешь, уже не остановишь.
– Значит, он правда нечаянно?
– Нарочно, если тебе от этого легче. Из любви к ближнему.
– Есть перст божий, – повторил слова матери и в то же мгновение твердо поверил, что он неуязвим и что с ним никогда не может случиться ничего плохого. – Есть, вы не смейтесь.
Теперь убеждает себя и чувствует, что вот летит время и эти слова теряют смысл, что вот исчез пыл молодости и они все чаще напоминают о ничем не оправданном риске, а всякие вымышленные табу и заклятия, так хорошо охранявшие от врагов, теперь уже не могут защитить от себя самого, поэтому Стасис кается, хотя в тот раз не был виноват. Закрыв глаза, он все еще видит рассыпанные по белой груди Симаса дырочки с голубой каймой, открытый рот и набившихся в глаза муравьев…
Почувствовав гору, лошадь вдруг прибавила шаг, рысцой поднялась на холмик и чуть не сбросила Стасиса на землю. Спрыгнув с бревна, он пробежался рядом, подождал, пока Гнедок сам остановится, похлопал умную скотину по холке и вдруг подумал: «А что бы я делал, если б тогда Бируте кивнула?..» – и сам испугался этой мысли.
Тогда он наверняка сошел бы с ума. Нет, он бы ушел из деревни и не вернулся… И теперь не было бы ни этой проклятой грелки, ни унижений. Ничего не было бы. Он даже не смог бы вспоминать этого неудачника Увальня Навикаса. И оставленных автоматными пулями дырок, при мысли о которых снова явственно дохнуло в лицо жаром и вернулась так мучившая его муторность, хотя он никому не угрожал и никого не собирался убивать… Это не для Стасиса. Он никогда этого не сделает. И к Моцкусу пошел, только когда его позвали, только в поисках правды и защиты.
Боже мой! Неужели слабому уже и помощи попросить нельзя без угрызений совести? Я спасал не только себя. А что случилось бы, если бы Бируте ушла с этими дураками в лес? А что было бы с ней, если б Моцкус увидел эти Навикасовы записки?..
Жолинас въехал на двор, окинул взглядом сидящих за столом людей и повернул прямо к ним.








