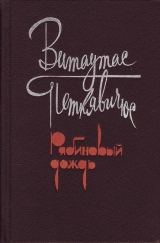
Текст книги "Рябиновый дождь"
Автор книги: Витаутас Петкявичюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
– Ясно?
– Не совсем.
– Боек винтовки еще мизернее, но на патроне оставляет только ему присущий след.
– Теперь понимаю, – ответил Моцкус и почувствовал, что ему плохо. Покачнувшись, он прислонился к Костасу, постоял, крепко зажмурившись, и постепенно в нем снова проснулся лейтенант Моцкус.
– Хорошо, но почему ты сообщаешь мне эту горькую весть как-то странно – на ухо? – Хоть ему и очень этого не хотелось, старая обида полезла наружу.
Костас мужественно проглотил и это оскорбление – автоинспекторам не привыкать – и даже пошутил:
– Ошибки молодости тем и плохи, что, поумнев, уже не можешь повторить их. Не сердись, больше мне нечего тебе сказать. Теперь я должен передать дело следователю. Пока что не ты один не доверяешь милиции.
– Не лезь в бутылку, – Моцкус толкнул Костаса в бок и не сдержался: – Убить такого гада мало! Крысиного яду дать! Как там в наших краях говорят? Застрелить, а пулю назад забрать.
– Только не наделай глупостей, – предупредил инспектор. – Пока идет следствие, закон одинаково охраняет и пострадавшего, и обвиняемого. Счастливого пути!
Неизвестность терзала Саулюса сильнее любого несчастья. Больничная атмосфера угнетала его, а после разговора с Моцкусом он совсем извелся. Ему обязательно надо было поговорить с Бируте. Вот он и угощал каждую приходящую сестру конфетами, принесенными Грасе, и все просил:
– Только непременно позовите.
А под утро он уснул и во сне увидел ее. Бируте была в новом красивом платье, чуть-чуть подкрашенная, с мужской стрижкой. Молча взяв за руку, она повела его в странную подземную аптеку и показала множество черных бутылочек с надписью: ЯД. Под этими тяжелыми буквами были нарисованы черепа, змеи, обвившие кубки, и молнии высокого напряжения.
«Бери сколько хочешь и зашей в лацкан…» – Ее голос гудел где-то за стенами аптеки, как церковный колокол, от него дрожало подземелье, эхо носило его вокруг и все повторяло: «Бери, бери, бери…»
Но он ничего не брал, лишь, сложив руки, умолял:
«Бируте, дальше Вильнюса не уезжай… Он любит тебя».
«Не старайся узнать все, дольше жить будешь. – Она стояла посреди комнаты, скрестив руки на груди, сжав губы, злая, а голос ее гудел со всех сторон: – Не суди, да не судим будешь… Не рассказывай все первому встречному, хоть одну тайну оставь для себя, чтобы утром было интереснее проснуться…»
«Мне уже ничего не надо».
«Не хнычь и не требуй сочувствия. Не будь козявкой, ибо чем мизернее человек, тем сильнее его желание локтями высвободить вокруг себя пространство, вымостить головами непослушных свою пустыню».
«Со Стасисом ты распрощалась?» – спросил Саулюс.
«Он сам распрощался с собой. Но ты не торопись. Я еще понадоблюсь тебе. Ядом ты себя не убьешь. Ты умрешь, когда узнаешь правду. Правда уничтожит тебя».
Бируте сбросила одежду, подняла руки и стала удаляться от него, поднимаясь ввысь, потом стала похожа на недосягаемую прекрасную картину на сводах пустого и большого костела. Вдруг вся аптека покраснела, тысячи выстроенных на полках бутылочек вспыхнули и стали бить в глаза ярко-алым, сводящим с ума светом. Саулюс двигал головой, пытался отвернуться, закрывался руками, но безжалостный женский голос повторял: «Ты сначала ослепнешь… Ты сначала ослепнешь… А только потом умрешь…»
Испуганный, он заставил себя проснуться. Солнце садилось и било прямо в глаза. Накрапывал дождик. По небосводу изгибалась чуть поблекшая осенняя радуга и золотила края черных туч. На подоконнике, прячась от дождя, сидел огромный полосатый кот; умываясь, он несколько раз торжественно перекрестил лапой Саулюса.
– Котик, за ушком почеши, – попросил он, хотя все еще не пришел в себя после кошмарного сна, – за ушком… – Сонный, он учил кота зазывать гостей и удивлялся огромным красным, горящим на закате глазам Полосатика, но кот не послушался. Вылизав мокрую шкурку, он потянулся, поточил когти о доску, и принялся рыться в сложенных на подоконнике продуктах. – Брысь! – Стараясь не разбудить спящих, Саулюс тихо гнал воришку прочь, но кот даже не смотрел в его сторону. – Брысь! – ругнул громче и хлопнул в ладоши. Полосатик испугался, приготовился к прыжку, но, передумав, снова стал рыться в бумагах, вытащил связку сосисок и с ворчанием начал жрать их. – Брысь, гадина! Кому говорю?! – Саулюс уже кричал во весь голос, но кот не обращал на него никакого внимания. Ярость охватила парня. Он пошарил вокруг себя и, не нащупав ничего, попытался сесть. Страшная боль кольнула под сердцем, затмила глаза и снова растянула его на жестких досках. Обливаясь потом, он смотрел на сверкающие неземным светом глаза кота и услышал таинственно гудящий за стеной голос: «Ведь ослепну, боже мой, ведь ослепну… Люди, доктора, не дайте мне ослепнуть!» – Брысь, гадина! Брысь! – Саулюс принялся кричать не своим голосом.
От его крика зашевелилась вся палата. Кто-то встал, прогнал кота и, прикрыв окно, сказал:
– Чего, глотку дерешь? Этот старый больничный бес прекрасно знает, кто может выдрать его и кто нет.
Слова больного не доходили до Саулюса.
– А крысы еще лучше чувствуют беду и лезут только на совсем слабых и умирающих, – откликнулись из другого угла.
«Мне и без котов и крыс известно, что все кончено», – Саулюс только теперь понял, о чем говорят люди, и, заинтересовавшись, повернул голову.
– А перед моей болезнью песик выл, аж душа болела… Вот и накликал…
«Все знают, все чувствуют и прекрасно понимают, что завтра или послезавтра и к ним придет безносая, – злясь на больных, думал парень, – но попробуй сегодня поставить их к стенке!.. А почему же я должен быть другим? Зачем мне туда торопиться? – Оспаривал собственный приговор и пугался: – А может, болезнь и со мной уже что-то сделала? Неужели и я, как Стасис, вцеплюсь кому-нибудь в глотку?»
– Замолчите, – попросил больных. – И этого дрянного кота уймите! – Стал шарить под подушкой в поисках сигарет. – От вашей болтовни с ума сойдешь, – с нескрываемым страхом и вызванной им подозрительностью прислушивался к стонам, доносящимся из соседней палаты, и вспоминал слова, сказанные во сне Бируте.
«Бредит парень…» – разобрал слова соседа и нащупал под подушкой скользкий флакончик. Вытащил, посмотрел и чуть не выронил из рук. На ладони поблескивала черная бутылочка из-под лекарств с небрежно наклеенной кем-то этикеткой, на которой стояло одно торопливо написанное слово: «Люминал».
До боли зажмурившись, покачал головой, потом включил у изголовья свет, еще раз внимательно осмотрел бутылочку, такую же, как видел во сне, пластмассовую пробку, надпись, и его бросило в дрожь.
– Не может быть!
– Чего не может быть? – спросил сосед. – Может, тебе сестру позвать?
– А зачем? И так у меня бред.
– Я и говорю.
– Давай, давай!.. – подбодрил болтуна. – Когда я спал, никто ко мне не приходил?
– Нет.
– И ничего мне не передавали?
– Не гневи бога, и так тебя каждый день двое-трое навещают.
– И сестра не приходила?
– Вот еще!.. Говорю – нет.
«Все-таки Бируте молодец. Даже собака не тявкнула… Но когда она успела подсунуть мне эти таблетки? – сжимал в ладони бутылочку и, глядя на нее, угасал, остывал, пока в конце концов не понял, что неожиданная находка лишает его последней надежды. Нечего больше желать, не к чему стремиться, не из-за чего волноваться. Ему стало странно и страшно, что все так бесконечно просто, совсем несложно: брось в рот горсть таблеток, и наступит развязка, которую ты предугадывал всю жизнь, носил в себе, о которой думал, которую призывал и которой избегал всеми силами, которой так страшно боялся и продолжаешь бояться. – Все, – ему больше не о чем думать. – Все… Но как же этот сон?.. Эти бутылочки? – снова сверкнула искорка надежды, и он ухватился за нее с еще большей настойчивостью. – Черт меня подери, я обязательно должен разузнать все, – отложил исполнение приговора, а через мгновенье уже мечтал: – Как хорошо бы теперь выпить стаканчик вина, почувствовать еще раз живительную кислинку и легкое тепло, будоражащее ленивую кровь…» «А такую большеокую, высокую сестру, которая здесь вчера дежурила, вы не видели?» – хотел спросить, но не осмелился. «Пусть это останется между нами…»
Нашел наконец несколько выкуренных до половины сигарет, склеил их и, не скрываясь, закурил. Никто в палате не посмел его одернуть….
«Было бы смешно, – подумал Саулюс, – если бы я начал их бояться. Теперь мне плевать на все, – утешил себя, приуныл, но неожиданно пришла обыкновенная и вместе с тем спасительная мысль: – А ведь, разозлившись на кота, я чуть не сел!..»
Такого жаркого октября Стасис не помнит. Всякие бывали – и теплые и солнечные, но такого никто не припомнит. Однако это Жолинаса не занимало. По просьбе директора он еще целую неделю трудился, привел в порядок заброшенный навес, сровнял с землей альпинарий, истопил баню и, закончив все, снова вернулся к своим неповоротливым мыслям: «Что делать дальше? Ничего. Что будет, пускай будет. – Он прикидывался смелым и равнодушным, а на деле не мог найти себе места: – Все! Конец! Они только и ждали, чтобы я где-нибудь ошибся», – убеждал он себя и всем существом искал хоть малейшую возможность выбраться из создавшегося положения, а если наступит его последний час, еще и оправдаться: ребята, люди, но ведь иначе-то я не мог! Но такой возможности не было, поэтому он не торопясь сжег бумаги, привел в порядок альбомы, написал несколько слов для заведующего сберкассой, для Бируте и, перекинув через плечо ружье, ушел в пущу, твердо решив никогда сюда не возвращаться.
Проходя мимо бани, увидел на суку забытый кем-то бинокль, неизвестно зачем снял его и направился вдоль озера в сторону Швянтшилиса. Лес молчал. Раскаленный солнечными лучами и порядочно разомлевший от зноя, он ждал вечерней прохлады. Принарядившись, после первых заморозков, он медленно сбрасывал пожелтевшие листья и готовился к длинному зимнему сну. Стасис старался ни о чем не думать, но мысли, одна тяжелее другой, лезли в голову.
«Хватит. Намучился, – плакался и ругал себя: – А что с этого? Страдание – что мелкая монета: оно переходит из рук в руки; получив его от одних, мы тут же отдаем его другим. И я не остался в долгу перед некоторыми: за сколько купил, за столько и продал, но теперь – хватит. Только странно, что я брал и отдавал, но за весь свой век так нигде и не прижился. Сюда ткнулся носом – разочаровался, глянул туда – обжегся, вновь к чему-то стремился, но, получив по рукам, остался лесником; притерпелся, а теперь и лес у меня отобрали: что рубили – вырубили, что пахали – перепахали, наконец, и обход решили присоединить к другим. Лесник без леса – вот и все, что я нажил за свой век…»
Когда-то Жолинас мечтал стать доктором, потому что ему нравилось ухаживать за больными, но совсем по-глупому погиб отец… Едва кончилась война, матери загорелось сделать из него ксендза, но пришла Бируте… Стасис не противился замыслу матери: разочаровавшись в безответной любви, он мечтал стать хорошим миссионером, но у настоятеля не хватило пороха его подготовить. Стараясь оправдать себя, он все свалил на ученика – мол, таланта у него нет.
А откуда мог взяться талант? Жолинасу нравилось смотреть, как ксендз причащает верующих. Люди идут к нему, смиренные и сосредоточенные, становятся на колени, закрыв глаза, и снова встают, а он только осеняет их крестным знамением и кладет им в рот божью плоть. Каким бесконечно добрым казался ему Христос, раздавший себя людям!.. Однако, посещая дом настоятеля, Стасис увидел, как пономарь замешивает тесто, как печет облатки и как, испортив их, с руганью мнет и комками швыряет в сторону.
– Как ты смеешь?! – спросил в испуге Стасис.
– Вот так и смею: богомолки в костеле меньше воздух портить будут.
А отец-настоятель с гордостью говорил об этом поганце:
– Большой человек, пономарь государственного значения!
Стасис мог стать артистом, потому что умел так притворяться на сцене, что все падали с ног от хохота. Мог стать хорошим ученым или следователем, потому что был очень настойчив и догадлив, но пришел Милюкас и сказал: «Он чужой среди нас».
Много кем хотел и мог стать Стасис, но заблуждался, думая, что отвага и добродетель делают человека одиноким, а страдание сближает его с такими же, как он. Но никчемное страдание оседает в душе, как медная монета в копилке, а потом его оттуда и палочкой не выковыряешь… Осев, оно вроде и увеличивает силы, но губит дух.
Сотни книг прочитал Стасис и ничего не почерпнул из них, никуда не поднялся и никем не стал. Когда-то сильно сокрушался из-за этого, а теперь уже смирился. Зачем учение, зачем должности, если в итоге идешь в болото Мяшкаварте и не собираешься возвращаться оттуда?..
Услышав шум мотора, Жолинас поднес бинокль к глазам и еще раз порадовался этому изумительному изобретению: смотришь на человека, пуговицы на его груди пересчитываешь, а он даже не подозревает о слежке. Вот катят по дороге две машины. Жолинас поймал их, приблизил, насколько позволила яркость, и передернулся: сидящие в них люди смеялись, наслаждались прохладой возле открытых окон и разговаривали… Ни забот у них, ни страха, ни угрызений совести… Высунув голову в другое окно, оглядывала округу собака. Даже ей рядом с этими людьми было, хорошо и уютно.
Какая несправедливость, какое страшное издевательство! Стасис двадцать лет таскал домой всякие деревья и кустарники, теперь вот часовенку заказал, сеял травы и собирал интересные камни, но так и не смог ничего скрыть под ними. Даже тайну Пакросниса не сумел сохранить, потому что никогда и никому не делал зла, только защищался. Но даже защищаясь, он вредил себе, уничтожал себя. Почему?
«Кто оборачивает все эти беды против меня? Что надо сделать, чтобы они сгинули? Что надо натворить – бесконечно омерзительное или величественное, – чтобы хоть перед смертью я мог вот так беззаботно развалиться на сиденье и в полный голос смеяться ветру, чтобы сумел кричать пролетающим перед взором деревьям или целоваться с подлизывающейся собакой?
Ничего, ничегошеньки… Не делай своему ближнему того, что неприятно тебе самому… Вот и вся суть человеческой морали. Закон законов, а все конституции и священные писания – лишь разные комментарии этой истины. Так меня учил настоятель, а потом, обо всем забыв, взял да подтолкнул под горку: „Ничего путного из тебя не получится, сын…“
Других учил, а сам не выдержал. И как же вытерпеть мне, ничем не примечательному человеку, если даже более сильные прокладывают себе дорогу в жизни острыми локтями и еще более острыми языками? А может, и не надо было страдать? Но теперь уже все. Придет забытье, вечный покой, а здесь опять будут краснеть рябины, опять всякие Кантаутасы будут валить на землю сверхплановые деревья, дружки Моцкуса будут стрелять птиц, ходить по отмели и радоваться, что не промахнулись… – А если и мне пойти к ним, лечь крестом и все рассказать? Нет, камень надежнее всего прятать среди камней. Замученный несчастьями среди счастливых – это новая беда, – укрощал себя и не почувствовал, как повернул к болоту, где недавно чинил покосившийся шалаш. – Только схожу и гляну одним глазком, только попрощаюсь, и тогда…
А почему только гляну, почему одним глазком? Ведь не я перед ними провинился, а они передо мной. Поэтому надо что-то делать. Дальше так жить нельзя. Не лучше ли и справедливее сначала его, а потом – себя? Может, тогда что-нибудь изменится? Если не для меня, то хоть для других. Если бы не было счастливых, быть может, исчезли бы и несчастья? Если одному без конца везет, то, хочет он того или нет, он обязательно грабит тех, которых обошло загостившееся у него счастье…»
Стасис снял с плеча ружье, проверил, вложены ли патроны, заправил брюки в сапоги, подтянул ремень и побрел по отмели. Он делал все как автомат. Все предусмотрев, рассчитав все до мелочей, он теперь шел, гонимый подсознанием, и беспрестанно повторял: «Теперь мне все равно, один или два… Конец все равно будет тот же, один и тот же, ибо другого пути нет… Так надо, потому что теперь мне все равно».
От покрытой рябью поверхности озера отражались лучи заходящего солнца. Стасис прищурился, приложив ладонь ко лбу, окинул взглядом отремонтированный шалаш, потом не спеша подошел к нему, поправил поставленный под навес пень и снова по отмели побрел к берегу. Потом уселся тут же, в густых зарослях молодой ольхи, и стал ждать. Укрытие это Стасису не нравилось, оно слишком высоко поднималось над озером, было слишком заметно, но Стасис не намеревался менять его, ему казалось, что судьба все устроила самым прекрасным образом, приказала терпеливо ждать, поэтому он и не сопротивлялся этому приказу…
Тем временем Йонас не спеша вытащил из машины сиденье, прислонил его к сосне, принес мешочек с недовязанным свитером и на полную громкость пустил радио. Моцкус натягивал тяжелые сапоги и разговаривал с директором лесхоза:
– Я извиняюсь перед тобой.
– За что?
Моцкус сам не знал – за что. Настроение у него было отвратительное, он казался себе таким противным, что, не извинившись перед человеком, вообще не мог начать разговор. «За все свое свинство», – хотел сказать, но, услышав вопрос товарища, чуть помедлил и заставил себя ответить:
– За этих москвичей.
– Ничего, в следующий приезд они у нас не разгуляются. К тому же и я кое-кого пригласил, желая удивить тебя, только бедняга ногу вывихнул и охотиться не сможет, но в баньке будет ждать как привязанный. Я ему бинокль оставил, чтобы он нас не прозевал.
– А кто он такой?
– Из нужных… Прокурор.
– Я его не знаю.
– Ничего, познакомитесь, – директор что-то скрывал от приятеля и, довольный, хихикал. – Он теперь глинтвейн варит.
Моцкус притопнул одним, другим сапогом, размял плотно обтянутые ноги и предложил:
– А то давай возвращаться! Я не собирался охотиться, поэтому и патроны не взял.
– Профессорам и артистам можно ездить на охоту и без патронов, – пошутил директор. – Возьмите в моем патронташе, – бросил ему свой ремень. – С крестиком – на птицу, с двумя – на зайца, а все остальные – восьми с половиной или пули.
Моцкус с великой неохотой вытаскивал вбитые в ремень патроны, осматривал и все удивлялся:
– Да нету здесь никаких крестиков.
– Стерлись, наверно, – директор вытащил из рюкзака живую утку, погладил, порадовался: – На такой охоте хоть гайку закладывай – не промахнешься. Только не увлекайся и мою подсадную не подстрели! – Он подошел к машине и выпустил из нее веселого спаниеля.
Вырвавшись на свободу, пес бегал от одного охотника к другому, а его большие уши развевались и хлопали.
– Ну и охотник! Я на птицу гильзы одного цвета употребляю, на зайца – другого, на кабана – третьего…
– Хорошо вам употреблять, когда у вас есть, а мы – какие уж достанем. Выбирай по весу или на слух проверь. Кроме того, я теперь уже не охочусь, чаще всего егерем или загонщиком работаю. Как построили эту баньку, от начальников и друзей отбою нет: одному подавай лекарства, другому – удобрения, третьему – полезные знакомства…
– А меня почему приглашаешь?
– Из любознательности, – хитро улыбнулся директор.
– А если честно?
– Сын прокурора в этом году экономический кончает.
– А прокурор тебе?
– Права у меня отобрали – хочу получить назад.
– А если я тебе права сделаю, тогда одно промежуточное звено отпадает?
– Теперь уже поздно, может быть, как-нибудь еще пригодится.
«А если взять да посчитать все лишние промежуточные звенья? Конечно, не только по части блата. Ведь эффект получился бы космический», – и он подробно записал весь разговор. Закончив, сказал директору:
– Хорошо, я тебе несколько коробок немецких патронов привезу. – Наконец зарядил ружье, а патроны, в которых постукивала дробь, бросил в карман. – И последнее препятствие: в прошлый раз я дал торжественное обещание больше не охотиться.
– Вы дали, вы и нарушите, представьте себе, что сегодня не вы, а ваш московский коллега стреляет, – шутил директор.
– Возможно, и так… Но не сердись: сегодня я просто боюсь идти с ружьем на хутор этого мухомора Жолинаса, честное слово!
– Вот еще! – удивился директор. – Что, он людей живьем жрет, или какого черта?
– Еще хуже, – неохотно ответил Моцкус, в глубине души продолжая сомневаться в сообщении Милюкаса, – но рука у меня не дрогнула бы.
– Старые ваши счеты… И давай договоримся, что сегодня об этом – больше ни слова.
– Договориться можно, но толк-то какой?
– Мне кажется, Викторас, вы здорово перебарщиваете… Все мы грешны. Когда вы по заграницам разъезжали, я тоже был влюблен в Бируте. Как мне тогда казалось – безумно, но она сама постепенно отучила меня от этого… И только потом я обо всем узнал. Ну и что, теперь из-за этого мы стреляться должны?
«Еще один, – подумал Моцкус, осматривая ружье. Он заставил себя улыбнуться. – Так вот почему он так добр ко мне… Успел, паразит, приласкать соломенную вдову…»
– Стреляться необязательно, потому что, если мы постреляем друг друга, все равно опять найдется какой-нибудь эскимос, который будет учить африканцев, что им делать во время великой засухи.
После реплики Моцкуса до конца сборов все молчали, будто воды в рот набрали. Потом, переговариваясь, неторопливо отошли по берегу озера подальше от лагеря. Директор, шагавший впереди, долго высматривал шалаши; заметив, что сделан только один, выругался:
– Ну и поганец… И что теперь будем делать, кто направо, кто налево пойдет?
– Я не понимаю тебя.
– Этот чертов лесник только один шалаш поставил. Давай бросим жребий. Кому повезет, тот и будет ждать с подсадной, а второму придется взять собаку и плестись в другую сторону поднимать.
– Послушай, Пранас, а может, ты один? – Моцкус в последний раз попытался вывернуться. – Я тебе и без ружья подниму сколько душе угодно.
– Ну уж этому не бывать. Бросай жребий, – лез из шкуры директор.
Надеясь на проигрыш, Моцкус повесил ружье на шею, достал монету, подбросил ее, поймал и спросил:
– Что?
– Орел.
– Не угадал! – Раздвинув пальцы, Моцкус нисколько не обрадовался.
– Ну и везет же вам, Викторас!
– Как утопленнику, – ответил Моцкус и вдруг подумал: «А что бы я стал делать, если бы этот поганец на самом деле подвернулся под руку? Наверно, ничего. Ну, пошумел бы, покричал, может быть, и по роже съездил, вот и все».
Директор немного отошел по отмели в сторону, прикрикнул на пса, чтобы тот не брызгался, а потом не выдержал и стал учить Моцкуса:
– Если рядом с подсадной сядут, то хоть поднятых не прозевай! Ты их – на подлете, тогда они прямо тебе под ноги падать будут!
– Знаю, – поморщился Моцкус и, подойдя к шалашу, осмотрел его оценивающим взглядом. – Надо было подальше от берега построить, да и колышек мог бы забить…
Недовольный, шел по отмели, пока вода не поднялась до верха голенищ, потом пригнул стебли камыша, один конец веревки привязал к ножке утки, а второй конец – к камышу. Вернулся к навесу и снова вспомнил об аварии: «Неужели этот мститель на самом деле?.. Невероятно! Скорее всего, Саулюс виноват. Гонял как сумасшедший, за машиной не следил… А Милюкас хочет помириться…»
Быстренько выкурил сигарету, вошел в шалаш, сел на пень, устроил упор для ружья, высунул стволы и стал ждать.
Уточка подергалась, попыталась клювом развязать веревку и наконец утихомирилась. Потом стала плескаться в воде, купаться, бить крыльями и звать подруг: «Кря-кря-кря!..»
Немного погодя она опять повторила призыв.
«Словно за деньги, – Моцкус нахмурился. Не нравился ему такой способ охоты. – Что-то отвратительное», – обругал себя и подумал, что и люди друг для друга довольно часто служат приманкой… Но не стреляются, выдумывают что-нибудь попротивнее.
Вдруг над его головой зашелестели крылья. Утки сделали большой круг и попадали в воду, но слишком близко от берега. Охваченный азартом, Моцкус хотел повернуться, но заставил себя сидеть спокойно.
«Лишь бы не выдать себя… – твердил. – Лишь бы они не почуяли».
Грохнул выстрел директора. Утки хотели было взлететь, но, посмотрев на подсадную, успокоились и подплыли под заросли молодой ольхи. Ждать не имело смысла, потому что еще несколько минут – и птицы скроются в дельте ручейка, заросшей густым аиром. Викторас внезапно выскочил из шалаша, повернулся и выстрелил по поднимающейся парочке из обоих стволов. Первая утка только по инерции скользнула по поверхности воды и тут же утихла, а вторая, успевшая подняться над ольхой, сначала пошла юзом, но тут же выровняла полет и скрылась из глаз.
«Слишком низко взял, – подбираясь по отмели к лежащей на воде утке, попрекал себя Моцкус. – Чуть повыше – и эта свалилась бы. Глупый замысел. Теперь возле этого навеса утки целую неделю не будут садиться», – он еще раз зарядил ружье и забрался в шалаш.
И на самом деле утки больше не садились. Подлетая к ольшанику, они как-то странно, под острым углом поворачивали к берегу или, поднявшись выше, летели своей дорогой. Собрав вещи, Викторас неторопливо направился к директору, выстрелы которого все еще доносились с той стороны озера.
– Ну и как? – поинтересовался он.
– Три.
– А я только одну.
– А подсадная?
– Жива-здорова.
– Ну их к чертям собачьим, оставим на другой раз. Меня чертовски мучает жажда.
Они не спеша направились к машинам. Увидев их, Капочюс даже удивился:
– Так рано?
– Смеркается… Да и песика жалко: целый вечер мокнет в воде, – объяснил Моцкус, чувствуя, как нарастает раздраженность, смутная неудовлетворенность собой. – Мне теперь следовало бы поехать в больницу, а не идти в баню. – Он сел в машину и до самого хутора Жолинаса не сказал ни слова.
Приехав на место, Викторас молча огляделся. Он все еще жалел, что уступил директору лесхоза. Вокруг многое изменилось. Цвело лишь несколько осенних цветов. Зеленели пышные кусты, журчал ручеек. А в конце двора, рядом с этой гармонией и красотой, возвышался испоганенный бульдозером альпинарий, валялись камни и старые кирпичи кустарного обжига. Ему было приятно вспоминать те странные, заполненные забытьем и счастьем дни, которые он провел здесь вместе с Бируте, но для подобных воспоминаний требуется одиночество. Присутствие других людей заставляло его стыдиться того, что на самом деле было прекрасно и хорошо. Заглушая воспоминания, Моцкус старался убедить себя, что любовь – всеобщий инстинкт, расширяющий кругозор интеллекта, увеличивающий возможности человека, просветляющий его переживания и дающий начало безграничному энтузиазму…
«Тьфу!» – он громко сплюнул и посетовал на свою привычку все анализировать и осмысливать. Теперь ему казалось, что любовь всегда честна и благородна, даже если все вокруг несправедливо и враждебно. Любовь не признает ни времени, ни расстояний… «Это вечное чувство, хотя человечек может любить всего несколько десятков лет, – стал издеваться над собой и опять вернулся к тому, от чего хотел уйти: – Тогда почему мы расстались? Какая собака нам дорогу перебежала? Видимо, надо отличать подлинную любовь от ее иллюзий, от страсти, которая время от времени овладевает нами, когда мы встречаем красивую женщину. Тогда-то мы и отключаем разум, хотя любящему человеку следовало бы сразу замечать все ошибки любимого, все его недостатки. Безоглядная страсть заставляет нас обожествлять человека, но, не обнаружив в нем идеала, созданного нашим воображением, начинаем его ненавидеть и искать того, чего в жизни вообще не существует и не может существовать…»
В предбаннике Моцкус стащил тяжелые сапоги, снял мокрую одежду и большими глотками выпил пива, налитого в кувшин. Немного отдышавшись, не спеша осмотрел расставленные на столе свечи, разложенные кушанья и опять предался воспоминаниям…
«Нет, я правда любил и продолжаю любить ее, только какая-то преувеличенная гордость, какая-то никчемная амбиция, это проклятое лицемерие, родная мать ревности и обмана, испортили все. Ведь от колыбели и до гроба мы бредем по бескрайнему болоту самых разнообразных условностей, думая, что это и есть жизнь. А на самом деле она проходит где-то стороной. И лишь когда человек устает, он начинает жить духовной жизнью, и тогда многое проясняется, упрощается. Люди ищут коротких путей к счастью, поэтому и спотыкаются, не достигнув его… Вот чего не поняла Бируте».
– О чем так задумался? – раздался удивительно знакомый голос.
Викторас поднял глаза и увидел перед собой…
– Бронюс! Старый бродяга! – Моцкус вскочил и обнял своего друга студенческих лет. – Значит, ты и есть тот хромой прокурор?
– Я, дружище, я!.. Не устоял перед соблазном… Сто лет! Но ладно уж, наверно, от важных мыслей оторвал?
– Ничего особенного, – неожиданное и искреннее чувство радости было омрачено вопросом Бронюса, в котором Викторасу послышалось подобострастие. Он вновь скис и прикинулся таким, каким его хотели видеть друзья. – Хорошо было бы поговорить с тобой, но здесь что-то не так. Жолинас как в воду канул: все настежь, а его нет… И наш бинокль кто-то унес…
– И прекрасно!.. Зачем этот вонючка нужен? Банька натоплена?
– Натоплена.
– Закуска есть?
– В том-то и дело, что почти нету: пива – бочка, водки – ящик, консервов – гора, а хлеба – ни кусочка, поэтому мне так стало грустно, что хоть плачь. Точно, я никогда еще не чувствовал себя таким одиноким.
– Йонас подскочит, пока магазины не закрыты! Вот и вся проблема, мой милый… Пока не закрыты. А насчет грусти – ерунда. Воспользовавшись вынужденным одиночеством, большие и смелые люди создавали произведения огромной значимости. А мы здесь втроем.
Он разделся, вошел в баньку и плеснул на камни горячей воды. Потом еще и еще, пока не начали гореть уши. Тогда он забрался на полок и вытянулся во весь рост. Жар окутал его, приятно, расслабил мускулы. Появился Бронюс, и Викторас, сомлевший от наслаждения, стал выкладывать ему свои мысли;
– Но одиночество, Бронюс, не каждому идет на пользу. Одиночество просветляет благородное сердце, а грубая душа от одиночества только еще сильнее черствеет. Одиночество – благодать для великих душ, а для маленьких оно суть страшное оружие пытки.
– Послушай, Викторас, иди ты к черту… Я столько лет не видел тебя, а ты мне передовицы читаешь. Правильно директор предупреждал меня: изредка с тобой встречаться очень интересно, но каждый день – не приведи господь.
– Почему? – удивился Моцкус.
– А потому, что ты на все смотришь через увеличительное стекло, которого у других нет, поэтому они и не понимают тебя.
– Видишь, нынче такие времена: раньше только папа римский считался непогрешимым, а теперь каждый чиновник считает себя папой римским, ясно?
– Не совсем.
– Если не ясно, тогда с сыном надо было приехать, а не через этого барана искать протекцию.
– Прости, почему-то не решился.
– Вот так-то, учитель. Лучше плесни воды, подай веник… и гульнем мы здесь, как гуляли в пору зеленой, несознательной юности!..








