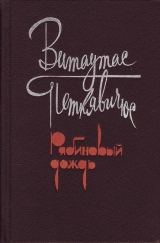
Текст книги "Рябиновый дождь"
Автор книги: Витаутас Петкявичюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
И снова уже испытанная однажды боль пронзила Бируте, будто мать опять огрела ее кочергой. Она приподнялась на цыпочки, напряглась и, не в силах ни вырваться, ни поднять опущенные глаза, была вынуждена смотреть на свои белые, никогда не видевшие солнца груди. Она смотрела и ждала, когда на них появятся синие, налитые кровью пятна…
А когда все вдосталь нагляделись, вожак вытащил из чехла острый нож и, больно схватив ее прекрасную косу, отрезал у самых корней волос.
– На первый раз хватит! – таков был его приговор.
Боже, как она тогда плакала! Бежала домой и дороги не видела. Бежала и спотыкалась, вставала и снова, цепляясь за торчащие оголенные корни, падала на землю. Она ненавидела всех, ненавидела себя – за свою слабость, за свою красоту, которая в хаосе человеческого безумия ничего не могла дать ей, могла лишь навлечь на нее несчастье.
Она пронеслась мимо дома и повернула прямо к озеру. Здесь ее ждал брат, потому что мать и отец, узнав от примчавшегося на велосипеде соседского сына о несчастье, бросились навстречу ей по разным дорогам. А Бируте неслась прямо через поля…
– Не надо, – успокаивал ее вооруженный брат, – не плачь! Они, гады, ответят мне за это!
Она терлась мокрым, распухшим от плача лицом о грудь брата и никак не могла успокоиться, а он гладил дрожащие плечи и просил:
– Не надо, Бирутеле, не унижайся. Ведь ты и так будешь самая красивая в деревне. Не надо, малышка, красивые люди должны быть и гордыми…
А когда они пришли домой, ее добрая, ее справедливая, ее строгая мама бесконечно обрадовалась и сказала:
– Слава богу, что все так кончилось. Ведь эти ироды могли и с тобой сделать, как с Казе… и при всех!
И снова эти слова обожгли ее, как удар кочергой, потому что она поняла страшную истину… Нет, она скорее почувствовала, что есть на свете и более ужасные вещи, чем смерть.
А на другой день появился Моцкус. Веселый и молодой, уверенный в себе, он не боялся ходить по земле из-за каких-то зеленых. Он поговорил с отцом; как всегда, выпил парного молока и очень осторожно, поглаживая ее плечи – как брат, подбадривая – как отец, стал расспрашивать подробности этой злополучной истории. Потом разложил на столе множество больших и маленьких, групповых и одиночных фотографий:
– Ты бы узнала их?
Она смотрела в его голубые глаза, на светлые волосы и веселую улыбку, открывающую мелкие белые зубы… и ей снова было тревожно. Совсем неохотно она тыкала пальцем в каждое опознанное лицо и, будто заклиная, говорила:
– Этот, кажется, тот и тот…
Это была не месть, а скорее жажда истины, желание чего-то постоянного и прочного. Когда она глядела на Моцкуса, ей хотелось нежной, мужской дружбы, чтобы, опершись о его руку, она, любимая им, была в безопасности, чтобы могла спокойно поднять доверчивые глаза и почувствовать женскую гордость: вот я какая, но ради тебя могу быть еще милее.
А через несколько дней она получила письмо Навикаса, грозное и мстительное: «Ведьма, ты будешь стерта с земли».
«Милая, хорошая!..» И вдруг – «ведьма».
Или: «Проклятая ведьма!..» И снова глубокое раскаяние: «Ты моя святая…»
Со снисходительной улыбкой видит Бируте, как бежит она в костел и несет под пальтишком красивую, разукрашенную рисунками и перевязанную лентой свечу первого причастия. Осторожно ставит ее у алтаря и от всей души молится:
– Пресвятая дева, сохрани!..
А через некоторое время рядом с ней опускается на колени сломленная горем и болезнями мать Казе, обманутая барчуком старая дева. Она дрожащей рукой капает на ступеньки алтаря воск, ставит еще одну, не такую нарядную, свечу и, ничего вокруг себя не видя и не слыша, просит ту же пресвятую деву:
– Чтобы их, гадов, скрутило…
«Ведьма», – подумала она тогда и с великим страхом отодвинулась подальше от нее. А теперь… Но что теперь, что теперь? Ведь и она, и мать Казе пережили эти беды, может, обе только постарели и стали чуть лучше. Ведь ведьма и богиня – это две ипостаси одного и того же образа, рожденного воображением мужчины. В жизни нет ни ведьм, ни богинь, ни проклятых, ни святых. В жизни все они одинаковы. Когда мужчины добиваются их, любят их – они богини, а когда те же мужчины не находят в них того, чего искали, – они ведьмы, вот почему для мужчины женщина всегда была и остается загадкой, воображение мужчины не в силах слить эти две, как он считает, разные ипостаси, так часто и так дружно уживающиеся в одной женщине. Как можно любить, восхищаться, молиться бескорыстной красоте женщины и в то же время знать, что эта богиня – живое существо, которое ест, пьет и любит принарядиться…
«Вот тебе и ведьма… И вот тебе святая», – сегодня Бируте снисходительна и к себе, и к мужчинам. Возвышенные природой, воспетые мужчинами, они часто теряются от нескольких искренних слов и начинают подражать тем, для кого они предназначены. И только немногие, очень немногие понимают свою изумительную исключительность и умеют пользоваться ею. Вот такие, думает она, и имеют право водить мужчин за нос, потому что они и после этого остаются в их глазах святыми…
Бируте чувствует, что поняла это слишком поздно. А как стал бы жить человек, если б не ошибался? О чем вспомнил бы и о чем пожалел?.. Она видит окровавленного Стасиса, еле стоящего на ногах. Он крепко держится за забор. Лицо – сплошной кровоподтек, не видно ни глаз, ни губ; уставившись на нее невидящим взглядом, он как безумный все спрашивает и спрашивает:
– Ты просила его?
Бируте умывает его, смачивая полотенце в тазу, ей некогда думать, у нее тоже дрожат руки и пропадает голос.
– Ты просила его? – Он будто на краю бездны…
Ей нравилось, когда мальчики соперничали из-за нее, она испытывала удовольствие, когда они наперегонки бросались выполнять ее желание, ей бывало хорошо, когда они, стоило лишь ласково взглянуть на них или улыбнуться, терялись и краснели как вареные раки, но такая жертва – человеческая жизнь – ей никогда не была нужна. И когда она наконец поняла, о чем говорит Стасис, ей стало страшно:
– Чего просила?
– Ну, чтобы он отвел меня в лес и…
– Психи вы! – воскликнула она. – Как ты можешь! – Она страшно разозлилась, что Стасис поверил этому подлецу. – Оба вы психи: и ты, и он. Это вам, недоросткам, нужно, чтобы вся деревня жила в страхе! – Она уже не помнит, что кричала дальше, но теперь без колебаний добавила бы: совесть мужчинам дается лишь для того, чтобы у них было чем поиграть.
А потом из соседнего лесочка на базарную площадь привезли Навикаса. Он лежал вытянувшийся, закатив глаза и разбросав руки. Бируте увидела его случайно, остановилась в испуге и тут же отвернулась, но это зрелище заставило ее вздрогнуть.
«Так ему и надо, – пыталась убедить себя, но чувствовала, что это неправда. – Хватал, преследовал, требовал клятв, а теперь ему уже ничего не надо… Ведь мог, дурак, жить. Кто ему мешал? Катился из класса в класс на одних троечках и ничему хорошему не научился, только смотрел на других и подражал им… – Но в душе не было никакой злости. Она исчезла, когда Бируте увидела слезы матери Навикаса, которая на голых коленях прошла по заплеванной мостовой от трупа сына до самого костела. – Вечный покой ему…»
Бируте была и останется женщиной, хотя тогда, по совету мамы, носила самую худую одежду, влезала в отцовскую поддевку и штаны. Она никуда не выходила из дома и даже запеть погромче не осмеливалась. А когда осенью объявился Альгис, она уже боялась заговорить и с ним: как знать?.. Но Альгис был настойчив. Он ходил по пятам как тень, а однажды остановился перед ней и спросил:
– Почему ты боишься меня?
Она ничего не ответила, только посмотрела на него, заметно выросшего, широкоплечего, с полоской черных, еще не познавших бритвы усиков, и спросила:
– Ты с фронта?
– Не довелось, – тяжело вздохнул он, стыдясь своей честности. – Тогда отец с Жолинасом связали меня, вытряхнули из униформы и спрятали у дяди Юргиса в чулане. – Эти слова он произнес со щемящей болью и с такой насмешкой над собой, что у Бируте даже мороз пробежал по коже.
– Ты сердишься на них?
– Нет.
– А на себя?
– Уже нет, наверно, иначе нельзя было.
– А как насчет армии?
– Отсрочка…
Так они стояли друг против друга и не знали, о чем говорить, хотя были детьми одной деревни, соседями, хотя учились в одной школе и даже дружили… Но теперь… Как знать?
– Ты мою фотографию не выбросила?
– Нет, она не кусается… – Стеснительность Альгиса снова сделала ее строптивой и по-девичьи беззаботной.
– Тогда я приду…
– Приходи, только кол с собой прихвати, чтоб от собаки защититься, а нам дрова пригодятся, – сказала и убежала, хихикая.
Прошло еще полгода. Лес звенел от выстрелов, а люди совсем притихли. Никто не полуночничал, не зажигал свет, а если уж нельзя было сидеть в темноте, то наглухо занавешивали окна. Пришла весна, потом и знойное лето. На поля вышло совсем немного мужчин, а на участках появились полосы, заросшие сорной травой. Эти полосы росли и ширились, заражая бодяком и те поля, на которых уже зеленели поднявшиеся хлеба.
Однажды, прибежав с огорода, она случайно услышала разговор родителей:
– Пожайтис приходил.
– А чего ему?
– Насчет Бируте.
– Пусть сначала молоко на губах обсохнет.
– Да старик просит.
– А ему чего?
– Говорю, насчет Бируте.
– Сдурели люди.
– Ты, мать, может, и зря, – тянул отец. – На твоем месте я не стал бы так противиться; налилась девка что ягодка, вот каждому паразиту и не терпится, каждый лезет со своими лапами…
– Господи, вот это дожили! Раньше калека считался несчастным, а теперь – человек божьей милостью…
– Пожайтисову Альгису тоже не легче: парень что ясень, порядочный, трудолюбивый… Ночью одни приходит, уговаривают, днем другие подбивают, сладкую жизнь обещают… А куда ему деваться?
– Молод еще.
– Наша тоже не старая дева.
– Сколько ему исполнилось?
– Двадцатый пошел.
– С ума сойти.
– Вот старик и говорит: поженим, все равно они друг от дружки нос не воротят, а женатым нынче легче: в армию не берут и от этих паразитов детьми можно защититься…
Бируте почувствовала страх и опустошенность. Она медленно попятилась, потом бочком выскользнула в дверь и возмущенная направилась прямо к Альгису.
Вот тебе и любовь, вот тебе и мечты, вот тебе и стеснительность… Ему не я, а мои дети нужны как оружие, как дымовая завеса, ему нужна моя юбка, чтобы, спрятав под нее голову, он тоже мог почувствовать себя мужчиной! Хотела вцепиться ему в волосы, хотела выругать, хотела ударить кулаком по лицу, но ничего не сделала, только постояла перед ним, поглядела упрекающим, исполненным боли взглядом и, повернувшись, пошла назад.
– Что случилось? – спросил Альгис, догнав ее.
– Раньше за Вайчюлисову спину прятался, а теперь – за отцову? – торопливо говорила она. – А потом за мою спрячешься.
– О чем ты? Я ничего не знаю.
– Не знаешь, а кто послал отца сватом?
– Куда послал?
– К нам.
– Не ври.
– А ты – не дури.
– Погоди, зачем он приходил?
– Меня торговал, словно корову.
– Бируте!..
– Поклянись!
– Свихнулся старик.
– Ты не знаешь? Ты правда ничего не знаешь?.. Слово?
– Нет!
Она обернулась, обняла его и, повиснув на шее, громко поцеловала. Бируте казалось, что после той страшной вечеринки в школе никто не посмотрит на нее. Она считала, что и отец Альгиса выбрал ее только потому, что она не такая, как все, что она стриженая, опозоренная, что она не будет набивать себе цену и посчитает его предложение за великую честь… И когда она все обдумала, Альгирдас стал для нее таким милым и таким хорошим, что она не удержалась, чмокнула его еще раз и пустилась бегом к дому. Только у калитки обернулась и немножко удивилась, что он не гонится, что его нет рядом. Он все еще стоял посреди большака, как придорожная часовенка, а рядом чернел огромный, расщепленный молнией дуб.
Потом все пошло само по себе. Когда под осень ксендз огласил их фамилии и они отправились домой, взявшись за руки, Бируте была счастлива. Она шла и оглядывалась, она хотела, чтобы все видели ее вот такой, веселой и беззаботной, особенно те, которые стояли в школе понурив головы и не осмеливались посмотреть ей в глаза. Ей даже хотелось встретить хоть одного из тех вооруженных бандитов, которые издевались над ее девичьей гордостью и красотой, ибо тайком надеялась, что подлец лопнет от зависти… Она обрадовалась, встретив подростков, которые, увидев рядом Альгиса, не посмели обзываться и петь частушку, сочиненную братьями Навикаса:
Девку стригли,
Девку брили,
Черти в гости
К ней ходили!..
Они ходили так до позднего вечера, пока не устали. Потом присели на огромные бревна отдохнуть. Он осторожно прижимал ее к себе, рассказывал всякую веселую ерунду и наконец заставил себя произнести:
– Знаешь, я все еще не смею сказать тебе, как папа маме: спокойной ночи.
– А ты не говори.
– Я и не говорю, только смех разбирает: ложатся в одну постель и говорят: спокойной ночи, отец… спокойной ночи, мать…
Он сказал это невзначай, но Бируте будто кипятком ошпарили. Она встала, но убежать не посмела. Потом через силу фыркнула и сказала:
– Спокойной ночи, отец.
– Доброе утро, мать, – Альгис тоже встал и наконец по-мужски обнял ее.
Бируте крепко прижалась к нему и, не зная, куда девать руки, взялась за лацканы его пиджака, уткнулась лицом в плечо. Альгис целовал ее волосы и медленно покачивал из стороны в сторону. И пока они так стояли, таял леденящий душу страх, исчезало навязанное ей злыми людьми пренебрежение к себе, к своей девичьей красоте. Чего она раньше избегала и боялась как огня, теперь казалось ей необходимым и неизбежным. Она даже страстно хотела, чтобы он был еще смелее, еще сильнее прижал ее, чтобы ласкал, чтобы унес на руках…
Любовь к Альгису стала ее тайной и ее храмом, алтарем ее девичьих мечтаний, ее жертвенником, на который она могла сложить все и даже подняться сама… Но Альгис не осмелился.
– Спокойной ночи, мать.
– Спокойной ночи, отец.
А через несколько дней Альгиса арестовали.
Это несчастье уже давно для нее – причина постоянной, физически ощутимой боли. Бируте все еще носит его под сердцем, как ржавый осколок, как тяжелую болезнь, дающую знать о себе перед каждым ненастьем.
И Бируте захотела еще раз увидеть Альгиса, увидеть сейчас же, немедленно… И чем больше она сдерживала себя, тем сильнее обжигала тоска, подстрекала и мучила ее. Она уже не старалась уснуть. Поднялась, умылась в озере, стряхнула с себя травинки и направилась к дому.
Пусть он увидит меня такой, какая я есть, решила и даже не подумала, что ее неожиданный приход будет лишь бледным и смешным повторением их прошлого…
Уже который день Саулюс чувствовал себя куда более значительной личностью, чем его товарищи по работе. Только ценой огромных усилий он не выбалтывал друзьям свои приключения, когда начинал рассказывать ходящие о Моцкусе легенды. Он гордился этим и думал о том, какие жалкие люди рядом с ним, если они позволили так долго водить себя за нос. Повстречав в гараже Йонаса, он начал воспитывать его:
– Помнишь, ты говорил: заставить человека думать можно только постоянно хлопая его пониже спины?
– Говорил, – нисколько не удивился тот. – А тебя уже хлопнули?
– Еще нет.
– Тогда чего кривляешься, чего вдруг полез в философы?
– А не кажется ли тебе, что некоторые только этим и занимаются?.. Они бьют других, где только достают, но приходит время, и выясняется, что самим-то им думать нечем.
– Я стараюсь, но не могу усечь, куда ты гнешь…
– Никуда я не гну. И насчет себя можешь быть спокоен. На сей раз я не о хлопающем, но о мыслящем.
– Кто он такой? У меня на пустые разговоры времени нет. Дома обед стынет.
«Что, пора на втором носке петли спускать?» – хотел уколоть Саулюс, но сдержался.
– Я о Моцкусе. – Решил только ему доверить тайну, но Йонас встал на дыбы:
– Ты хоть соображаешь, что говоришь, осел?
– Чувствую.
– А ты знаешь, что и Моцкусу кое-что про тебя известно?
– Теперь это не имеет значения.
– Имеет, Саулюкас, и даже большое. Он знает, что той ночью на шоссе ты несколько раз превысил скорость, что на повороте на восемнадцатом километре больше двадцати метров ехал на двух колесах, что некрасиво обманул задержавшего тебя автоинспектора.
– Это уж подлюга Милюкас нагадил.
– Это неважно – кто! Ведь это правда?
– Правда, я не отрицаю, но Милюкас не спросил меня, почему я так поступил, что в тот день творилось в моей душе…
– Видишь ли, можно подумать, только у тебя одного такое сложное нутро, мы и не претендуем на роль твоих исповедников, тем более Милюкас… Но когда обстоятельства потребуют, он не моргнув глазом выпотрошит тебя и, узнав, сколько метров ты проехал в тяжелом душевном состоянии, снова зашьет, извинится, но за свои труды чуть добавит тебе.
– Что добавлять, если я абсолютно не виноват?
– Посоветует наказать тебя в административном порядке, вычесть расходы на амортизацию и разобрать на общем собрании шоферов гаража за оскорбление почтенного и ответственного человека. Конец рапорта будет такой: «выразившееся в совершенно безответственном пустословии…» Мне кажется, Саулюс, что Милюкас – большой психолог.
– Тебе Моцкус пожаловался? – Саулюс покраснел и на полтона снизил голос.
– Нет, я прочитал все это и пришел к нему посоветоваться, а он, из любви к тебе, приказал положить все в архив, чтобы через сто лет историки читали и удивлялись, какой высокой моралью отличались наши шофера, которых боженька наградил особым талантом копаться и душах своих друзей, и как несправедливы были их начальники, не давшие подобному делу никакого хода.
Саулюс прикусил губу. Его спесь как ветром сдуло, но он все еще считал себя несправедливо обиженным:
– Нет, даже этим вы меня не подкупите. Я сам потребую собрания и не буду молчать.
– Не молчи, тогда пострадаю и я, написавший, что в тот вечер, кроме минеральной, ты ничего в рот не брал.
– Если я пью, Моцкуса это не касается.
– А его жизнь тебя касается, сыщик несчастный?! Не такие головы в его биографии копались и не откопали ничего, кроме того, что было на самом деле. А ты зря обижаешь человека, свинья. Если уж такой святоша, зачем помчался из дома в Пеледжяй? – Йонас смотрел открыто и прямо.
Не выдержав его взгляда, Саулюс опустил голову и, что-то бормоча себе под нос, побрел по гаражу, пока не зацепился за ноги Игнаса. Подстелив брезент, Игнас лежал на спине и ковырялся под машиной. Кое-что вспомнив, Саулюс схватил брезент за края, вытащил его вместе с Игнасом, потом поднял шофера за грудки и зло сказал:
– Артист, если ты еще раз верхом на бутылке шампанского подкатишь к Грасе, я тебе морду расквашу.
– Саулюкас, ты пьян, – Игнас, ничего не понимая, прикрылся локтями, будто его уже били.
– Только так, – дулся Саулюс. – Думаешь, тебе одному высшие вселенские существа свою волю диктуют?
– Ты с ума сошел!
– Твоими стараниями.
– Будь мужчиной, не дури, – Игнас кое-как освободился из цепких рук товарища, – еще увидит кто-нибудь. А заходил я к тебе – деньги одолжить. Ко всем обращался, а друзья посоветовали: иди, мол, к Моцкусову подкидышу, у него денег куры не клюют.
Саулюс опустил руки.
«Любимчик, служка, а теперь еще – подкидыш», – лихорадочно думал, как ему огрызнуться, но ничего подходящего не приходило на ум. Все слова казались наивными, мелкими и глупыми: будто подслушал их у мальчиков, что шатаются по улицам и ищут смысл жизни в кафе.
– Я тебе зубы повышибаю! – вдруг подскочил словно ужаленный.
– Не сердись, ты очень похож на него.
– А шампанское? – буркнул только для того, чтобы не молчать.
– Подарили мне. Думал, мы мало знаем друг друга, разговаривать легче будет. В одиночку такой благородный напиток вроде и неудобно лакать. Ну как, сможешь сотню-другую?
– У Моцкусова подкидыша и проси, а мне наплевать на вашу болтовню, – повернулся и, дурея от невымещенной злости, ощущая во рту горечь от рома, закрылся в машине и приготовился вздремнуть.
После обеда, боясь раскрыть рот, возил заместителя и какую-то гостью по ресторанам, а вечером был за это вознагражден.
– Я понимаю, – сказал раскрасневшийся заместитель, – почему Моцкус так ценит вас. Прекрасно понимаю! – Потом бросил еще несколько слов: – Сознательный, молчать умеете.
«Молчать умеют не сознательные, а подлецы, так было во все времена», – хотел отрезать, но почувствовал, что его не поймут. Слова заместителя больно задели его и заставили еще долго плутать по городу в поисках таких же непонятых, как он. Наконец, отыскав троих компаньонов, раздавил в подворотне бутылочку и, захмелев, пришел домой мириться с женой, но ее не было. Пошарив по карманам, наскреб еще один рубль и опять очутился у двери гастронома. Поднял три пальца – словно приносил клятву в суде, – подзывая в компанию собутыльников.
– За бога, царя и отечество? – подошел один с багровым носом.
– Заткнись, – и застыл, увидев, что попался.
– На каждую лампу по фаустпатрону? – не отставал пьяница.
– И тебе не стыдно? – К нему с покупками в руках подошла Грасе. – Боже мой, если так хочешь, я куплю. Сколько тебе: две бутылки, три?..
– Ну и кадр! – довольный, оскалился пьяница.
– Сгинь! – Саулюс передернулся. – Ну?! – Потом жене: – Мне как Моцкусову подкидышу и сухое вино сойдет. Возьми получше, дома вдвоем выпьем, – улыбался через силу, пока не почувствовал, что так куда приятнее глядеть на свет, чем насупившись. – Дай сумку, тебе тяжело, – окончательно оттаял и энергично, чтобы протрезветь, потряс головой.
Во дворе их дома, обсаженном молодыми деревьями, ходил Моцкус. Он поздоровался с Грасе, извинился и, отозвав Саулюса в сторонку, сказал:
– Вернулся на самолете, решил сэкономить денек. Завтра утром будь у меня до зари, поедем искать Бируте. Заодно и поохотимся.
– Ведь вы бросили?
– В последний раз, надо с директором лесхоза помириться. Только выспись хорошенько, – протянул руку, пожал, повернулся и пошел. Возле него бежал красивый охотничий песик.
Наверно, из Москвы привез, подумал Саулюс и тут же получил от Грасе:
– Мог и к нам пригласить… Если б не он, по сей лень сидели бы у родителей на шее. И кто тебя воспитывал, такого неотесанного чурбана?
– Завтра, Грасите, все решится завтра… – Он и сам не знал, почему все должно решиться завтра, почему не послезавтра или в другой день?.. И вообще, надо ли что-нибудь решать? Саулюс чувствовал, что в его жизни должно что-то измениться, поэтому тревожился и торопил: – Если должно случиться, пусть случается теперь, сейчас же, немедленно, – а слово «завтра» вырвалось у него случайно, так, ничего не значащее слово.
Бируте шла по тропинке, заросшей густыми кустами сирени, когда услышала стук топора, а через некоторое время увидела и Альгирдаса, который обтесывал большое дубовое бревно. Сверкающее в лучах солнца лезвие топора то взлетало над его головой, то молнией вонзалось в дерево.
Бируте остановилась и залюбовалась его работой. Она знала, что Альгис похоронил родителей и теперь живет один. Они встречались уже не раз, все где-нибудь в поле или в городке, перебрасывались несколькими словами, но заходить к ней или приглашать ее к себе Альгис избегал. Не набивалась в гости и она, так как все время чувствовала себя в неоплатном долгу перед ним, а он мужественно молчал или обходился детскими шутками, будто они все еще сидели за одной партой прогимназии. И если бы не густой, поднявшийся между их хуторами лес, если бы не глупости Стасиса и тихая гордость Альгиса, может, они и сегодня жили бы как близкие соседи или хорошие друзья…
Он обернулся и застыл в изумлении. Потом вонзил топор, подошел ближе и, дивясь ее наряду, протянул руку.
– Что-нибудь со Стасисом?!
– Нет, – Бируте покачала головой, – я ушла из дому. – Она ничуть не стыдилась, что оказалась в таком жалком положении, и смотрела ему прямо в лицо; его глаза вспыхнули не то удивлением, не то страхом и снова угасли.
– Ведь тебе не шестнадцать, – спокойно сказал он. – Надо уважать свой возраст, Бируте.
– Так я и думаю сделать, – ответила она, почувствовав некоторое разочарование. – Ты можешь отвезти меня в городок к подруге?
– Могу, – ответил он и спохватился: – Но сначала зайди в избу.
В комнате было чисто, но по-мужски сурово и неуютно. Все четыре стены были увешаны распятиями, богородицами, чертями и драконами. Удивленная Бируте не могла оторвать глаз от множества поделок. Особенно поразила ее богородица, в сердце которой были воткнуты сабли, мечи, винтовка с четырехгранным штыком, а над ее головой висел ржавый хлыст, свитый из колючей проволоки. Она держала на коленях своего сильно уменьшившегося после смерти сына и смотрела на него с такой болью, будто до мельчайших подробностей знала жизнь каждого человека, всю нелегкую жизнь Бируте. Само страдание лежало у нее на коленях и кололо всем глаза.
– Это твоя? – спросила она.
– Нет, твоя, – ответил он. – Самая первая, я еще там вырезал ее для тебя.
– Ты все один? – Бируте попыталась улыбнуться, но ничего не получилось.
– Как видишь, – он показал рукой на стены.
И черти показались ей знакомыми, будто где-то их видела, и драконы. В затейливо вырезанной рамке висела и ее фотография. Бируте смотрела на себя – молодую, большеглазую, с коротко отрезанными волосами… и почувствовала слабость. Ухватившись за край стола, она поспешно села и только тогда увидела, что он застлан белой скатертью и накрыт на две персоны.
– Ты ждал кого-то?
– Ждал.
– Я помешала тебе.
– Нет.
– Ты говори прямо.
– Я ждал, хотя точно знал, что никто не придет.
– И она пришла? – Слабость накатилась на нее новой волной. Она не верила в такую возможность, гнала ее прочь… и все-таки было хорошо думать о ней, было очень хорошо думать о том, что где-то и кто-то еще умеет ждать… Ее или не ее, какая теперь разница!
– Нет, она не придет. – Он принялся расставлять тарелки.
При взгляде на еду Бируте почувствовала голод, и ей стало легче. Между тарелками с огурцами, хлебом, салом и вареной капустой стояла бутылка водки. На одной салфетке лежала перевернутая фотография. Увидев ее, Бируте вздрогнула и отвернулась, потому что ее охватило такое любопытство, такое желание перевернуть фотографию и посмотреть на нее, что неожиданно зачесались руки. Но сделать этого Бируте не посмела. Сосредоточив все внимание, она смотрела на лежащий перед ней листок плотной бумаги, испещренный несколькими кривыми строчками, и старалась припомнить, как могла попасть к нему эта фотография. И не могла вспомнить.
А может, домашние? Может быть, они послали ему мою фотографию? Неужели он до сих пор?.. У нее стало хорошо и спокойно на душе. Она улыбнулась Альгису и откровенно призналась:
– Знаешь, я страшно голодна… И от рюмочки не откажусь.
Альгирдас вскочил, принес яиц, поджарил яичницу, нашел старое, совсем засахарившееся варенье, нарезал сушеного сыра и снова зачем-то убежал. И пока он бегал, она несколько раз порывалась протянуть руку и перевернуть фотографию, но не посмела. Только после нескольких рюмок осторожно подняла ее и посмотрела. Со снимка на нее глядело лицо незнакомой женщины. Будто ушат холодной воды опрокинули на Бируте, и она протрезвела. Поставила фотографию, прислонив ее к краю тарелки, и спросила:
– Праздник?
– Годовщина.
– Ее уже нет?
Он покачал головой и выпил.
– Может, тебе не надо пить, – сказала она, – ведь придется отвозить меня в район.
– Рюмку можно. Я делаю это каждый год, иначе было бы некрасиво…
Бируте смотрела на его спокойное, заросшее белесой и черной щетиной лицо, на сильные толстопалые руки и странные голубые, светящиеся, как у ребенка, глаза, и ей казалось, что он все еще стыдится своей доброты.
– Почему ты прятал ее? – снова чуть захмелев, спросила она.
– Не прятал, – он опять перевернул фотографию. – Еще не пришло время.
– Разве не все равно?
– Для меня – нет, – ответил он. – Когда живешь один, надо что-то придумывать, чтобы не сойти с ума.
И вдруг Бируте разозлилась на себя. Зачем она сидит здесь, среди этих развешанных богов, среди этих чертей и драконов, отнявших тепло когда-то близкого ей человека, блеск его глаз. Бируте не нравился этот дележ, она не хотела его, поэтому не вытерпела и сказала:
– Знаешь, кто подсунул тебе винтовку?
– А какая теперь разница?.. – Он сделал паузу и заставил себя сказать: —…Если ты подсунула ему себя…
– Ты знаешь? – Ей захотелось переложить на Альгиса хоть часть своей боли. Не только боли, слабости и неуверенности, но и той вины, которую она не могла себе простить… хоть по крупинке всего.
– Знаю.
– Тогда скажи и мне.
– Ты к нему больше не вернешься?
– Нет, – ответила, не подумав, и испугалась: – Стасис?
– Не совсем… Он только увидел и донес, а подсунули те, которые и твоих родителей… Сначала они считали меня своим, а потом… сама знаешь.
– Но они могли убить тебя.
– Не могли, поэтому и рассчитались чужими руками.
Она уже жалела, что сказала об этом и себя унизила. Альгис, оказывается, все знал и давно приучил себя к мысли, что иначе уже не будет, поэтому он даже не вздрогнул, услышав вопрос Бируте. Его глаза снова как-то по-детски засверкали голубыми огоньками, и он спросил:
– А ты почему ушла?
– Он – подонок, хотя и ты ненамного лучше его. Почему до сих пор молчал?
– Не хотел отравлять тебе жизнь. Ведь нелегко было бы с таким человеком жить…
– Нелегко…
– Почему сейчас ушла?
– Ушла… – Она хотела сказать: «Только потому, что ты столько времени даже пальцем не пошевелил ради меня», но не сказала. – Так надо было: ушла, и все!
Глядя на Альгиса, она чувствовала, что уже не смогла бы любить этого человека. Она бы жалела его, ухаживала за ним, потакала ему, но любить – нет. Раскаяние – не любовь. Раскаиваться – это терзать саму себя, а для любви такая жертва слишком мала.
Она встала, посмотрела в зеркало и рассмеялась. «Беженка военной поры», – подумала и расхохоталась еще громче. Альгис молча отвез ее на мотоцикле к подруге, вежливо попрощался и снова уехал, как решила она, вырезать деревянных людей… «Пусть, – махнула Бируте, – если ему среди искусственных легче…»
Оставшись одни, они поговорили обо всем, что накопилось в душе.
– Я и не предполагала, что ты такая молодчина, – сказала Тересе. – Боже, чем глупее иногда поступки человека, тем умнее он кажется. Только зря ты оставила этому жмоту свои вещи.
– Нет, не все, кое-что надела.
– Надо было и эту шубу, и рубашку швырнуть ему в рожу и уйти совсем голой: пусть глядит и воет! – Тересе выбирала из шкафа белье, платья и свирепо бросала на кровать: – Примеряй, может, как-нибудь влезешь.
Бируте оделась. Вещи были ей тесны, всюду жало и обтягивало. В поисках носового платка она сунула руку в карман шубы и застыла. Потом вытащила и посмотрела. Это была приличная пачка денег.
«Альгис», – подумала, и жизнь показалась ей хорошей и приятной. Она не выдержала, несколько раз крутанула подругу и сказала:








