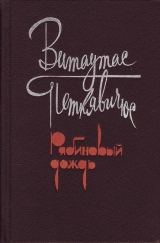
Текст книги "Рябиновый дождь"
Автор книги: Витаутас Петкявичюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
«А людей, которых взбудоражил, перед которыми слова не сдержал, – их здесь оставишь или с собой заберешь?»
«И другой не хуже меня эту работу выполнит, Может, даже лучше», – я не думал, что он серьезный разговор затеял, поэтому только отмахнулся.
«Хотя бы Гавенайте помоги», – не отставал он.
«А это уже не твое дело», – обиделся я.
«Не мое, – согласился он, – но признайся, к делу Пожайтиса ты равнодушен только потому, что Бируте нравится тебе и ты хочешь сберечь ее для себя как неприкосновенный запас, если в Вильнюсе у тебя не получится с этой фельдшерихой второй молодости».
«Замолчи, – рассердился я, – за такие слова можно и по физиономии схлопотать».
«Бей! – не уступил он. – Но если ты так и оставишь Бируте, я сам дам тебе в зубы».
И я стукнул. Он постоял сжав кулаки, потом отчетливо, чтобы все слышали, сказал:
«Ну, вот и вспыхнула война, и не похожие, а очень разные люди виноваты в этом. Но оплеуху ты дал себе как плату за более жирную гречневую кашу, которой тебе страшно захотелось», – хлопнул дверью и ушел. В полночь.
Я стоял разъяренный и чувствовал, что он прав, что я делаю что-то не так, что ради сытого настоящего я рискую своим будущим, а может, и всей своей экзистенцией. Надо было догнать его тогда, вернуть, извиниться, надо было сесть и вместе хорошенько поразмыслить, как выбраться из создавшегося положения, но я равнодушно ляпнул: «Баба с возу – кобыле легче», – и пил до зари.
Водка не брала меня. А чувство вины все возрастало, увеличивалось, наконец, я не выдержал, взял нескольких парней и пошел к Напалису. На большаке нас встретили дети, ходившие по грибы. Они испуганно рассказали, что возле дороги лежит мертвый человек и винтовка… Я сразу понял, что это он. И когда подбежал, ты не поверишь, первое впечатление было такое, что на земле лежу я сам. Я даже вздрогнул. Мне показалось, что меня уже нет, что на землю упала моя совесть, мое прошлое, что я отрываюсь от каких-то корней, привязывавших меня к земле, что я, словно уж, вылезаю из своей старой шкуры, а новой у меня нет…
В кармане у Бутвиласа мы нашли только старую, сплюснутую гильзу орликона. Я вертел ее в руках и все думал: вот уже нет человека… Нет! А мне после этого не стало просторнее. Наоборот, после этого я задыхаться начал… Но когда вечером родился его ребенок, я кричал про себя: нет на свете двух одинаковых существ! Каждый человек – это неповторимое творение земли нашей, поэтому каждая мать, рожая ребенка, дарит миру первого человека!.. Успокоившись, я поклялся стать этому ребенку отцом, но через несколько дней Дануте, выпустив из хлева всю скотину, ушла из Пеледжяй и словно в воду канула. Я искал ее, искал долго, терпеливо, но не нашел. Думал, вышла замуж, сменила фамилию… И когда уже пропала всякая надежда найти ее, когда я сам порядочно подзабыл все это, его сын пришел работать к нам в гараж. А теперь – эта злополучная катастрофа.
– Я уже не раз слышал обо всем, кроме этой злосчастной катастрофы. Ты рассказываешь и словно кричишь: люди, торопитесь делать друг другу добро. Мне кажется, не стоит так громко кричать. Ты – не поэт. Делать людям добро надо тихо, без бахвальства, не кричать на всю улицу.
– Ты прав, но после того случая одна потеря следовала за другой, исчезали люди, окружавшие меня, самые лучшие, самые чуткие и талантливые, а мне все ничего, будто меня заговорили: и молнией не убило, и пуля не нашла, и брошенная в окно граната не взорвалась… Но подлинное счастье все равно обходило стороной.
– Мне кажется, наоборот, – снова возразил Алексас. – Благодаря этим потерям ты приобрел доброе имя, положение в обществе, достиг вершин науки.
– Не дразнись. Положение, наука, доброе имя – все это ничто по сравнению с душевным покоем, который был у меня до того злополучного дня.
– А может, твои терзания, чувство вины как раз и сделали из тебя знаменитость?.. Что еще могло заставить работать?
– Мне кажется, ты угадал, но знаменитость – это легенда. А легенды создают люди, совершенно не знающие тебя, – пробормотал Моцкус и замолчал, но, не дождавшись ответа, снова погрузился в воспоминания.
В больнице Алексас уединился с врачами, потом осмотрел Саулюса, долго советовался с главврачом, звонил в Вильнюс, консультировался, а Викторас ходил по пустому кабинету, курил, механически читал дешевые брошюрки о вреде алкоголя и осложнениях после гриппа, читал и ругал себя: ляпнул и не объяснил – что же это за другие потери? Погибшие друзья? Должность, которую ты потерял?.. Ни черта, ты уже давно все позабыл, нет, чем больше стареешь, тем чаще и чаще жалеешь о единственной настоящей потере – о Бируте, а все остальное для тебя – только фон или питательная среда…
И когда Моцкус меньше всего ждал этого, в кабинет вошла Бируте, вся какая-то неловкая, не вмещающаяся в тесный халат, не знающая, куда девать глаза и бездействующие руки, а Моцкус, будто он только вчера расстался с ней, сразу подскочил, поцеловал в щеку и спросил:
– Как ты думаешь?
– Ты о раненом?
– Да.
– Поправится.
– Сама так думаешь или доктора говорят?
– Сама.
– Тогда и я верю.
Других слов они друг для друга не нашли. Растрогавшись, Моцкус еще раз поцеловал ее руку и сказал:
– Ты прости меня.
– За что?
– За все. Просто так – прости, и все.
– Я уже давно простила. Прощу и то, что будет, только не дури очень. С бедой не расправишься, как с врагом, ей и поклониться приходится… Как женщине…
Когда Милюкас ушел, Стасис испытал ужас при мысли о том, что заключалось в словах инспектора, в том, как он вел себя.
«Боже, и опять этому черту ничего, а для меня – все сначала!» – Он вдруг ощутил какой-то неприятный, насквозь пронизывающий холод и, схватившись за стол, пошатываясь, долго смотрел на остывающие грелки.
– Одна синяя и две красные, – повторял он без всякой связи, – одна красная, другая красная, и снова синяя… А теперь ты попроси у этой красной, словно у господа бога, чтобы все было не так, как этот хрен Милюкас напророчил. Крестом ложись или сгинь, испарись, как камфара, или пой, как Пакроснис, потому что теперь все они набросятся и живьем меня слопают, без соли и перца. – Сначала он думал догнать Милюкаса и еще раз как следует обо всем расспросить, но, обессилев, опустился на лавку, обхватил руками столешницы и прижал к их полированной прохладной поверхности пылающее лицо. – Проси, молись или сгинь!.. – Его охватил такой ужас, что он перестал кричать и прислушался… За окном шумел бор, падала с плотины вода, маленький острозубый короед точил дерево.
«Теперь-то уж все! – словно эхо крика, вернулась неповоротливая мысль. – Остаются озеро, пуля или петля… Это было бы легче всего. А может, сложить руки и, спрятавшись в какой-нибудь лесной яме, закончить все просто и по-человечески? – Едва он подумал о смерти, ему стало жаль себя, и он вздохнул от всей души: – А дальше что? Ничего. Гниль! Серые косточки… Ни солнца, ни пущи, ни этого бедного, засоряемого лесопильней ручейка…» Оставалось только молиться, но чем ближе становилась очная ставка с богом, тем труднее было вспоминать о нем.
– Я обязан жить! – начал ворчать он. – Я обязан выздороветь! – рассвирепел и, схватив синюю грелку, принялся колотить ею по столу. – Обязан! Я должен жить! Очень долго!.. Пока не останется ни одного человека, ни одного врага, ни одного друга, останусь только я, один-единственный, и никого больше. Я хочу!
Так долго затянувшаяся апатия теперь вылилась в непрерывное действие. Терзаемая грелка порвалась и брызнула на руку горячей водой. Боль возвратила его к реальности, и тут мелькнула спасительная мысль, которая никогда раньше не приходила ему в голову, она подсказала выход и вселила крупицу надежды.
«А если пойти и признаться? А если показать этим задавалам, что и я не такой уж жалкий подлец, что и я боролся и рисковал головою во имя Советов и людей?.. Ведь так и было. Точно. Моцкус только семерых тогда уложил, а восьмой испарился. Я сам ноги пересчитывал. Люди еще долго пугали друг друга именем этого восьмого. И не один подлец, используя его имя, еще навещал по ночам магазины. Иной „обиженный“, подвыпив, еще и поныне хорохорится: погодите, Пакроснис еще покажет вам, где раки зимуют!.. А я молчу, так как знаю, что он уже ничего не покажет. Участковый все еще приезжает, расспрашивает народ, мол, может, этот ирод из Америки кому-нибудь письма шлет, может, здесь где-нибудь прячется и тихо доживает свои беспокойные дни?.. А я знаю! Это я освободил людей от этого пугала. Я – Стасис Жолинас! И пусть все узнают, сколько моих светлых дней он превратил в ад, этот подлец из подлецов…»
Эта мысль так завладела Стасисом, что ничего другого он уже не мог придумать. Ухватился за нее, как умирающий за надежду о спасении души, и, боясь потерять драгоценное время, взял лопату, отыскал лом и, подойдя к небольшому холмику, напоминающему старинный курган, начал трудиться. Рыл землю, как экскаватор, и надеялся этой тяжелой работой заглушить еще одну мысль, с каждым днем все сильнее пугавшую его, но вместе с тем все чаще толкавшую его к этому проклятому альпинарию: а как он там?
Подобных погребков в Пеледжяй было полно. Озеро весной широко разливалось, подземные воды не позволяли рыть глубокие подвалы, поэтому люди сооружали их на поверхности, сверху засыпая постройки землей, и старательно обкладывая дерном. Был такой погреб и у отца, и у деда Стасиса, но со временем он обвалился, зарос травой и торчал на краю двора без всякой пользы, ощетинившись рыжей полевицей, которая здесь наливалась зеленью только ранней весной, пока еще хватало влаги, и поздней осенью, когда начинались затяжные дожди… По просьбе Бируте Жолинас забетонировал небольшой пруд – посеял траву, насадил разного мха и цветочков, не боящихся засухи. Собирался поставить возле этого холмика и красивую часовенку, но теперь – да ну его к черту!..
Сорвав дерн, Стасис снял слежавшийся песок, скатил несколько камней и, схватив лом, стал долбить когда-то замурованную дверь погреба. Работал с таким остервенением и с такой силой, что кирпичи не выдержали, потрескались, раскололись и начали крошиться. Потом сквозь образовавшееся отверстие хлынул запах сырой земли и плесени, и лишь когда силы кончились и лом вывалился из рук, лишь тогда он сел на кучу вырытого песка и тут же вспомнил, как через несколько дней после того сражения у Швянтэжяриса кто-то постучался к нему в ставни.
– Кто? – спросил он, нащупывая взглядом прислоненный к дверному косяку топор.
– Свои, – ответил человек бесконечно усталым голосом.
Но когда этот усталый человек вошел в избу, Стасис побледнел и стал пятиться.
– Папечкис!.. Виноват, Пакроснис.
– Он самый, истинный христианин, он самый. Будь здоров и ты, – ответил незваный гость, когда-то так лихо отрезавший у Бируте косы и так метко врезавший Стасису между глаз, что тот чуть стенку не проломил. – Спрячь, – попросил, весь грязный, измазанный кровью.
– А где я тебя спрячу?
– Где хочешь.
– Иди ко всем чертям – вот тебе мой ответ, – не испугался Стасис.
– Не артачься, потому что если мы куда-нибудь и пойдем, то только вместе. Ты понял меня? А ты, старая, не глазей и не крести меня, я пока еще не черт. Воды согрей, мне надо раны промыть. Тряпок холщовых поищи.
И когда Пакроснис без всякого стыда, голый и грязный, окровавленный и перемазанный в тине, с оханьем залез в кадушку, Стасис схватил его оружие, побросал все в угол, а автомат направил на гостя.
– Подними руки! – Он не шутил.
– Не буду.
– Будешь! – снял оружие с предохранителя.
– Не могу, – Пакроснис опустил голову и закрыл глаза.
Стасис сжимал автомат и, вспомнив Навикаса, почувствовал, что не сможет. Гость воспользовался его слабостью:
– Неужели ты выстрелишь в больного человека?
– Ты для меня – не больной, ты – убийца, бандит, палач Гавенасов.
– Гавенасов не я, их – покойный Вихрь.
– Врешь!
– Правда…
– В избе… Под святыми образами… Ведь жить здесь, детей растить, – стала умолять и мать.
– Я не врун, – оживился бандит. – Мне самому Гавенайте нравилась. Девка гордая, красивая, злая что кошка… Настоящая литовка. А теперь положи игрушку, иначе еще, чего доброго, мать застрелишь.
Эти слова обезоружили Стасиса, он почувствовал бессильную ярость. Значит, Бируте была права. Значит, она не со страха!.. Она все знала. Она Пакроснису мстила!.. Значит, в ту злополучную ночь его свадьбы они шли за ней, и он тоже был прав, овладев ею под носом у них! Значит…
– А что бы ты стал делать с ней в лесу? – все еще не верил.
– Детей, – даже не моргнул гость.
– Забудь о ней, – гордо сказал Стасис. – Теперь она – моя жена.
– Мы еще поглядим, – не расстроился Пакроснис и по шею погрузился в теплую воду. – И, будь так добр, потри мне спину.
Стасис тер и все думал, все размышлял, как избавиться от этого подлеца. В мыслях расстреливал его, топил, варил из него мыло, а на самом деле тер ему спину и ненавидел себя. Пакроснис морщился, стиснув зубы, и все пугал:
– Посижу у тебя денек-другой, а потом – поглядим… Только ты не вздумай дурить. Меня ребята Жулкуса сюда привезли, они и приедут за мной… И если не найдут, честное слово, они не станут разговаривать с тобой, как мы однажды под дождем беседовали.
«Какого Жулкуса?! – хотел крикнуть Стасис, но обомлел от радости и не посмел даже рот открыть. – Ведь твоего Жулкуса уже давно нет, сгинул он вместе с этими шестью твоими спутниками, а ты все хитришь? Пугаешь? Ну что же, хитри, пугай и продолжай рыть себе яму…»
Но хитрить гостю было некогда. Перевязав раны и выпив молока, он тут же уснул. Вздремнув часок и поборов первую усталость, сразу же вскочил и схватился за оружие. Потом снова метался во сне и кричал, как ребенок. Стасис целую ночь не сомкнул глаз и все вопросительно поглядывал на мать, а та смотрела на него и качала головой.
– Надо сходить к настоятелю и посоветоваться, – наконец сказала она.
– А почему не к хозяйке настоятеля? А почему не повесить на сук лапоть и не растрезвонить на весь свет? – рассердился Стасис.
– Дитятко, я хочу как лучше, – оправдывалась она.
– Тайна только до тех пор тайна, пока ее знает один человек.
– Побойся бога, сынок, что ты говоришь?
– А тебе хочется, чтобы меня снова к дубу поставили?
– Что же будем делать?
– Ничего, пока подождем.
Утром гость с большим трудом поднялся с постели и слабым голосом попросил привезти доктора или лекарств от жара.
«Матери – настоятеля, этому – доктора, а мне чего?! Только петлю», – думал Стасис и строил всякие планы, потом наконец собрался в городок. Зашел в милицию к Моцкусу, но его принял Милюкас. Посадил на неудобный, высокий стул, будто нечаянно направил лампу в лицо и стал расспрашивать:
– Зачем пришел?
– Мне Моцкус нужен.
– Теперь я за него.
– За него не будете.
– Это почему?
– А потому, что я еще ничего вам не сказал, а вы уже разговариваете со мной как с арестованным. И лампу отверните в сторону, ведь лишаем я не болею, мне греть нечего.
Милюкас выключил лампу и зло сказал:
– Ишь каков! Наверно, и законы хорошо знаешь?
– Перед законом все равны: и знающие, и незнающие.
– Равны, но ты что-то от меня скрываешь.
– Не скрываю. Вы сами все, даже то, что очевидно, превращаете в тайну.
– Хитришь?
– Если б хитрил, не пришел бы.
– Ну и чего тебе надо?
– Мне Моцкус нужен.
– А со мной говорить не можешь?
– Могу, – ответил Стасис и подумал: «Этот гад обязательно засадит меня. Ему правду говорить нельзя. Упечет как сообщника…»
– А почему молчишь?
– Моцкус со мной так не разговаривал.
– Вот и наплодил всякого охвостья! Ты с ним работал?
– Вы сами не приняли, как же я с таким пятном буду работать?
– Ну хорошо. На, закури и выкладывай все по порядку.
– Я не курю.
– Тогда чем тебя угостить?
«Пощечиной», – хотел сказать, но побоялся. Собрал волю и наконец выдавил из себя:
– Папечкис в наших краях объявился.
– Какой Папечкис?
– Ну, Пакроснис. Он, когда в лес ушел, свою фамилию на литовский лад переделал.
– А где ты его видел?
«Если я скажу ему: в другом конце деревни, он обязательно перетряхнет наш дом», – подумал он и сказал:
– К нам заходил. – И эта ложь показалась ему стоящей нескольких истин.
– Давно?
– Два дня назад.
– И ты до сих пор молчал?!
– А что?! Разве я должен был бежать как угорелый и напороться на его пули?
– А если я тебя, гада, посажу за это?
– За что?
– А просто так, за компанию, как его сообщника.
– Вы только таких, как я, и можете сажать, а попробуйте посадить его, – вдруг ощетинился Стасис, – тогда будете знать.
– Прикуси язык!
– Это мне следовало сделать еще до того, как я пришел сюда. – Стасис поднялся, но Милюкас задержал его на целые сутки. Все расспрашивал, записывал, переспрашивал и все время подсовывал бумагу, чтобы он расписался.
Вернувшись домой, Жолинас не нашел гостя.
– Где он? – спросил он у матери.
– В погреб отвела.
– Почему?
– Да кричит он, зубами скрипит, а к нам люди все время то за тем, то за другим заходят… Может быть, так лучше?
Стасис вошел в погреб и до боли зажмурился, подождал, пока глаза привыкнут к темноте, и лишь тогда осмотрелся. В самом углу на свежем сене лежал Пакроснис и держал в руках автомат. Он тяжело дышал, но уже не бредил.
– Как наши дела? – спросил Стасиса.
– Неважные.
– Раны у меня хорошо заживают… Все пули навылет прошли. Теперь только жар сбить, и я снова стану мужчиной. Лекарства достал?
– Принес, – Стасис подал ему таблетки, которые он прихватил наугад из шкафчика матери, и передернулся, вспомнив, как в городке ходили за ним ребята Милюкаса. – А ты долго не задерживайся, люди уже говорят, что видели тебя в разных местах окровавленного…
– Кто видел, тот будет молчать.
– Как знаешь. – Стасис смотрел на вымощенный кирпичом пол погреба, который он, собираясь ремонтировать, аккуратно подмел, и не вытерпел: – Раз есть такие верные, почему ты к предателю полез?
Пакроснис не ответил.
Жолинас тихо вышел, прикрыл только что починенную дверь и вдруг остановился как вкопанный у наспех сбитого ящика, в котором он намешал извести и песка. Он долго смотрел на покрытую пеной воду и о чем-то думал. Потом зашел в дом, собрал вещи гостя, отнес их в погреб, а матери велел:
– Вымой пол. Можешь и с мылом.
Пакроснис встретил его молчанием. В полумраке виднелась только белая подушка. Стасис непроизвольно вздрогнул.
– Ты меня не бойся, – подольстился к нему бандит.
– Я и не боюсь, но ты мне противен, как заразная болезнь, как чирей или что-нибудь в таком роде. Сам не зная об этом, ты испоганил мою жизнь. Если б я мог, в ложке воды бы тебя утопил! – Злился, ругался и чувствовал, что угрозы эти куда больше похожи на раскаяние.
– Спасибо за откровенность. Ты со всеми так разговариваешь или только с больными?
– Когда ты других калечил и убивал, тогда не спрашивал, теперь получай по заслугам. – Стасис все думал о растворе, о том, что он теперь, чего доброго, пропадет без дела. Уходя, Стасис еще раз остановился возле ящика, потом направился к сараю, привез на тачке цемент, навалил его в ящик и принялся размешивать. Работал не спеша и все колебался. Потом решился: закрыл дверь, закрутил ее проволокой и стал класть кирпичи между каменными косяками погреба.
– Что ты делаешь? – услышав постукивание кельмы о кирпичи, крикнул гость.
– Тайник чиню.
– А зачем?
– Чтобы не развалился.
– Открой дверь!
– Успеется! – Он стал еще яростнее класть кирпичи.
– Стасис, чертов сын, не дури, я буду стрелять!
– Стреляй! – На всякий случай он отодвинулся в сторону, и в это время из погреба прозвучала автоматная очередь. – Ну, еще! Ведь ты привычный – по Гавенасам, по безоружным… Чего не стреляешь?
Пленник принялся прикладом колотить по двери. Устав, начал умолять, потом плакать, а Стасис, стиснув зубы, все клал да клал кирпичи. Покончив с этим, стал валить землю: возил на тачке и валил, возил и валил, пока не сровнял края насыпи. Потом утрамбовал, нарубил дерна, покрыл им засыпанное место, укрепил колышками, чтобы не сползло, и полил все водой. Он был так занят работой, что не заметил, как мать остановилась в сенях и, наблюдая за его стараниями, тихо перекрестилась.
На другой день в деревне объявился Милюкас и стал перетряхивать всех подряд. Стасис угадал его намерения и только усмехался в душе, но вдруг о чем-то вспомнил и прибежал домой.
Труба! Труба есть, а двери нет!.. Он вытащил подгнившую, сколоченную из досок вентиляционную трубу и, прижав к животу тяжелый камень, затащил его на холмик, потом опустился на колени, руками расширил отверстие, но, перед тем как закатить булыжник, не вытерпел, прижал к дыре ухо. Пленник пел, визжал, что-то бормотал и снова кричал… Он даже не слышал, как Стасис вырвал трубу. А тот вдруг застучал зубами и вцепился ногтями в сползающий, еще не пустивший корней дерн, потом несколько раз поспешно перекрестился, закатил камень и завалил его землей, утрамбовал и снова покрыл дерном.
Милиционеры навестили его последним. Поговорили, перекусили и ушли. Милюкас отстал от других и спросил:
– Он тебе ничего не передавал?
– Нет.
– Странно. А ты – как договорились: если объявится – сразу на велосипед и к нам. А может, тебе оружие оставить?
– Это можно.
Они постояли посреди двора, поговорили. Милюкас закурил и ни с того ни с сего спросил:
– А что это за курган возле леса?
– Межевой знак.
– Такой большой?
– Раньше возле леса всегда такие насыпали, чтобы не потерялся среди деревьев, когда подлесок поднимется.
– Ничего, скоро и такие распашем. Будь здоров!
Когда последний милиционер оставил их двор, мать подошла к Стасису, притронулась к руке и осторожно спросила:
– Теперь откопаем?
Он посмотрел на мать каким-то странным взглядом и ничего не ответил.
– Побойся бога, сынок, – попятилась она под этим взглядом. – Как мы здесь жить будем?
– А как теперь рядом с кладбищем живешь?
– Но ведь там мертвые лежат – не живые.
– А какая разница? Вылечи его, выходи, а потом он опять всю деревню трупами усеет. Пусть это будет мой грех. За него я перед тобой и перед богом в ответе.
– Как знаешь. – Мать еще раз перекрестила его и отступила, словно от чужого. – Бог – не знаю, но от меня не будет тебе прощения.
Не будет!.. Не будет!.. Но вот, черт дери, пришло оно, – он уже не верит ни во что, сам не раз, когда кошмары выбрасывали его из постели, бежал, схвативши лопату, к этому проклятому погребу, но так и не осмелился его тронуть. И только теперь открыл этот тайник и задумался: «Двадцать лет с хвостиком! – нерешительно остановился. – Да поможет ли? – Немного отдышался и с большой неохотой стал выбирать кирпичи. – А может, не надо? Что было – сплыло. – Чем дольше думал, тем нерешительнее становился: – А вдруг за это не погладят? А вдруг еще и это припишут? Не лучше ли бросить все и уехать?» – Поплевав на ладони, снова принялся наваливать землю, но на сей раз под рукой не оказалось ни кирпичей, ни раствора. Стасис стал оглядываться в поисках какого-нибудь иного материала, но неожиданно увидел Пожайтиса. И не то чтобы испугался его появления, но и не обрадовался.
– Чего тебе? – спросил, сжимая в руке черенок лопаты.
– Поинтересоваться хочу: часовенку на фундамент ставить будешь или в землю вкопаешь? – Подошел ближе, осмотрел выломанную стенку, прогнившую дверь, пнул ее ногой: – А зачем ты его вскрыл?
– Картошку хранить.
– Не поздновато ли спохватился? – полюбопытствовал Альгис и сунул голову вовнутрь, но ничего хорошего там не рассмотрел.
Инстинктивно обернувшись, увидел блеснувшее лезвие лопаты. Не успев прикрыть голову руками, откинулся назад, зацепился за разбросанные обломки кирпича и споткнулся, а лопата больно чиркнула по боку и ударилась о фундамент. Разъярившись, Альгис прыгнул, отшвырнул Стасиса, выдрал из его рук лопату и замахнулся… Но в последнюю минуту в воздухе повернул лопату и плашмя глухо стукнул его пониже спины. Но и этого хватило. Стасис упал и, не пытаясь защищаться, попросил:
– Убей.
Пожайтис повертел в руках лопату, повертел и отшвырнул далеко в сторону. Потом осмотрел себя, соседа и даже попытался пошутить:
– Наверно, ты здесь золото хранишь, что так разгорячился?
– Убей, – повторил Стасис.
– Успею, – расстегнул рубашку, послюнявил палец и провел им по выскочившему и уже успевшему посинеть рубцу, погладил его, поморщился и снова спросил: – Ну и что ты здесь прячешь?
– Сходи и увидишь.
– На этот раз вместе посмотрим, – Альгис не доверял Стасису.
– Я и так знаю.
Альгис скрутил в жгут надерганную из копны солому, зажег его и, перешагнув барьерчик из еще не вынутых кирпичей, толкнул прогнившую дверь. Нога прошла как сквозь мокрую бумагу. Альгис залез в погреб и огляделся. Кирпичи погреба приобрели странный белый цвет и были затянуты плесенью. В правом углу на какой-то белой вспученной гнили лежали позеленевшие человеческие кости. На полу валялось сгнившее, изъеденное ржавчиной оружие, какие-то тряпки и бумаги…
Альгису не хватало воздуха. Выбравшись наружу, он с облегчением вздохнул, а Стасис сидел на земле, схватившись за голову, и не двигался. «И я желал ей счастья, оставляя ее с такой гнилью!» – Это была первая мысль Пожайтиса, а потом все переросло в физическое отвращение. Он не мог ни думать, ни вспоминать, механически достал сигарету и закурил.
– А что я должен был делать? – прозвучал голос Жолинаса. – Скажи?! Я не солдат, не комсомолец, не ксендз… Я – никто, а этот паразит половину мужчин в деревне вырезал!
– Иди ты, Жолинас, ко всем чертям. – Альгису не хватало воздуха, чтобы выругаться посильнее.
– Думаешь, мне легко было? Двадцать лет он меня будто в цепях держал. Он не мерещился мне, как Вайчюлюкас, не плакал по ночам под окном, но я все время носил в душе этот груз, как утопленник камень на шее.
– Иди ты, Жолинас, еще раз к черту! – повысил голос Пожайтис. И, когда схлынуло отвращение, спросил: – Кто он?
– Пакроснис.
Альгис оглянулся. Холмик погреба был выложен камнями разной величины и окраски, обсажен разным мхом и травами, напоминающими мелкие цветы. Заботливая рука посыпала тропинки песком, забетонировала небольшой пруд…
«А чем плохое место для часовенки? – подумал и снова почувствовал отвращение, но на этот раз к себе: – Какой я подлец! С кем желал ей счастья!.. Господи всевышний!» – повернулся и широкими шагами направился домой.
Всю дорогу Грасе молчала и ни о чем не спрашивала. Ей было достаточно и того, что дома сказал Милюкас. Ее злила услужливость Йонаса и Моцкуса, их преувеличенная чуткость и желание угодить ей. Она прикоснулась к руке шофера и вежливо попросила:
– Не надо… Чего доброго, я возьму да поверю, что в больнице ему лучше, чем дома, – и тут же поняла, что сказала это скорее для себя, чтобы не накричать на этих мужчин, так сильно провинившихся перед ней. Боже мой, за что?! Почему не вы, которые уже всего повидали, уже вдоволь поели и попили, а он, только-только начинающий жить?..
Чувствуя свою вину, мужчины замолчали и тихо просидели до самой больницы. Потом попытались извиниться, оправдаться и пошли подготовить Саулюса, а она, никем не останавливаемая, двинулась вслед за ними и встала на пороге. Слушала их приглушенную беседу с мужем, а душа исходила криком: боже, почему они думают, что лишь беда сближает людей? Это неверно, этого не должно быть!
Увидев, что Саулюс заметил ее, Грасе резко оттолкнулась от косяка, поспешно подбежала, будто ей хотели помешать, упала на колени возле постели и, уткнувшись головой в грудь мужа, дала волю накопившимся слезам:
– За что, Саулюкас, за что тебя так?!
Он ничего не ответил, ерошил волосы жены и ждал, пока она выплачется. У него не было ни сил, ни желания еще раз повторять то, о чем уже поговорил с друзьями; он прижимал к себе дорогую головку и кусал губы. Потом смахнул невольно брызнувшую слезу и попросил:
– Хватит.
– Тебе очень больно?
– Ничего, люди не такую боль переносят, – не мог найти слов поласковее, чувствовал, что, допусти он малейшую слабость, тут же примется жалеть себя, а потом, чего доброго, начнет вторить всхлипывающей жене. – Лучше скажи: что дома? – Он страшно соскучился по простому, ни к чему не обязывающему разговору о выкрошившейся штукатурке на кухне, об отскочившей половице или о бешеных ценах на рынке.
– Саулюс, почему ты от меня все скрываешь? Ведь я знаю. Сразу после аварии заходил капитан милиции. Он спрашивал, сколько ты выпил, чем занимался перед дорогой, подробно рассказал, что и как случилось, и пообещал сделать все, чтобы твою фотографию не вывесили на стенде «За движение без опасности».
«Боже, оказывается, и эта жертва уже не нужна, – кольнула в сердце мысль. – Опоздал», – хотел быть строгим, но не выдержал:
– Тогда почему плачешь, если все знаешь?
– Как ты можешь, Саулюс?
– Могу… Пусть они хоть что говорят, но я все равно встану.
– Я верю, ты обязательно встанешь, но, Саулюкас, будь искренним… – Ее все еще раздражало воспоминание о пьяном разговоре мужа со Стасисом. – Ведь ты чувствовал, просто знал, понимал, что от этого человека несет бедой, почему же опять поехал туда?
– Чувствовал… И понимал, но не превращаться же мне в бабу, я был обязан сопротивляться этому предчувствию. Кроме того, Грасите, я не ради него.
– Саулюкас…
– Ты не забывай, милая, я мужчина.
«Будь ты мужчиной, будь, но почему ты не хочешь понять меня? Я – женщина, и как ты ко мне прикоснешься, так и зазвеню, – она вспоминала слова, когда-то оброненные мужем. – И не для кого-нибудь другого, только для тебя, милый, только для тебя», – хотела сказать об этом вслух, но застеснялась посторонних.
– Я – женщина, Саулюкас, – произнесла наконец, – и люблю не то, что воображаю, а что вижу. Я не умею, я просто не в силах любить то, что очень далеко или очень велико, что вечно. Я люблю то, что уже не повторится завтра, поэтому не надо со мной так – ни вашим ни нашим…
– Тогда кого мне, черт возьми, теперь жалеть: вас, с сочувствием укладывающих меня в гроб, или себя?
– Не надо, Саулюкас, не надо… Мы скоро будем втроем, ты понимаешь? – Не отыскав других аргументов, она сильно прижала его руку к своему животу. – Послушай, неужели и ему не будет суждено знать отца?
– Сказал: замолчи и не каркай! Хватит. И слезы тут не помогут. – Он поморщился, но не рассердился, скорее удивился, что даже в таком плачевном положении человек еще может быть счастлив.
Слава богу, что все обошлось так просто, без больших слез и обмороков, без клятв и до мозга костей надоевшего шума, – он был благодарен Милюкасу.
– А как его назовем?
– Саулюсом.
И это решение жены показалось ему единственно верным: всем первенцам следовало бы давать имена отцов или дедов, – он ощущал, как чувство благодарности заливает грудь и освобождает напряженные мускулы. Потом благодарность переросла в умиление, и ему опять потребовалось собрать всю волю, чтобы не заплакать и, глотая слезы, не потерять ясность рассудка и не повысить голос.








