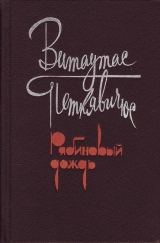
Текст книги "Рябиновый дождь"
Автор книги: Витаутас Петкявичюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
– Придешь? – спрашивает его Моцкус.
– Посмотрю. – Он страшно злится, поэтому добавляет: – Если хорошенько попросите.
Но он так никуда и не идет и лишь через несколько дней не выдерживает, бежит к Моцкусу и сообщает:
– К Пожайтисам по ночам зеленые ходят.
– Откуда знаешь? – не верит Моцкус.
– Видел. У него и винтовка на сеновале спрятана.
– И это видел?
– Видел.
– Давно?
– Два дня назад.
– А может, эта винтовка наша? – проверяет Моцкус.
– Тогда зачем ее прятать?
– От зеленых, – изучающе, пристально смотрит. – А почему ты к нам такой добрый? – все еще не верит.
– С меня хватит и одного Навикаса, – впервые говорит правду и чувствует огромное облегчение. – Они были неразлучными друзьями.
Моцкус просит выложить все на бумаге и расписаться. Когда Стасис отдает ему исписанный лист, Викторас еще раз с подозрением спрашивает:
– Ты знаешь, что у него в следующую субботу свадьба?
– Знаю. Но неужели я, увидев винтовку, должен ждать, пока он вместе с собой еще одного человека утопит?
– Возможно, ты прав.
Обнаружив винтовку, народные защитники арестовали Альгиса Пожайтиса. Бируте плакала, металась, может, неделю сходила с ума, а потом, бросив все, уехала в школу медсестер. Стасис всего этого не видел, от других узнал, поэтому Пожайтис не тревожил его, не приходил к Стасису ни ночью, ни днем, не мерещился, как Навикас, не угрожал в письмах. Получив десять лет, он только божился перед всеми соседями, что никогда никакой винтовки у него не было, что это ошибка или глупое совпадение. Жолинасу он тоже прислал несколько писем с мольбой о помощи, но Стасис безжалостно рвал их и сжигал.
Однажды к нему заехал Моцкус:
– Меня переводят в Вильнюс. Я еще раз хочу услышать от тебя, как на самом деле было с этой винтовкой?
– Так и было… Ведь я после этого случая с Навикасом жил словно заяц. А они – друзья. Их хутор возле озера, сарай – почти в лесу. Однажды я рыбачил и видел, как они пришли втроем, а вышли только двое. Альгис проводил их, а вернувшись, замотал винтовку в тряпки и сунул под доску.
– Пожайтис мне пишет, что вы друзья, что он благодарен тебе за то, что ты при немцах спас его от неминуемой гибели. Что это за случай?
– Ничего особенного. Учиться ему, гаду, лень было. Жил в местечке у богомолок, а потом взял да и под конец войны пошел в противовоздушную оборону. Приехал домой в форме, по-немецки лопочет, хвастается, своих не узнает… Ну, его отец и попросил, чтобы я помог. Мы связали его, раздели, отец отвез его за двадцать километров к брату жены и в чулан запер, а казенную одежду я потом в лесу под сосной зарыл. Вот и все. Какой он мне друг! Тогда орал, будто его резали, отомстить обещался, а когда русские вернулись – стал благодарить.
– А как насчет Гавенайте?
Стасис растерялся, покраснел и откровенно признался:
– Люблю.
– А он без любви собирался на ней жениться?
– Чего не знаю, того не знаю. Вы у нее спросите.
– А может, зависть?
– Может, и зависть, но мало ли в деревне случаев, когда несколько парней одну девку любили?
– Возможно, твоя правда, Жолинас, но Пожайтис на твоей и на моей совести остается. Между этой винтовкой и зелеными еще одной живой души не хватает. На запрос я ответил, что район не будет возражать, если его освободят досрочно. Прощай!
«Ему-то что! Он ответил и уехал в Вильнюс, а я с Пожайтисом по соседству живу. И на его Бируте женился. Альгис чувствует, по чьей милости ему пришлось прокатиться до Сибири, но молчит. И с Бируте не разговаривает. А мне что делать, если на самом деле видел: пришли втроем, вышли вдвоем и под доску что-то сунул… Был ли среди них Пожайтис? Этого я не заметил, слишком темно было. Но я все равно пошел бы, даже если бы и ничего не видел: ведь, господь свидетель, не я ему, а он мне легкие отбил и под машину Моцкуса погнал… Нечего скромничать, нечего каяться, если ты поступаешь со своими недругами так же, как они поступили с тобой». – Он лежал неподвижно, обдумывая все до мельчайших подробностей.
Под вечер второго дня пришел сосед и постучался в открытую дверь:
– Есть кто живой?
Стасис не ответил. Пятрошюс вошел, потрогал его за руку и снова спросил:
– Сосед, ты живой?
– Приболел.
– Я так и думал: свиньи орут, корова мычит и за людьми бегает, чтобы ее подоили, свет днем и ночью горит… Может, «скорую» вызвать?
– Не надо, уже прошло. Только, если не поленишься, скотину обиходь и мне воды подай.
Когда Саулюс выбрался из машины, в лагере уже никто не спал. Йонас хлопотал у костра, а Моцкус затягивал патронташ для своего вильнюсского дружка. Рядом с ним вертелся директор лесхоза и лез из шкуры, стараясь угодить.
– Где шлялся? – небрежно спросил шеф, будто это совсем не интересовало его.
– Нигде. – После пережитых приключений у Саулюса все еще дрожали руки и чесался язык, но он сдерживался: – Лучше дайте закурить.
– А все-таки? – Моцкус снова превратился из равнодушного пацана в серьезного и достойного уважения ученого мужа.
– Нигде я не шлялся, переночевал здесь же, неподалеку, – одна бабенка пригласила – и вернулся. Не переношу сырости. – Краешком глаза наблюдал, как подействуют эти слова на шефа.
– А может, ты у жены лесника застрял? – Моцкус вдруг охрип и уставился на Саулюса.
– Хотя бы и у нее, а что, нельзя? – Что-то подозревая, Саулюс ощетинился и почувствовал, как вдруг вспотела спина и, накаляясь, потяжелели уши. – Неужели и туда уже отдельный пропуск требуется? – уличенный, выкручивался как умел.
– Можно и без пропуска, – шеф еще сильнее расстроился, – почему бы нет… – И, подмигнув директору лесхоза, как уличный мальчишка, спросил: – Ну и как?
– Изумительная, но с почетным караулом. – И тут же струсил: – Да господь с ней, дайте поскорее закурить.
– Йонас, ты слышишь?.. Теперь и он сделается заядлым охотником, помянешь мое слово…
Саулюс наблюдал за своим шефом и не мог понять, почему тот так упрямо и так демонстративно изображает шалопая. Моцкус тоже чувствовал, что переигрывает, наконец он овладел собой и сказал:
– Сегодня в наказание будешь готовить обед, Йонаса мы мобилизуем грести. Утки слишком глубоко падают, а пес лесника – последнее дерьмо. Вчера половину добычи потерял.
– Мне все равно.
– Ну, тогда счастливо!
Мужчины, покачиваясь, побрели по лесу, а Саулюс остался. Он долго смотрел на костер и никак не мог забыть прошлую ночь. Все делал автоматически, словно лунатик, пока не догадался снять сапоги и забраться под кучу еще теплых одеял. Тепло быстро сморило его. Заснул крепко, без сновидений, будто всю ночь камни ворочал, но вдруг снова проснулся и стал озираться, ибо ему показалось, что кто-то беспрестанно зовет его по имени.
Он долго ощупывал одеяла и не мог определить, где находится. Осматривался, ничего не понимая, хотя отчетливо чувствовал, что он здесь не один, что за натянутой парусиной палатки кто-то стоит и прямо-таки умоляет его выйти. Он еще раз огляделся и ворча, словно разбуженный медведь, поднялся на четвереньки, высунул из палатки голову. У костра сидела Бируте и грела босые, покрасневшие от осенней росы ноги.
Прежде всего у Саулюса появилось желание спрятаться, сгинуть, он сгорал от стыда за трусость, недостойную даже молокососа, за бессонную ночь, ревнивого мужа Бируте, потом захотелось извиниться, успокоить ее и оправдаться. И только потом в его сердце снова начала загораться страсть. Но тут же вспомнился Стасис, и опять возникло непонятное отвращение к нему. Страсть еще тлела, дымилась, будоражила воображение, но, задавленная неприятными воспоминаниями, угасла.
– Здравствуй, – наконец заставил себя сказать.
– Ведь мы не прощались, – не поднимая головы, усмехнулась она и попыталась закрыть свои голые икры полой мокрой от росы шубы.
– Это и сейчас не трудно сделать, – совсем неожиданно вырвались злые слова, и тут же он подумал, что вот он стоит на четвереньках и лает, как собака. Поэтому вскочил, схватил сапоги и стал обуваться. – Прости, я пошутил.
– Шути дальше.
– А где этот твой хунвейбин?
– Он тоже шутит.
Разговор оборвался. Саулюс подбросил в костер сухих веток, насыпал еловых иголок и, придавив все сверху несколькими кругляшами покрупнее, принялся раздувать тлеющие уголья. Подпрыгнул веселый огонек, затрещали дрова.
– Может, мне за одеждой съездить? – несмело предложил он, глядя на ее мокрые от росы, поношенные туфельки и обшитый кружевами краешек ночной рубашки.
– Не надо. Лучше увези меня отсюда.
– А куда? – испугался Саулюс.
– Еще не знаю.
– Родственники у тебя есть? – Ему хотелось переложить эту заботу на чужие плечи.
– Нет.
– И куда ж тебя увозить?
– А мне теперь все равно. Домой я не вернусь.
– Только не дури, – Саулюс совсем уж испугался такого счастья и, вспомнив, как по желтому лицу Стасиса струился липкий, нездоровый пот, как они боролись у двери и как потом, отгоняя подступающую тошноту, он полоскал у колодца рот, рассердился еще сильнее: – И что за мода таким образом соблазнять женатых мужчин?!
Она прикрыла ладонями лицо и задрожала от едва сдерживаемого плача, но Саулюс не поверил ей. Одно воспоминание об этом противном, измученном болезнями и обиженном самим господом богом человечке не позволяло ему поверить. Мысль, что на свете есть Стасис, переворачивала все вверх ногами.
Но вдруг перед глазами снова возник, окутанный трепещущим ореолом, образ Бируте, и Саулюсу стало стыдно.
Такая большая, такая красивая, такая сильная – и ревет, злился он, но вслух ничего не сказал. В голове не умещалось, как она может быть одновременно такой властной и такой – до жалости – безвольной. Он не понимал, куда вдруг исчезли достоинство и самоуверенность Бируте, спокойствие и презрение к мужчинам, о которых еще вчера она говорила с такой материнской снисходительностью, а сегодня вот ходит по лесу полуголая и из-за какого-то убогого не может найти себе места?
– Костер не залей слезами. – Ему были противны собственные слова, но ничего другого он не мог сказать. – Как ты можешь с ним?..
Бируте отняла от лица ладони и с удивлением посмотрела на Саулюса чистым и откровенным взглядом человека, осудившего себя, потом улыбнулась сквозь слезы и чуть спокойнее, хрипловатым, но уже твердым голосом сказала:
– А чем ты лучше его?
– Кого?
– Стасиса.
– Ну, знаешь! – Саулюс почувствовал, что сейчас скажет что-нибудь лишнее, но Бируте опередила его:
– Надо же, какой моралист! Больной ему мешает. А может, и ты, как твой шеф, предложишь избавиться от него, например, крысиным ядом накормить?
У Саулюса даже дыхание перехватило. Он еще пытался оправдаться, но гостья даже слушать его не хотела:
– Дитятко, ты еще не успел мое имя узнать, а уже учишь. Стасис хоть знает, за что меня любить и за что ненавидеть, а ты?.. Прибежал, едва пальцем поманила, но все равно хочешь чистеньким остаться. Как тебе не стыдно? А может, я нарочно, только чтобы его подразнить? А может, мне твой Моцкус нужен, а не ты?.. – Она встала, поплотнее завернулась в шубу и ушла своей дорогой.
Пристыженный Саулюс чистил картошку с раздражением, оставляя только сердцевину, и со злостью швырял в закопченный котелок.
«Боже мой, а ведь она права! – Саулюс почувствовал, что он впутался в какую-то старую и странную историю. – Другая схватила бы головешку и надавала мне по морде. Какое право я имею попрекать ее? За что? Однако и Моцкус хорош! Чем помешал ему этот Стасялис? – И снова вспомнил, как пожимал влажную руку этого человечка, а потом бежал к колодцу умываться. – На самом деле неприятный тип. Но мне-то какое дело? Все люди на свете живут парами, и каждый находит для себя то, чего достоин. Даже Моцкусу не изменить этот закон. – Нет, Саулюкас, здесь что-то не так, ты прикоснулся к не совсем светлому прошлому этих людей, надо тебе удирать подальше, пока не поздно». Он воткнул нож в сосну, повесил котелок над огнем и подбросил в костер дров. Это занятие немного успокоило его. Раздевшись, умылся по пояс и удивился тому, насколько легче стало на душе, и жизнь снова показалась не такой уж сложной и противной. «Видать, и тут не обошлось без Моцкуса. Талантливый, бестия! И главное – всюду первый. Колумб, чтоб ему сгинуть, как говорит Йонас. И чего только он не знает, чего только не умеет! Куда ни пойдет – везде своего добьется. Под счастливой звездой родился». – Он снова и снова сравнивал факты, сопоставляя их с разговорами, слышанными раньше, гадал, пока в воображении не вырисовалась довольно странная история. Это опечалило Саулюса. Он любил и уважал своего шефа. Работая в институте, Саулюс наслушался о Моцкусе историй, превозносящих его добродетели, и считал шефа почти святым человеком, однако теперь, неожиданно прикоснувшись к никому не известной тайне этого человека, почувствовал, как уважение к нему улетучивается, превращается в мыльный пузырь. Зачем все это? Неужели люди ради того и созданы, чтобы мешать друг другу жить, чтобы причинять друг другу боль? Он старался заглушить в себе нарастающее недовольство шефом, но вечером, когда вернулись мужчины, осторожно спросил Йонаса:
– Скажи, откуда Моцкус знает эту сестру милосердия?
Йонас оглянулся, отошел в сторонку и вывернулся:
– Парнище, он уже третью пятилетку в этих местах охотится, здесь каждая живая тварь его знает как облупленного, не говоря уже о людях.
– Пусть даже четвертую, я все равно должен знать. Мне кажется, он в этом районе родился, вырос и работал, пока не переехал в Вильнюс.
– Может быть, но зачем тебе это?
– Сегодня эта сестра милосердия из-за него из дому сбежала. Приходила сюда, поругались мы сильно. Я ничего не знаю, но боюсь, что обидел ее.
– Зря.
– Так уж получилось…
– Это обычная история… Если бы человек точно знал, на ком он должен все свои несчастья выместить, на свете уже давно не осталось бы ни одного мошенника. Но почему-то чаще всего достается не тем, кому следовало бы, а тем, кто лучше и слабее нас. Поэтому злоба рождает злобу…
– Ты опять в свою степь. – Саулюс прервал приятеля. – Я плохой философ. А как по-твоему, Моцкус не из тех, кого минует наказание?
– Мне трудно ответить. Ты не из болтливых, но помни: чужие тайны больше обязывают, чем свои. Исповедником может быть только честный, благородный человек, я сказал бы – священник по призванию. Такой человек обязан подняться над всем или забыть, что и сам может рассердиться. Таких на свете всегда было мало. А перед первым встречным открываться нечего. Как говорится, не мечи бисер перед свиньями. Свинья сожрет твое сердце – и даже рыло к небесам не поднимет.
Такая осторожность раздражала Саулюса больше, чем неизвестность.
– Слушай, я тоже книги читаю, – он не позволял Йонасу опомниться, – и знаю, что настоящая злость – такое же святое чувство, как любовь, как отвага или самопожертвование.
– Не спорю, да и надоели мне эти постоянные тычки по физиономии, которые я то и дело получаю за свою откровенность, а ты – тоже горячая голова.
Только почувствовав, что приятель уже не в силах сопротивляться, Саулюс начал отступать:
– Если так трудно, можешь не говорить, я сам все разузнаю.
– Это старая история. Когда я впервые приехал сюда, то попал прямо на свадьбу. Стасис тогда был ничего собой, крепко сбитый, хоть ростом и пониже ее. На подсочке работал, учился и еще на какие-то курсы ходил. Моцкус так наугощался, что под конец совсем разошелся, все деньги и вдобавок кабана на свадьбе оставил. Он любит находиться в центре внимания. Если помнишь, в те годы деревне несладко жилось: на трудодни – шиш, техники мало, а тут приехал из города ученый и всю водку и шампанское из местного магазина на стол выставил. Для незнакомых, впервые встреченных людей! Какой почет, какие овации!.. Ты даже представить не можешь, как впечатляюще и романтично все это выглядело. Бируте с него глаз не спускала; Стасис, вцепившись в полу, только что рук не целовал, гости шумели, родители благодарили, музыканты марши шпарили, и лишь я один его сдерживал: «Товарищ Викторас, что вы делаете?» А он мне: «Молчи, Йонукас, все равно наш хлеб на их поту замешен!»
Это было похоже на именины самого Моцкуса, на какой-нибудь юбилей, только не на свадьбу Жолинаса. А потом мы у них на хуторе и дневали и ночевали. Стасиса должны были призвать в армию. Знаешь, в те годы парней не хватало и всех под метелочку подбирали. Видать, Стасис почувствовал что-то неладное, начал насчет документов бегать, хотел «белый билет» выхлопотать, только ничего у него не вышло. Тогда он, наслушавшись советов деревенских баб, стал чай или какую-то другую чертовщину курить, отвары всякие пить и так ими себя замучил, что лесхоз его несколько раз уже хоронить собирался, а он все на ноги вставал. Ну, пока тут эти болезни, Моцкус к жене Жолинаса подъехал, со своей разошелся. Больше я ничего не знаю.
– Она мне про какой-то крысиный яд говорила.
– Ложь! – Йонас даже покраснел. – Все может Моцкус, но только не это. Ты мне поверь, мы фронт вместе прошли. Когда он в армию попал, ему еще и восемнадцати не было, поэтому человек из него получился решительный, резкий, ну, немного ловкач, как и все современные люди, но яд – боже упаси! – этого он никогда не сделает. Голову даю на отсечение. Злые языки болтают. Когда человеку везет, некоторым это почему-то трудно пережить, вот и начинают всякую чепуху нести. По себе мерить. Уступчивость и снисходительность только нытиков рождает, которые и пальцем не шевельнут, чтобы другим помочь, что даже противно становится. Нынче дружков и болтунов сколько угодно, куда труднее найти искренних друзей, особенно когда тебе везет. Правильно один писатель заметил, что друзья никогда не прощали ему успеха…
– Я не знаю, – прервал Саулюс товарища, – я ничего не понимаю, только чувствую, что это и для меня добром не кончится.
– Все это пустое, – Йонас снова повысил голос. – Лучше машину проверь. Гонял этой ночью как сумасшедший. Меня этими сказочками про ночлег в хуторе не обманешь. Машина похожа на лошадь тем, что, едва кинув на нее взгляд, видишь, откуда ее барин примчался. Давай поторопись, пока они ужин уплетают.
Стасис все лежал да лежал. Вначале его мучили жажда и голод, но потом он стал равнодушен ко всему, однако мысль его работала отчетливо и ясно.
Ему хотелось всем все простить и со всеми помириться. Он вспомнил, как Бируте вернулась из школы медсестер и как он встретил ее на полустанке, как уложил на телегу чемодан и попросил ее сесть рядом.
– Но почему ты меня встречаешь? – ничего не понимала она.
– Так уж вышло, – он пожал плечами. – Если тебе не нравится, могу оставить лошадь и вернуться домой пешком.
– Нет, что ты!.. Видать, судьба, – пошутила она. – Чем дальше я от тебя убегаю, тем ближе оказываюсь. А где папочка?
– Плох твой папочка, – солгал Стасис.
– Что с ним?
– Заболел.
– Говори, – она вцепилась в руку. – Ведь я сейчас кое-что понимаю в медицине.
– Приедешь – увидишь, я-то не врач.
– Тогда гони! – Она встревожилась, заторопилась. – Уже собралась домой, и вдруг твоя телеграмма: приезжай скорее. – Она достала из сумочки красивый браслет для часов и протянула ему: – Я стала суеверной. Это подарок первому встреченному мужчине нашей деревни.
Как ему тогда не хотелось везти ее домой! Шагом въехал в лес, кружил только ему одному известными дорожками, а она все торопила:
– Давай побыстрее, ты не знаешь, что значит при больном хорошая медсестра. Ну, поторопись, я тебя очень прошу, Стасис. Если ты будешь так тащиться, я рассержусь!..
– А как у тебя с учебой?
– Какая там учеба! Все дело в практике. Хотела в акушерки перейти, но какая из меня повитуха?.. Я там была самая молодая…
– Ты очень похорошела.
– Разве? – Она зарделась и так посмотрела на него большими и теплыми глазами, что даже теперь, вспомнив этот взгляд, Стасис улыбнулся. А тогда он должен был сообщить ей страшную новость. Деревня почему-то выбрала для этой миссии его. Решили, что только он один сможет это сделать.
А он уже который раз открывал рот, чтобы сказать об этом, но так и не посмел заговорить. Довез ее до тропинки, ведущей к небольшому саду, снял с повозки чемодан, хлестнул лошадь и умчался, словно за ним гнались. Он еще слышал, как она кричит, оглядываясь, видел, как она машет рукой, но уносился от нее все дальше и повторял:
– Пусть кто другой, только не я… Пусть кто хочет, только не я…
В то утро за окнами его избы вдруг стало темно. Кто-то вошел во двор, закрыл ставни и без стука ввалился в комнату. Стасис поднял голову – перед ним стояло несколько вооруженных мужчин.
– Ну, катись с постели, прихвостень стрибаков!
Он быстро поднялся и потянулся за одеждой.
– Прыгай в штаны, и хватит, – торопили его мужчины. – Подвал у тебя есть?
– Здесь подвалы копать нельзя, озеро рядом. Отец погреб большой из камня сложил.
– В какую сторону Гавенай?
– Сразу за речкой, на юг.
– Эта речка в озеро впадает?
– Вы сами видели, пришли оттуда.
– Лодка есть?
– Есть кой-какая.
– Мы заночуем здесь.
– Но теперь только утро, – пожал плечами Стасис.
– Не твое дело.
– Напрасно злитесь, – ответил Стасис, – когда в нашей деревне что-нибудь случается, всегда отсюда прочесывать начинают – с нашего полуострова иначе как через этот угол не уйдешь. Здесь вас найдут.
– И что ты нам посоветуешь?
– Плывите через озеро.
– Тогда собирайся.
– Я не поплыву, – спокойно ответил Стасис. – А что я стрибакам скажу, когда они за мной придут, а меня дома не окажется? Если у вас есть со мной какие-то счеты, тогда начинайте сразу.
Его откровенность понравилась зеленым. Они успокоили мать, пошутили, поругали колхозы, забрали весь хлеб, сало и ушли. На дворе лило как из ведра.
– Когда переправитесь, лодку от берега оттолкните, я как-нибудь ее отыщу.
– Лодка лодкой, но если проболтаешься – из-под земли достанем. Поклянись! – сказал главарь.
– А как?
– Скажи: клянусь.
– Клянусь, – Жолинас в кармане сложил пальцы в фигу.
– Целуй оружие! – поднял пистолет.
Стасис поцеловал холодный металл оружия и, вспомнив Навикаса, передернулся.
– Это хорошо, что боишься, – похвалил главарь и оттолкнул лодку.
И сразу же хлынул настоящий ливень, такой сильный, что за несколько метров уже ничего не было видно.
Далеко не уплывут, подумал Стасис и направился прямо на хутор к Гавенасам, чтобы предупредить их, но на полпути его остановили солдаты:
– Куда идешь?
– Вас ищу.
– А зачем?
– Сами знаете.
– Были?
– Были.
– Сколько их?
– Шестеро.
– Куда они побежали?
– Никуда.
– Они еще у вас?
– Уплыли.
– По озеру?
– Не по небу же!.. Если есть на чем, подскочите. Им больше негде на берег выйти, только возле Гавенаса, возле нас или на сухой склон Швянтшилиса.
Солдаты умчались на мотоцикле, а он пошел к Гавенасам, но там его в избу не пустили. Он только слышал плач, какие-то крики, а от соседей узнал, что всю семью председателя колхоза Юлюса Гавенаса зеленые пустили в расход.
Целый день он не мог найти себе места. На велосипеде съездил в городок, отправил телеграмму Бируте, плутал по лесу, снова, без всякой необходимости, вернулся в городок и только под вечер явился домой. У берега стояли две лодки.
Видать, соседи пригнали, подумал и вошел в избу… и в тот же миг, получив увесистую затрещину, пролетел до середины комнаты.
– Ну, дьявол, говори, где так долго был?
– У Гавенасов.
– И что видел?
– Меня в избу не пустили.
– А зачем в городок ездил?
– Телеграмму Бируте дал, – вытащил из кармана и показал квитанцию.
– Донес?
– А зачем доносить, если вся милиция уже здесь?
– Врешь! – Главарь снова поднял пистолет. – Знаешь, что целовал?
– Отцепитесь! Если б я знал, что вы Гавенасов прикончили, точно донес бы, только значительно раньше, – узнал главаря и передернулся.
– Но ведь ты поклялся!
– И что? Когда клялся, не знал, что вы такие…
– Какие?
– Ну, ироды.
– Заткнись!
– Не боюсь. Один из ваших уже заставлял меня клясться.
– Кто такой?
– Навикас.
– Когда?
– Два года назад.
– Он такой же наш, как и ваш. Самодеятельность.
– Как это – самодеятельность?.. Ведь он с автоматом…
– И ты свою винтовку Пожайтису подбросил…
– Неправда!
– Ну, мы подбросили, а ты за нас сообщил. Какая разница? Так ему и надо, тайному комсомольцу: армию свободы на этих нищих променял. Теперь видишь, Жолинас, кто в этом углу для нас самый близкий?.. И поэтому мы здесь. И поэтому, будь добр, не гони, – откровенно издевался главарь. – Завтра мы от тебя уйдем, и ты будешь молчать как зашитый…
Только теперь Стасис увидел, что их уже не шестеро, а восемь. Эти двое и есть палачи Гавенасов; он никак не мог их запомнить, поэтому молчал. Не заговорил Стасис и потом, когда бандиты ушли. А кроме того, кому он мог пожаловаться? Молча рыл яму для Гавенасов, держал за руки Бируте, рвущуюся вслед за белыми гробами, успокаивал ее, а сам только мычал и кусал губы. Если бы он тогда мог закричать!.. Земля задрожала бы от его крика, но он молчал: маленькому человеку кричать не пристало. Он должен молчать. Он может плакать, рыдать, молиться, но кричать ему не на кого.
Но боль со временем или проходит, или закаляет человека, или сводит его в могилу. Родственники Бируте поплакали, пожалели сироту, на поминках все съели, все выпили и разъехались. Некоторое время возле ее дома еще дежурили солдаты, но потом и они куда-то убрались. А однажды утром пришла Бируте, похудевшая, почерневшая, и попросила:
– Приди ко мне ночевать. Я больше не могу одна. Как только стемнеет, меня прямо из кровати выбрасывает. Одеваюсь, выхожу и сижу где-нибудь под кустом целую ночь. Будь добр, Стасис, помоги мне привыкнуть.
Стасис тоже боялся, но пришел. Она постелила ему в одном углу избы, а сама легла «за стенкой», точнее, в другом углу, отгороженном печкой, шкафом и положенной на них жердочкой с домоткаными занавесками. Иногда они так, разговаривая о том о сем, лежали до самого утра, а иногда, измучившиеся за ночь, поднимались с первыми петухами и, не зажигая свет, варили липовый чай, пили его и снова разговаривали.
– Почему ты так много молчишь? – однажды спросила Бируте.
– Мне приятно слушать тебя.
– Не угодничай.
– А что я, нигде дальше мельницы не бывавший и ничего слаще бурака не сосавший, тебе расскажу? – в шутку ответил он, а Бируте поцеловала его в лоб, словно мать. Тогда Стасис и осмелился: – А может, Бирутеле, тебе было бы лучше переехать к нам? – он так и не смог сказать: ко мне.
– Нет, что ты! Я все оставляю колхозу, а сама уезжаю в городок.
– Когда?
– Как только кончится отпуск и место найду.
Но несколько дней спустя, накануне дня рождения Стасиса, возле деревни затрещали выстрелы. Бируте соскочила с постели, босиком, в одной рубашке подбежала к нему, вцепилась в руку и принялась трясти:
– Ты слышишь?
– Слышу.
– Это они.
– А кто же еще.
– Я не могу, я сойду с ума.
– Потерпи, – он гладил ее руки – теплые, но покрытые мелкими пупырышками.
– Давай оденемся и убежим отсюда.
– Не дури, еще на пулю в темноте наскочим.
И снова взорвался выстрелами, загрохотал лес. Они стояли у окна и видели танцующие огоньки, розовые вспышки взрывов гранат. Несколько пуль насквозь прошили бревна и разбили зеркало. Перепуганные, они упали на пол. Она прижалась к нему и, вся дрожа, зашептала, словно в бреду:
– Они записки присылали, теперь они идут за мной… Боже мой, что дурного я им сделала?! Они будут мучить меня, а потом убьют… Лучше уж ты. Боже милостивый, Стасялис, будь добрым, умрем вместе… – Она прижималась к нему, целовала, плакала и сжимала в горсти его волосы. – Меня еще никто не любил. Я хочу быть твоей. Без этого я не хочу умереть…
– Опомнись, что ты делаешь?
– Стасялис, у меня отняли Альгиса, маму с папой… Я чувствую, если ты уйдешь, то никогда больше не вернешься… Ты хороший.
– Бируте, но и ты будь хорошей.
– Ты меня не жалей!..
И Стасис послушался. Он припал к Бируте, словно к земле обетованной. Он тоже плакал, только от радости и счастья. Он пил ее, как измученный жаждой слепец, случайно наткнувшийся на живительный родник, – и не мог напиться… Это было вознаграждение за его долгие страдания и мечты, за бессонные ночи, за издевательства и унижения со стороны более красивых и сильных товарищей, за бредни Навикаса и слова, неосторожно брошенные самой Бируте…
Господи, уже тогда ему следовало умереть. Только тогда, под грохот выстрелов, когда не было никого больше, лишь он и она. Когда, измученные и перепуганные, крепко обнявшись, они ждали смерти, но смерть почему-то не торопилась, бродила рядышком, взрывалась выстрелами, пугала криками агонизирующих людей и заставляла их любить, потому что из-за людских глупостей мир не может закончиться…
Потом все утихло.
А утром, когда, расцеловав ее, он снова попытался лечь к ней, она усталым голосом попросила:
– Не мучь меня больше.
– Почему? Ведь ты… Ведь я тебя…
– Ты мне противен.
Он послушно встал, оделся и, ничего не сказав, ушел домой. По пути его снова остановили солдаты:
– Руки вверх!
Он не послушался.
– Где ты был?
– Здесь, совсем рядом, – ответил он. – Вы не хуже меня знаете.
– Мы искали тебя.
– А я – вас.
– Прекрасно. Поехали.
Совсем недалеко, на крутом склоне озера возле Швянтшилиса, еще дымился взорванный бункер, а рядом лежали семеро мужчин. Точнее, четырнадцать ног, которые успел сосчитать Стасис. Офицер взялся за край брезента, откинул его и спросил:
– Эти?
Он ничего не мог ответить, потому что пересчитывал: четырнадцать… четырнадцать, значит, не шестнадцать… Только семеро. А где восьмой? Его нет. Значит, опять все сначала?!
Стасис наклонился к трупам и, увидев муравьев, стал икать.
– Ну и мужчина! – смеялись солдаты, радуясь, что и на сей раз на земле лежат не они.
– Мужчина, но не мясник, – обиделся он на грязных, почерневших, увешанных оружием солдат. – Вон тот, что с большой родинкой под глазом, ихний главарь, а этот – Слесорайтис из соседнего колхоза. Люди говорят, что он Гавенасов… За двоих могу расписаться. Все, – сказал он командиру, у которого висел на шее большой морской бинокль, а про восьмого, про этого негодяя Пакросниса, и по сей день не дающего ему покоя, промолчал. – Если не ленитесь, идемте ко мне, – предложил солдатам.
– А зачем?
– Водку пить.
– По какому случаю?
– Есть повод: то ли день рождения, то ли свадьба.
И они кутили целый день.
– Стасис, что за праздник? – не понимала его и мать.
– Лучше не спрашивай, – он пил и целовал солдат.
И снова под вечер к нему прибежала Бируте. И та, и уже другая. Она не смотрела ему в глаза, стояла, отвернув голову в сторону, а он подошел к ней, словно к алтарю, и попросил с искренним раскаянием:
– Только ты не сердись…
…В коридоре раздался сильный стук, Стасис поднял голову и увидел участкового врача, входящего впереди любознательных соседей. Он даже не кивнул доктору. Вытянулся весь и снова вспомнил.
– Не плачь, – успокаивал он Бируте. – Эти уж точно не придут… – А теперь он еще мог бы сказать всем невеждам, что женщины, как и мужчины, очень часто защищаются – нападая, только их атаки похожи на капитуляцию, внезапную, странную, никакой логикой не объяснимую. А победителю иногда и жить не хочется. Это, видимо, происходит оттого, что женщина редко замечает, что сделал для нее мужчина, она видит только то, чего он еще не сделал. Но это – ошибка. Любить надо не то, что вечно, а то, что не повторяется дважды. Уметь угождать женщинам – значит уметь обманывать их. Я не умел этого и проиграл. Поэтому никакая часовенка, никакое раскаяние мне не помогут. Щедры только победители. Нет на свете такого оскорбления, которое нельзя было бы простить после того, как отомстил за него…








