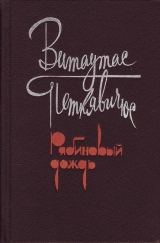
Текст книги "Рябиновый дождь"
Автор книги: Витаутас Петкявичюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 22 страниц)
Во дворе лесхоза Моцкус вылез и не спеша отыскал кабинет директора, вошел туда и с облегчением вздохнул: Пранас был один.
– Послушай, голубь мира, – даже не поздоровавшись, спросил удивленного хозяина, – ты правда думаешь, что этот выстрел – дело моих рук?
– Я ничего не думаю, товарищ Моцкус, но как все это объяснить – в голове не умещается: вы целый день готовились, угрожали, обещали убить его, а вечером, когда взяли ружье…
– В голове не умещается? – Моцкус уже иронизировал. – Не хочешь?.. Боишься?.. Только откровенно.
– Милый, уважаемый, любимый товарищ Моцкус, – директор даже вспотел и встал, – но что я могу сделать?
– Только то, что велит совесть, наша дружба… Нет, дружба – слишком громко сказано. Мы никогда не дружили. Ты только лебезил передо мной и благодаря моим знакомствам улаживал свои делишки, а я притворялся, что ничего не замечаю… Ведь так?
– Почему вы так, товарищ Моцкус?
– Значит, боишься! Так и запишем. Бойся, если ничего другого не можешь, хотя это противно, не по-мужски, но все-таки лучше, чем лгать. Интересно, что ты станешь делать потом, когда выяснится, зачем он полез в этот ольшаник?..
– Если выяснится, тогда зачем на других нажимать, зачем компрометировать себя? Не лучше ли довериться справедливости советских судебных органов?
– Ты тоже орган, ты тоже советский, а как тебе доверять? Вот и побледнел. А там, думаешь, не сопляк сидит?.. Мне время выиграть надо, понимаешь? Мне нужно несколько человек, я там каждую пядь через лупу исследую. Ты, наверно, не забыл, что я и эту работу неплохо делал?
– Товарищ Моцкус, я не против вас, я против любого нажима. И не сердитесь: мне кажется, все ваши беды идут от того, что вы никогда не различали, где работа и где ваша личная жизнь.
– А ты уже разделил?.. Дома ты – человек, а на работе – свинья?
– Я только хотел помочь вам.
– Уже учишь?
– Я никого не учу, но поймите и меня: на это у меня нет никаких полномочий. Наверняка и закон запрещает посторонним вмешиваться в такие дела. Позвольте если не с юристами, то хотя бы с женой посоветоваться.
– Что ж, советуйся, – сунув руки в карманы, сказал Моцкус, – только, будь добр, не разноси эти глупости по всему лесу.
– Хорошо, я вам позвоню, – найдя выход, директор засиял и торопливо протянул руку.
– Не торопись, – Викторас еще глубже засунул руки в карманы. – Но про патроны, что они были плохо помечены, что вместо птичьей дроби я мог взять кабанью, ты все равно напишешь, и без разрешения жены, слово в слово, как объяснил мне у озера: с одним крестиком – на птицу, с двумя – на зайца, а все остальные – восьми с половиной или пули… И еще добавишь, что эти крестики на покрытых маслом гильзах не были видны.
– Хорошо, я напишу, – облегченно вздохнул директор, обрадовавшись, что от него требуется такая малость, – но в моих утках птичья дробь. Я ее выковырял и отдал следователю.
– А ружье?
– Он не просил, кроме того, я, вернувшись, почистил его.
– Не стал ждать, почистил?.. Я не думал, что ты такой трус и свинья. А если я докажу, что эти дробины могли вылететь и из твоего ружья?.. Что патроны – твоего производства, что ты тоже бегал за Бируте и одалживал у Жолинаса деньги на машину? Как тогда?
Пранас побледнел, его руки начали нервно пощипывать кончик сигареты.
– Вы так жестоко не шутите. У меня семья есть.
– А кто мне запретит?
– Но вы, товарищ Моцкус, серьезный человек.
– Не очень, если связался с такими. А теперь – отдай мне остальные патроны.
Викторас вытащил из патронташа все до единого патрона, выстроил на столе и спросил:
– Которые с двумя, а которые с одним крестиком?
– Да я плохо вижу…
– Так и напиши: ослеп со страха… И еще добавь, что эти патроны и до охоты, и после охоты, вплоть до сегодняшнего дня, находились в твоем патронташе, а Моцкус только одалживал их у тебя. Теперь – распишись!
Викторас схватил бумагу, пересыпал патроны в карман и, не попрощавшись, поехал к прокурору. Но его не было дома. Ласковая женушка сначала попросила Моцкуса присесть, предложила печеньице собственной выпечки, кофейку и лишь потом сказала:
– Бронюс уехал на курорт.
У Моцкуса от волнения даже губа отвисла.
– Куда? – спросил, не веря ушам.
– В Друскининкай… Если вы правда Моцкус, – она недоверчиво посмотрела на него, – Бронюс оставил вам записку, если что.
– Он так и сказал: если что? – Моцкус уже закипал.
– Разве вы не знаете, что это его присловье? Милое, правда?
– Теперь буду знать. Всего хорошего.
«Пусть он подотрется ею, если что», – хотел сказать, но сдержался.
Хозяйка вышла проводить.
– Передайте Бронюсу, что я сам займусь вашим сыном. И если он способный парень, обязательно заберу к себе в институт и попытаюсь сделать из него хорошего человека, получше отца. Прощайте. – Упал на сиденье машины и, когда они немного отъехали, попросил Йонаса: – Остановись и дай мне все обдумать.
Заложив руки за спину, Викторас медленно направился по улице в сторону прокуратуры, желая как можно лучше подготовиться к разговору со следователем.
«Бумажки, подписанной директором лесхоза, и патронов, конечно, маловато, но все-таки уже кое-что, – складывал фактики, но оскорбленное самолюбие не желало соглашаться ни с какой логикой. – Чем же эти два поганца лучше Стасиса? Чем?! Ну, товарищ Моцкус, ответь мне на этот вопрос, а потом делай что хочешь. Ну чем? А ты? Чем ты лучше их? Человек, который стремится выглядеть мудрым среди дураков, обязательно становится дураком среди мудрецов. С кем связался… А может, не стоит торопиться, может, подскочить на место и осмотреть этот ольшаник, пока другие не постарались? Если бы Саулюс не был прикован к постели, он бы уже давно дважды осмотрел все. Ради друга на коленях дотуда дополз бы, а те – по кустам, по курортам… Подлецы! Кроме того, Саулюс – начитанный, у него есть собственная философия, плохая она или хорошая – другой вопрос, а эти?.. Потребители! И пальцем не пошевельнут! Но и такие обжигаются, потому что человек должен отвечать перед обществом не только за то, что сделал, но и за то, чего не сделал. Мог – и не сделал!.. Но это не только к ним, и к тебе относится, милый Викторас…»
– Добрый день, Викторас.
Моцкус вздрогнул и обернулся. Перед ним стояла Бируте.
– От следователя? – спросил он.
Она не смела взглянуть ему в глаза, стояла и не решалась спросить, наконец заставила себя:
– Это правда?
– Что правда? Какая правда? – раздраженный, он повысил голос. – Почему вы все рехнулись? Да, черт возьми, я на охоте стрелял! Даже дважды.
– Вы встречались?
– Я его в глаза не видел.
Долгий разговор у следователя выбил Бируте из колеи, поэтому она не сдержалась:
– Неужели иначе было нельзя?
– Нет, вы на самом деле сходите с ума! – Бируте получила и за прокурора, и за директора лесхоза.
– А он – мог бы.
– Ты как-то уже говорила это, – Моцкус хорошо понимал всю серьезность ситуации и скрипнул зубами: – Ну и публика!..
– И ты, Викторас, повторяешься, – Бируте почувствовала тревогу Моцкуса. – Мы всю жизнь повторяемся, потому что мы – это мы. Вы еще не знаете этого человека. Если Стасис что-нибудь надумал, значит, он все тщательно рассчитал и не отступит.
– Нет, девочка, ничего не выйдет, – сознание своей правоты заглушало тревогу. – Наконец, есть же правда! Существует справедливость!
– Как знаете… – Бируте было трудно предложить свои услуги, но иначе она не могла. – Тебе, Викторас, придется оправдываться… Ты не привык к таким вещам и обязательно наделаешь ошибок.
– А что ты предлагаешь?
– Пока что не знаю, но чувствую, все будет хорошо.
– Спасибо, чувствуй, а я еще попытаюсь атаковать, – и он отвернулся. Ему показалось – только на мгновение, но когда он обернулся, Бируте уже не было.
Через улицу, остановив движение, шагали детсадовцы. Две воспитательницы с серьезным видом держали над головами красные флажки. Моцкус огляделся вокруг, собрался было перейти на другую сторону, но его остановил Милюкас.
– Здравствуйте! Я от самого Вильнюса по вашим следам. А вы куда торопитесь?
«Когда он перестанет „выкать“?» – подумал Моцкус и ответил:
– К следователю.
– Прекрасно, но не кажется ли вам, что этот мальчик похож на меня?
– В каком смысле?
– Теоретик! Законы щелкает что орехи… А заодно с ними – и людей. Скорлупы много будет… Я обогнал его, прямо-таки опозорил, – Костас отбросил брезент коляски и достал ржавый серп, которым, видимо, уже давно не пользовались. – Узнаете?
– Видел где-то… Не помню.
– Поглядите, вдруг да вспомните что-нибудь, а я тем временем мотоцикл у людей поставлю, чтобы не беспокоиться.
Через несколько минут они снова шли по улице и спокойно разговаривали.
– Так вот, когда вы, Викторас, нас в баньке идиотами обозвали, я в душе рассмеялся. Честное слово, какое-то странное, еще на фронте приобретенное чутье мне подсказало: правду говорит человек. Ему надо помочь, хотя и директор, и прокурор предупреждали меня: не лезь, тут их старые счеты.
– Вот гады! – вырвалось у Моцкуса.
– Лезь не лезь, но стал я прогуливаться возле имения Жолинаса. Один вечерок, другой, а на третий – клюнуло. Знаешь, его двоюродная сестра, такая толстушка, примчалась из Пеледжяй на легковушке, повертелась по дому, повертелась по хлеву, сунула что-то под полу, и к озеру…
– Не понимаю, но при чем тут серп? Правда, я его для Бируте из Белоруссии привез.
Жолинас всем растрезвонил, что ты подстрелил его, когда он камыш резал, хотя ничего подобного не было. Тогда он и попросил свою Алдуте: сходи к устью ручейка, нарежь камыша, а серп где-нибудь под кустом спрячь или в воду брось.
– Ты гений! – обрадовался Моцкус и тут же взгрустнул: – А что мы этим докажем?
– Если человек подтасовывает факты, значит, тут что-то не так.
– Поехали! – не выдержал Моцкус.
– Поехали, – согласился Костас. – Но куда?
– На место происшествия.
– Оказывается, и ты еще не потерял вкус.
Йонас привез их на то место, где был лагерь, однако на сей раз не остался в машине с вязанием. Мужчины направились по берегу озера, к устью Вярдяне. Они перешли мостик и остановились у заросшего ольхами склона.
– Эта курица там камыш резала, – махнул Костас в сторону ручейка. – Я тут все на коленях обошел, но ничего не обнаружил. Даже магнитом прощупал… Ты, Викторас, хорошенько припомни, как все было.
Моцкус разделся, выломал удобную палку и по отмели направился к шалашу. Спрятался в нем, а потом выскочил, поднял палку и прицелился по стоящим мужчинам.
– Мне кажется, левее! – крикнул он. – Еще чуточку! Если я и задел его, то вторым выстрелом, – он вздохнул с таким облегчением, будто у него гора с плеч свалилась. – И вразумил меня господь бог только два раза выстрелить.
– Конечно, здесь, – с берега откликнулся Костас. – Иди сюда!
Они долго исследовали вылежанную, но уже выпрямляющуюся траву, раздвигали ее по пучку и рассматривали в лупу, пока не нашли несколько окровавленных стебельков, а под ними – и большое побуревшее пятно на желтом прибрежном песке.
– Но как ты не увидел Жолинаса? – удивился Костас.
– Солнце уже склонялось к закату и било прямо в глаза. Да и внимание мое было приковано к уткам.
– А если он в ожидании сидел или лежал в траве? – предположил Йонас.
– Могло и так быть… Но главное, что расстояние выстрела примерно соответствует выводам экспертов. Да, а кто этот шалаш строил?
– Он сам.
– Ты прав, Йонас, очень может быть, что за этими кустами он поджидал нашего академика.
– С ума сойти, – пожимал плечами Моцкус. – Совсем как в кино! – Он передернулся и поежился, будто от прикосновения холодных пальцев. Заметив сочувствующие взгляды друзей, Моцкус разгорячился: – Немедленно едем в больницу!..
– Погоди, а если унять злость и походить по озеру? Во имя старой дружбы, а?.. Ты уже вымок, и нам как-то неудобно возвращаться сухими… Что скажешь, Йонас?
– Раз надо. – И Капочюс молча стал стягивать сапоги.
– Но слушайте мою команду: входим, как журавли, без шума и не поднимая мути: внимательно осматривайте дно, а где поглубже – осторожно щупайте руками.
Мужчины выстроились цепочкой и осторожно, дружно охая и ахая, шумно втягивая воздух – от холода перехватывало дыхание, – вошли в воду почти до пояса.
– Тепло-то тепло, но водичка, я вам скажу, дай боже! – начал ворчать Йонас. – После такой работенки насморк гарантирован. Если не больше.
– За насморк – бутылка спирта, – ответил Моцкус. – Пока что цену не поднимаю. А за хорошую находку, Йонялис, – сколько захочешь и какой захочешь.
Наверно, с полчаса мужчины ходили по воде. Зубы стучали от холода. Но результатов не было.
– Что ты хочешь здесь найти? – не выдержал Моцкус.
– То, что и вы, – ответил Костас.
– Ну зачем вы из пустого в порожнее, господа начальники? – сорвался Йонас. – Чего мы все вокруг да около? Хотим найти ружье, так ведь?
– Есть такое подозрение…
– Так вот: ружье – не иголка…
Йонас быстро оделся, добежал по берегу до машины, куда-то уехал, а когда вернулся, принес с собой трое грабель. Выстроившись цепочкой, они принялись старательно прочесывать дно. Первым остановился Йонас.
– Кажется, мне обеспечен академический ужин в ресторане «Дайнава», – повернув грабли, он вытащил черный морской бинокль.
Моцкус взял у него находку, осмотрел и установил:
– Это бинокль директора лесхоза Пранаса Баландиса, в чем и подписываюсь, – он старался подделаться под общий тон, а в душе поднималось злое подозрение: так вот почему этот поганец так быстро вычистил ружье и путал патроны!.. – Подозрение подозрением, но здравый смысл подсказывал. – Слишком дешево, – высморкался совсем неинтеллигентно, зажав ноздрю пальцем, и крикнул: – Все это глупости, Костас! Такой хитрый подлец не стал бы швыряться уликами. Или мы не здесь ищем. Как бы ты бросал ружье? За дуло, вот именно. И как бы ты замахнулся? Справа налево, с поворотом, потому что вещь тяжелая.
– И что с того? – У Костаса уже зуб на зуб не попадал.
– Надо искать левее.
– Я там искал. Но не забудь, что он был ранен, и довольно тяжело… Он мог кинуть ружье только обеими руками.
– Эх вы, теоретики-академики! – Йонас пошел правее и неожиданно провалился почти по шею. – Ил, чтоб его… – Отфыркиваясь, он стал ногами и граблями щупать продолговатый, вымытый течением ручейка омут. – А теперь, мне кажется, будет закрытый ужин с выездом на природу. – Он с головой погрузился в воду, а когда вынырнул – грязный, облепленный ряской и травой, – лицо у него сияло. – Мудрецы! – Он забыл про всякую субординацию. – Если ты, Викторас, его ранил, он, еле живой, не мог лезть через кусты… Поэтому и приполз сюда, где их нет… И утопил берданку у самого берега. – Вытащив, переломил ружье и удивился: – Заряжено, гром его разрази!
«Вот тебе и кино, – подумал Моцкус. – И надо же было так случиться, чтобы из-за этого поганца мы снова собрались вместе!» – хотел еще поразмыслить на эту тему, но, стуча зубами, побежал к багажнику и закричал:
– Ребята, антигриппину пора! А потом, честное слово, где пожелаете и сколько пожелаете! – наливал в стакан и не мог попасть…
Аккуратно прибранная и вымытая палата уже сверкала, но Бируте все еще копалась. Наконец заставила себя присесть на краешек койки Стасиса. Ее раздражала сама необходимость сделать это, раздражали окружающие люди, бегающие глаза Стасиса, но, вспомнив злые слова Моцкуса на улице, его бессильную злобу, она взяла себя в руки. С самого утра она вбивала себе в голову: «Сейчас ты нужна ему. Ты обязана. Ты женщина, ты обязана жертвовать собой, такова твоя природа…» И, наконец, она поборола себя.
Увидев, что она присела на койку Стасиса, Саулюс демонстративно отвернул голову.
«Совсем как Моцкус», – подумала она и нисколько не обиделась.
– Вот видишь, как все повернулось, – тихо заговорил Жолинас.
Бируте молчала, опустив голову. Не желая показать, что у нее дрожат руки, она вертела между пальцами термометр.
– Когда-то и я думал, что из рук любимого человека и желчь сладка, но, оказывается, ошибался. – Больной прижимал к губам платок и закрывался им до самых глаз.
– Тебе нельзя много разговаривать. – Она пожалела его.
– Мне много нельзя, тогда почему ты молчишь? – встревожился Стасис. – Скажи, он тебя прислал или ты сама догадалась?
– И да, и нет… Я за правдой пришла, Стасис. Ведь он нечаянно?!
– Не смеши людей, малышка, в жизни так не бывает. Никто ему не поверит.
– Тебе, Стасис, тоже не поверят, – ей было неважно, что он говорит. – Я вот все думаю: когда ты так испортился? Ведь жили как люди, даже любили и собирались детей растить… Но постепенно, исподволь ты стал страшным человеком. Что заставляет тебя идти на подлость? Неужели только болезнь, в которой ты сам, твоя глупость и ревность виноваты? Иногда мне кажется, что ты никогда и не был другим, рядом с тобой хорошие люди были, только это тебя и сдерживало, а когда остался один… Сам видишь.
– Ругайся, жалуйся, я не рассержусь. Человек сговорчивее становится, когда выкричится. Еще что скажешь?
– Если уж пришла к тебе, скажу: будь мужчиной. Хоть перед концом. Все возьми: и дом, и деньги, и одежду, и мебель, только во имя того, что в нашей жизни было светлого и хорошего, не трогай этого человека. По твоим глазам вижу: он не виновен. Помоги ему.
– А кто поможет мне?
– Я, – она не жертвовала собой, она приговаривала себя. – Это твоя последняя возможность.
«Она безумная!.. Она самоубийца!» – хотел крикнуть Саулюс, но не посмел, вспомнив только что навещавшую его Грасе.
– Вернешься? – Жолинас попытался найти ее руку.
– Нет, – она убрала пальцы. – Но тебе еще надо будет жить. И умереть тебе придется как человеку. Неужели тебе все равно, кто и как закроет твои глаза?
– Ты его очень любишь? – расчувствовался лесник.
– Не знаю, но уважаю.
– А я не мог смотреть, как ты все вздыхала и бегала за ним.
– Разве это моя вина, Стасис, если я, живя с тобой, соскучилась по настоящей мужской любви?
– Пусть и он приходит. Оба приходите. Вместе.
– Благословить хочешь или получить благословение? – Она уже все поняла.
– Вы все равно обманете меня, – встревожился Стасис.
– Если ты больше не обманешь себя, я сдержу свое слово, я буду ходить за тобой как за тяжелым больным, только не впутывай в свою беду еще одного человека: я перед тобой виновата, меня и наказывай, – она уже не могла отступать. Посмотрела на Стасиса и, подчиняясь женскому чутью, спросила: – Ведь всю эту комедию ты придумал только потому, что показался конец веревочки. Этот выстрел только отдалил от тебя петлю, Стасис, так что не перестарайся.
– Допрашиваешь? – заерзал Жолинас и даже забыл покашлять в платок. – Если так, пусть отвечает по закону. Больше я ничего не знаю.
Догадавшись, что попала в точку, она наклонилась к Стасису и, не давая ему опомниться, сказала:
– Во всей этой истории тебе ужасно не хватает одной вещи, поэтому ты и добр, и сговорчив.
– Какой? – выпучил глаза больной.
– Ружья, Стасялис. Я перевернула весь дом и не нашла его. Может, рассказать тебе, куда ты бегал с ним в тот день?
– Если знаешь – не надо. – Больной закашлялся, а потом долго исследовал платок. Ему нужно было время, чтобы как следует все обдумать, поэтому он и тянул. – Если нет бога, то должна быть хоть какая-нибудь справедливость. И я нисколько не жалею, что она, наказывая Моцкуса, избрала меня своим орудием. Приходит время, когда даже такие великаны вынуждены поклониться маленьким. Пусть и он хоть однажды почувствует, что это такое – оказаться в руках другого человека. Ничто так не возвышает человека, хотя бы в его собственных глазах, как власть над другими. Ты не знаешь, как сладко чувствовать, что ты тоже что-то можешь. Держишь этих гордецов, этих счастливчиков в своих руках и играешь ими, как тебе вздумается. За все страдания, за все унижения…
– Хватит, Стасис, хватит. Немножко поигрался, порадовался возможности отомстить, и хватит. А теперь скажи мне, как там было?
– Не скажу, – Стасис лежал, упиваясь своими словами. Он готов был пожертвовать чем угодно, лишь бы продлить это состояние.
– Тебе этого выстрела, гад, за аварию – слишком мало! – вдруг воскликнул Саулюс. – Клялся, как перед богом!.. А теперь перед людьми скажи: зачем туда сунулся?!
– Саулюкас! – прервала его Бируте.
– Хорошо, под выстрел я сам подлез, нечаянно… Топите меня, презирайте, но этот выстрел был нужен мне как воздух, как вода…
– Вот и радуйся, а пока – на перо, бумагу и напиши обо всем этому сопляку-следователю, который думает, что раскрыл преступление в Далласе.
– А может, когда я поправлюсь?
– Нет, тогда будет поздно. Кроме того, ты мне на прощанье в сберкассе деньги оставил, а я их не нашла. Не отнесла ли Алдоните их этому юристу?
– Поправь подушку, – попросил больной, перевернулся в постели и потянулся к лежащему в ногах портфельчику. Вбежала молодая сестра и стала ругаться:
– Ему нельзя волноваться. Что вы здесь делаете?
– Теперь ему все можно, – равнодушно ответила Бируте.
Стасис упал на спину, полежал с закрытыми глазами и сказал:
– Раз уж так все получилось, позаботься об этих деньгах и не дай им зря пропасть.
Моцкус находился в прекрасном настроении. Оставив Йонаса и Костаса дома, он прошелся по оживленным улочкам Вильнюса, купил красивую розу и кружным путем добрался до работы. При виде его секретарша, как всегда, сунула что-то под телетайп.
– Что ты там прячешь от меня? – Он вручил ей цветок и снял пальто.
– Я не прячу, там очень удобная полочка. – Она вытащила большой свитер с высоким воротом, с елочками и большерогими оленями на груди.
– Это для лыжных прогулок? – тоном знатока спросил Моцкус.
– Нет, это выходной. Теперь такие в моде – свободно падающие, с высоким воротом, грубые… Словом, мужские, – она кокетливо улыбнулась.
– Вы могли бы посоревноваться с Капочюсом, – Моцкус громко рассмеялся. – Вчера он, пьянехонький, пытался доказать, что и на шампурах вязать можно.
– Я бы не сумела, – чуть покраснев, ответила секретарша, – но Йонас способный ученик.
– А меня ты могла бы научить? – пококетничал и Моцкус.
– Вы, профессор, только охоту любите.
– Все, бросил! Больше не упоминай об этом проклятом занятии! Если хочешь, могу тебе ружье подарить.
– Спасибо, но вязание успокаивает нервы лучше всякой охоты.
– Не буду спорить, но зачем вы, Ада, столько вяжете? Нервы у вас, мне кажется, еще в порядке, семьи нет… – Он понял, что допустил бестактность, но по инерции продолжал: – Неужели вам зарплаты не хватает?
– Зарплаты?! Что это за зарплата… Я много перепечатываю, а вязанье помогает мне сосредоточиться, руки двигаются, сон не берет, а уши все слышат.
– Все это так, но я замечаю, что свитера чаще всего мужские…
– Вы очень наблюдательны.
– «Наблюдательны»! Я еще и ревнив, – он осторожно улыбнулся. – Интересно, а кто этот счастливчик?
Секретарша сунула нос в розу и уже не посмела поднять глаза.
«Наверно, этот бабник заместитель за ней волочится», – подумал Моцкус и отеческим тоном сказал:
– Это ваше личное дело, но и мне интересно.
– Вы, доктор.
– Неужели?! – Моцкус расхохотался. – Сколько я помню, вы все вяжете и вяжете, а я с дырявыми локтями хожу. Все думают, что я очень богат, мол, щеголяет в новом костюме, при галстуке, а я, малышка, боюсь снять пиджак, потому что мой последний свитер молью побит!..
– Это нечестно. Я на самом деле вяжу для вас, только не знаю, что из этого получится. И не смею…
– А чего тут стесняться?.. Я заплачу. Ведь в магазине днем с огнем свитерок не найдешь.
– Вот этого я как раз и не хочу.
– Тогда я, Ада, отказываюсь понять вас.
– Я вяжу эти свитера к разным датам… А ведь вы даже тех, кто цветы приносит, гоните прочь.
– Гоню, потому что нечего угодничать. Но вы – совсем другое дело. Значит, вяжете и снова распускаете?
– Нет, профессор.
– Значит, складываете их в шкаф?
– Нет, доктор, я тысяч не зарабатываю.
– Простите, я вас не понимаю.
– Я их дарю.
– Да, но вы мало зарабатываете?!
– Профессор, не будьте наивны… Каждый подарок каким-то образом возвращается.
Вошел почтальон, снял фуражку и вежливо спросил:
– Наверно, очень заняты?
– Да нет. Ты заходи в кабинет и немного подожди. Я тут сделал одно из величайших экономических открытий в жизни. – Когда почтальон вышел, Моцкус, не стесняясь, открыто, посмотрел секретарше в глаза и понял, что все сказанное ею – чистейшая правда. Ему стало неловко, потому что в следующее мгновение он подумал: «Черт бы побрал этих баб!.. Оказывается, Марина была не такая уж слепая!» – Прости, я не думал, что в жизни может быть что-то подобное… – Он пятился, отмахиваясь от этого красивого свитера и от секретарши.
– Что вы, профессор…
– Понимаешь, что ты сказала?! Подарок. Ведь это эмоции, чувства – стихия, совсем неподвластная экономике. С другой стороны – капиталовложения, промышленность… Все это понятно мне. Но как определить ту прибавочную стоимость, которую подарок приносит тому, кто его дарит? Это проблема проблем наших дней. Блат, малышка, блат!.. – И, желая как-нибудь смягчить разговор, тихо запел:
Красотки, красотки,
Красотки кабаре!..
В кабинете, не обращая внимания на почтальона, он долго что-то записывал в блокнот. Снова почувствовал прилив хорошего настроения и подумал: «Фантасмагория! Она вяжет этот свитер для меня! Теперь мне опять придется выбирать: или оставить в учреждении идеальную секретаршу, или привести домой идеальную жену? А если, добившись своего, она уже не будет ни идеальной женой, ни идеальной секретаршей? А если, став директоршей, она уже не будет вязать эти изумительные свитера?..»
– Товарищ Моцкус, вам расписаться надо, – тихо напомнил почтальон.
– А по какому случаю такая кипа корреспонденции?
– Юбилей, доктор.
– Чей?
– Кажется, ваш…
– Мой?! – Моцкус едва не расхохотался, но мгновенно испортилось настроение. Он хихикнул, размашисто расписался и согласился: – Выходит, мой.
В лесу бушевала пожелтевшая осень. В ушах стоял звон от принесенной ею тишины. Высоко в поднебесье спокойно перекрикивались гуси. Выстроившись клином, они покидали свой дом. Их спокойное гоготание так взволновало Бируте, что она не выдержала и уголком платка вытерла глаза. Потом сорвала с головы платок и помахала им.
«Хватит, а то строй смешаю», – она до сих пор верила в услышанную в детстве легенду, что если три раза повернуть вокруг головы шапку или платок, то аккуратный строй этих мирных птиц расстроится…
Она не спеша обошла хутор, осмотрела опустевший хлев, без надобности лежащие орудия, прошлась по полупустым комнатам и снова вернулась на двор. Разум велел ей бежать не оборачиваясь вслед за этими улетающими птицами, но сердце не позволяло.
Наконец приехали люди, которых она ждала. Вместе с ними Бируте еще раз обошла хутор, все показала, все объяснила и тяжело-тяжело вздохнула.
– Здесь изумительно! – сказала красиво одетая женщина.
– Вижу, – муж толкнул жену в бок, чтобы та не набивала цену.
И вдруг Бируте решила.
– Не продам, – сказала просто и ясно. – Приезжайте, отдыхайте, живите и работайте, только не заставляйте продавать… не могу.
Пожилые люди прекрасно поняли ее. Мужчина дал ей свою визитную карточку и попросил:
– Если передумаете, будьте так любезны и дайте нам знать.
Она молча кивнула.
– Только никому другому, – женщина дружески улыбнулась.
Бируте кивнула и ей.
Когда они уехали, она не выдержала, припала к большому серому камню, обняла его и горько заплакала. Потом, услышав стук колес, обернулась и увидела едущего к ней Пожайтиса. Он вез на телеге, запряженной Гнедком Жолинаса, законченную часовенку. Подъехав туда, где раньше был погреб, удивился, все было разворочено.
– Как хорошо, что ты здесь! – обрадовался он. – И где же мы поставим ее?
– Такие памятники, Альгирдас, ставят на труднейших перекрестках.
– Не говори, и здесь чертовски красиво.
– Это каше счастье и беда, Альгирдас.
– Я понимаю. – Он медленно достал папиросу, долго разминал ее, постучал о крышку портсигара и, стыдясь своей доброты, сказал: – Раз уж мы начали разговор, надо его закончить. Не мечись, вернись.
– Разве не видишь?.. Ведь я вернулась, – она улыбнулась сквозь слезы и медленно ушла в лес.
На другой день на их самом трудном перекрестке, откуда дороги уходят в Пеледжяй, в Швянтэжярис, в лесничество и в Вильнюс, уже стояла высокая часовенка, еще пахнущая свежей древесной стружкой. Выточенный из дерева древний языческий бог, хранитель очага, дарующий долголетие, молча взирал на красивый полузапущенный хутор, наблюдал, как люди срывают доски с крест-накрест заколоченных окон. Слышал злой визг выдираемых гвоздей, чувствовал, как поднимается ветер и тихо гудит в его жестком, из колючей проволоки сплетенном веночке, как покачивает вложенную в его руку тонкую ветку рябины с краснеющей потрепанной гроздью и несколькими почками, серыми, но таящими жизнь в ожидании весны…
1975–1980








