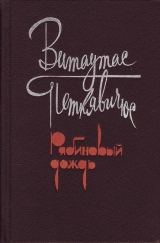
Текст книги "Рябиновый дождь"
Автор книги: Витаутас Петкявичюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
Саулюс молчал, чувствуя, что Бируте права. Но он не мог так быстро разобраться в лавине чужих бед, он еще должен был пережить все по-своему, должен был что-то понять, принять или отвергнуть, поэтому, боясь слепо подчиниться воле другого человека, сказал первые слова, которые пришли в голову:
– Почему вы ссоритесь? Я хорошо знаю, что товарищ Моцкус любит вас.
– Этого уже мало для женщины, которая всякое повидала в жизни. Я хочу, чтобы он из-за меня сходил с ума. – Она была спокойна и последовательна и, как каждый честный человек, немножко иронична к себе. – Но разве он ради бабы откажется от всего, в чем убедил себя за целую жизнь? Сил не хватит. Кроме того, он привык любить всех, значит – никого. А такой и мне не нужен. Я хочу настоящего мужчину, потому что сестрой милосердия, как видишь, мне приходится быть по долгу службы.
«А она – сильная!» – удивлялся Саулюс, наблюдая, как легко Бируте поднимает больных, как меняет им белье. И ни с того ни с сего вспомнились слова Йонаса:
«Исповедником может быть только честный, благородный и много страдавший человек, так как страдание – слагаемое счастья, Саулюс. Они не отделимы, они соединены меж собой кровью».
«Я слишком долго был счастлив, жил, как ребенок, защищаемый взрослыми от всех ветров». – Он осторожно притронулся к ляжкам. Они были бесчувственны. Он дотянулся до стакана на тумбочке, раздавил его пальцами и принялся осколком резать мускулы. Брызнула кровь, но боли – никакой, Боже мой!..
– Ты с ума спятил?! – Бируте подбежала, разжала его пальцы. – Оглянись, ведь ты не в лесу, люди смотрят!
– Это несправедливо! – стал кричать Саулюс. – Это страшно несправедливо! Подло!.. – Он кричал и колотил кулаками край койки, пока не обессилел. – К кому мне теперь прикоснуться, чтобы я почувствовал себя человеком? К кому? – Ему было некого осуждать, некого обвинять, поэтому он испытывал безысходную боль. – Вам хорошо: Моцкус страдает из-за Стасиса, Стасис – из-за Моцкуса, а ты – из-за них обоих… А что я плохого сделал? Меня за что? Ведь я еще не жил!..
– Постыдись хоть тех, кто рядом лежит, – Бируте намочила в воде полотенце, вытерла ему лицо, увлажнила грудь. – А они за что? Что господь рак выдумал?
– Где Моцкус?
– Его перевязали и увезли в Вильнюс.
– А что с ним?
– Ничего, только рука вывихнута и лицо поцарапано.
– Судьба, – скрипнул зубами Саулюс.
– Что-что?
– Говорю, так в моих генах заложено, и дело с концом. Если ты не поможешь мне, я сам найду выход, – решил он и, испытывая свою волю, решил до самого вечера не открывать глаза, но этому помешал инспектор Милюкас.
Бируте не думала, что, вернувшись домой, будет так переживать, вспоминая разговор с Саулюсом. Она не могла найти себе места: опять и опять подогревала чай, села во второй раз ужинать, забыла разбудить подругу.
«Поросенок, молокосос, – ругалась она про себя, – только перекувырнулся через голову, только ударился посильнее, и уже конец, уже весь свет не мил… Ему больно, значит, все сходите с ума! Ну конечно, ему очень тяжело, но кто же виноват? Неужели, когда еще кто-нибудь впутан в твою беду, страдать легче? Радость – не боль, с другими ею не поделишься. А страдать приходится одному. Мы вспоминаем тень, когда жарко, а дерево – когда нужны дрова…»
Тут вбежала подруга и стала ругаться:
– Почему не разбудила?
– Забыла. Как ты думаешь, этот шофер еще встанет на ноги?
– Какой шофер?
– Который с позвоночником.
– Трудно сказать. Если нерв не оборван, будет жить со специальным корсетом, а если оборван – все.
– Он ног не чувствует.
– После аварии вначале со многими такое бывает, а потом проходит. Наш главврач – чудодей. – Подруга торопилась, обжигаясь, пила чай. И, на ходу надевая пальто, убежала.
Бируте сидела с чашкой остывшего чая и думала, почему Саулюс заботит ее больше, чем остальные больные… Чего доброго, даже больше, чем Моцкус… Она видела Саулюса несколько раз, поддразнивала его, вспоминая Моцкуса, а он за это даже оскорбил ее, вот и все знакомство. Может, потому, что он показался ей куда лучше и честнее других?
В нем есть нечто притягательное, и близкое, он чем-то отличается от других. Ведь к людям привыкаешь, как к вещам… И вдруг появляется человек, в котором ты постоянно обнаруживаешь что-то новое, который отдает тебе себя, ничего не требуя взамен, и ты не можешь отказаться от его жертвы. Такому ты способна простить все – оскорбления и грубый характер, бессмысленное упрямство, даже глупость. Он не похож на других, поэтому и манит тебя, притягивает, как запретный плод, и часто уводит за собой, – она еще раз воссоздает в памяти их странное знакомство. И снова не находит себе места, вспоминая, как их обоих, Саулюса и Моцкуса, привезли в больницу.
Она прибежала в больницу и увидела Моцкуса, расхаживающего из угла в угол. Его лицо было обклеено, рука на повязке.
– Что случилось?
– Не знаю. – Он поднял забинтованную руку, словно собирался принести клятву, подержал ее, пока не утихла боль, и снова принялся ходить туда и обратно. – Я ничего не понимаю: на прямой дороге, на ровном месте! Подбросило на выбитой колесами рытвине и понесло в сторону.
Вошел врач, Моцкус оставил ее и подбежал к нему:
– Доктор, этого парня надо вытащить любой ценой. Делайте что хотите, меня укладывайте, но он должен выздороветь!
– Товарищ Моцкус, не повторяйтесь. Лучше ложитесь и отдохните.
– Я немедленно поеду и привезу лучших специалистов.
– Я ничего не имею против, но, поверьте, мы тоже достаточно компетентны. Вы полежите, вам еще тоже надо прийти в себя.
Бируте смотрела на Виктораса и думала: все такой же капризный, такой же настойчивый и неудержимый, когда речь идет о другом человеке, но едва дело касается самого, его словно подменяют, – она смотрела, как он послушно лег и жалобно улыбнулся.
– Вот и покатался… – Обхватив лоб пальцами здоровой руки, сильно стиснул его. – Мы к тебе спешили.
«Все вы ищете женщин, когда вам плохо или когда по уши погрязаете во всяких бедах», – хотелось ей сказать, но она не смогла.
– Будь добр, полежи спокойно.
Но Моцкус побежал искать главврача. Через некоторое время из операционной привезли Саулюса. Бируте прибрала его кровать, привязала ремни, подняла их, натянула гири, разгладила каждую складку на простыне и села рядом.
«Ожидание – доля женщины», – подумала и хорошо вгляделась в юное, неправдоподобно бледное лицо. «Все ему истина была нужна, справедливость, будто только этим и жив был. И вот свалилась беда, как на меня когда-то. Если не сломится, если выдюжит, тогда узнает, с чем ее едят. – Она осторожно вытерла его покрытый испариной лоб и обрадовалась: – Приходит в себя, бедняжка…»
И снова она видела Саулюса, сильного и веселого, поднимающего одной рукой лежавшие на дворе колеса от вагонетки.
«Неизвестность, папаша, это самая тяжкая кара», – насмехался он над Стасисом.
Шутки шутками, но так оно и есть. Ведь и Моцкус обманул меня. Нет, он меня не бросил, он поступил еще хуже: продолжал жить со мной, когда я надоела ему. Ему только казалось, что он творит, пишет, работает, желая угодить мне, что я есть начало и конец всех его забот, а на самом деле он уже не мог жить без своего института, без своих дел, счетных машин и окружающих его людей.
Ему нужна была женщина, но лишь тогда, когда он вспоминал о том, что он мужчина, а мне Моцкус был нужен только такой, каким я представляла его себе, какого ждала все эти долгие годы, и, не найдя в нем этого, снова готовилась остаться одна.
Нет, Саулюкас, неизвестность – не только кара. Неизвестность – еще и мечта, к которой приближаешься с дрожью и ожиданием чего-то необыкновенного, к которой идешь со страхом и чувствуешь только манящий трепет, от которого вспыхивают щеки и сердце… А потом приходят познание и привычка. Да, Саулюкас, неизвестность – кара, но только не в любви.
Она и теперь помнит тот первый толчок под сердцем. Он был такой слабый и робкий, что показался ей похожим на царапанье мышонка, но одновременно и такой внушительный, такой впечатляющий, такой незабываемый, как прикосновение судьбы, переворачивающее всю жизнь. Прикосновение, испепелившее постоянно бодрствующую в ее мозгу и напоминающую о себе боль, пробудившее радость и счастье. Она тогда остановилась, прислушалась, вся напряглась и схватила за руку Виктораса, словно боясь упасть.
– Что с тобой? – выпучил он глаза.
– Ничего, – через несколько мгновений она, зардевшись, счастливая, рассмеялась. – Ничегошеньки. Мне кажется, что я уже не одна.
– Неужели ты усомнилась во мне? – Моцкус крепче сжал ее руку.
– Если ты никак не можешь забыть про себя, тогда нас трое.
Он остановился, не поверив, и стал моргать, словно ему швырнули в глаза горсть песка. Потом подошел поближе и переспросил:
– Ты не ошиблась?
– А ты испугался?
– Нисколько. Я не верил в это. Я был… Меня обвинили… Послушай, нам надо немедленно уехать отсюда. И подальше.
– Куда, в твой кабинет?.. Забаррикадируемся столом от Марины и будем сидеть как в крепости?
– Не надо, Бируте, я не заслужил этого. В жизни невозможно избежать некоторых формальностей, но теперь все меняется.
Почувствовав что-то недоброе, она стала сопротивляться:
– Я тоже, Викторас, говорю серьезно: не будем обманывать друг друга, некрасиво это. Ты лишь у себя в кабинете – как рыба в воде. Только там ты витаешь в облаках, а я не хочу стянуть тебя с этих высот и привязать к себе… Я – не Марина, поэтому вижу, что ты добр ко мне лишь тогда, когда тебе худо там. Тогда ты мчишься ко мне в поисках утешения или чтобы развеяться. Вот и оставайся таким, Викторас. Такого я тебя буду больше любить. Не превращай нашу любовь в страдание. – Она хотела сказать: я много лет жила рядом с мучеником, и мне это надоело до мозга костей, но не сказала.
Викторас смотрел на нее с удивлением и не находил слов. Бируте чувствовала, что попала в точку. Ей было даже приятно, что он, такой неуязвимый и большой, растерялся, но она тут же пожалела его:
– Ты опять обвинишь меня в колдовстве?
– На сей раз нет, но ты и впрямь… Даже лаская тебя, я часто думаю: а они там без меня!.. Ты не сердись, это у меня в крови.
– Я и не сержусь. Ведь есть люди, не созданные для любви.
– Возможно.
– Делай, как хочешь, но я не уеду отсюда, пока твое желание не перерастет в потребность, пока ты не пригласишь нас двоих в какой-нибудь милый тебе, только тебе одному принадлежащий уголок, которым нам не надо будет делиться ни с плохими, ни с хорошими людьми.
– У меня нет такого.
– Вот и не будем торопиться.
– Но это временно… Получить квартирку для меня – смех.
– Вот и смейся, а нас не заставляй плакать. Мы из своего угла в чужой дом не пойдем.
Да, воистину доля женская – ожидание. Женщины ждут, когда не остается никакой надежды, когда их любимому или сыну устанавливают памятник. Они любят и прощают, когда остальные готовы вывести их избранника за деревню и забросать камнями. Но Бируте ждала ребенка. Это ожидание нельзя сравнивать ни с каким другим. Она жила с ним, она жила для него и ждала его терпеливо, заранее прощая ему все ошибки, все грехи; она ждала его, ощущая его малейший каприз или беспокойное движение, и страшно пугалась, когда их настроение не совпадало или когда он чуть задерживался и не проявлял признаков жизни.
Бируте прекрасно знала, чем это кончится, потому что в роддоме она видела множество новорожденных – здоровых и больных, крикунов и молчаливых, – но ей казалось, что ее дитя будет совсем другим.
Тогда она и впрямь была счастлива. Все обрело новый смысл. Она уже не так сильно беспокоилась о Моцкусе, о себе, а из-за малыша сходила с ума: ела ради него, спала и работала ради него, читала и мечтала только для него, своего восходящего солнышка, потому что она, как учил тот симпатичный доктор, была в ответе за его красоту и разум…
Но вернулся из больницы Стасис. Он молча собрал свои вещи, перенес их в другую комнату, открыл дверь второй веранды и каждый раз, встретив ее, отводил взгляд в сторону. Он даже здоровался с ней молча, кивком головы, а то и этого не делал, если бывал совсем не в настроении. Молчала и она, но со страхом чувствовала, что не где-то на стороне, а именно в этом человеке, в Стасисе, зреет уготованное ей несчастье. Он не выдержал первым:
– Бируте, я все забуду и никогда не стану напоминать об этом, я…
– А о чем ты можешь мне напомнить – о своей подлости? О своем преступлении, за которое тебя надо было судить?
– А это не подлость?! – Он указал пальцем на ее пополневшую талию.
Она вдруг побледнела, словно пронзенная этим пальцем насквозь, и топнула ногой.
– Не смей сравнивать, свинья! – Она не почувствовала, как стала оглядываться в поисках острого или увесистого предмета. – Если ты скажешь еще что-нибудь подобное, я убью тебя! Я сама пойду к военкому, если они все там в сопляков превратились…
И она сделала бы так, потому что душой почувствовала, что нет большего преступления, большей подлости, чем лишать женщину права родить ребенка, права, данного человеку природой, от которого он, Стасис, отказался, уничтожил его сам. А Стасис, одуревший от своей жертвы, оказавшейся ненужной, потерявший из-за этого бессмысленного поступка здоровье, считал, что нет большей жестокости, чем обращение Бируте с ним, человеком, преданным ей душой и телом, что в сердце Бируте, стоило ей забеременеть, уже не осталось места ни для доброты, ни для жалости. Иначе откуда эта беспричинная, беспредельная злость? И еще он думал, что, забеременев, она отомстила ему, что теперь его, Стасиса, долг – все простить и помочь ей стать нормальным человеком, женой… Поэтому, подождав, пока она успокоится, он сказал:
– Моцкус – птица не твоего полета. Ты быстро наскучишь ему.
– Замолчи, прошу тебя.
– Когда тебе будет тяжело, знай, что я всегда рядом.
– Если ты хочешь помочь мне, сначала начни уважать себя, – она едва не добавила: призрак! Но сдержалась, потому что снова ощутила сильный толчок. Ведь доктор говорил ей…
В первые дни Стасис старался не попадаться ей на глаза: когда она бывала дома, он уходил в лес или торчал у себя в комнате. Услышав шаги Бируте, он даже радио выключал. Так же он вел себя, когда приезжал Моцкус. Но потом к Стасису зачастила Марина. Она тихо выходила из машины, тихо стучалась в дверь Стасиса и, посидев час-другой, уезжала домой, так сказать, ни здравствуй, ни прощай.
Это было страшно. Бируте не знала, о чем они говорят, что делают, но чувствовала, что назревает беда. Бируте была бессильна перед заговором этих ничтожных, самолюбивых людишек. Она ждала, когда рядом с ней встанет Моцкус, прикроет ее собой и скажет им, жаждущим мщения: «Порадовались, полакомились, а теперь – ша! Чтоб мне ни звука!»
Но и он с каждым днем сникал, чернел, менялся. Его не отпустили за границу на какую-то важную стажировку, а как-то он не вытерпел и пожаловался:
– Знаешь, меня временно снимают с должности директора.
– За что? – не поверила она.
– Ни за что. Наверно, чтобы я не мешал работе комиссии.
– Какой комиссии?
– Марина написала столько всяких жалоб, натравила на меня стольких своих друзей и сочувствующих, нашла столько союзников и любящих сенсации дармоедов, что теперь этой комиссии работы на десять лет хватит.
– Но ведь ты не виноват!
– Конечно.
– Тогда чего боишься, почему расстраиваешься? Неужели там нет умных людей?
– Есть, но…
– Что – но? – Бируте не понравилось настроение Виктораса. Она все еще хотела видеть его улыбчивым, не умеющим кланяться каждой пуле, она думала, что его не сломить, поэтому сдержалась и подбодрила: – Ну, снимут с директоров, уволят с должности… Разве ты не ученый? Ведь они не могут отнять у тебя твой ум, твой талант.
– Не могут, но…
– Что еще за «но»?
– Видишь ли, давай будем реалистами. Теперь не те времена, когда ученый мог делать науку, отгородившись от всего света. Теперь для исследования разных идей, для их подтверждения или опровержения необходимы лаборатории, вычислительные центры, опытные сотрудники. Одно дело, когда ты сам работаешь с карандашом в руках, и совсем иное, когда несколько десятков опытных специалистов действуют согласно твоим идеям и твоим указаниям. А с другой стороны, разве тебе неизвестны наши порядки? Кто первый написал жалобу, тот и прав.
– Я вижу, ты уже обо всем жалеешь. Не надо. Если я – причина этих бед, оставь меня, Викторас, я не стану сердиться. Хоть на время, пока все утрясется.
– Нет, я не сделаю этого, пусть меня даже к стенке ставят. Я не хуже тебя знаю, что такое долг. Кроме того, капитулировать перед Мариной – значит расписаться под ее жалобами, стать тряпкой, крепостным, послушным рабом и уже никогда не подняться выше рядовой шестерки. Я так не могу. Надо ждать.
– Чего? Чуда?
– Не знаю.
– Ведь самое страшное – ничего не делать и ждать.
– Не совсем. У меня есть ты, – он обнял ее и поцеловал.
От этого ненужного, казенного, жалкого поцелуя Бируте стало неловко.
– Но я не институт, – довольно сердито сказала она.
– А почему же нет? Целая академия. Но и здесь, малышка, надо ждать. Сколько еще?
– Совсем немного.
Через некоторое время ее навестил Милюкас. Он зарегистрировал все частные поездки Виктораса на казенной машине, подсчитал общий километраж и даже оценил его по существующей таксе – десять копеек за километр. Он долго расспрашивал о лекарствах, которые привозил ей Моцкус. Словом, он знал все о их жизни.
– Поговорите с товарищем Моцкусом, – ответила она. – Я ничего не знаю.
– Да, – промычал Милюкас, – но эти лекарства, которые Моцкус привозит вам, строго запрещено продавать без рецепта с печатью. Среди них есть даже ядовитые.
– Каждое лекарство – яд, – ответила Бируте. – И если он по моей просьбе помогает людям, что в этом плохого?
– Да, – продолжал мычать он, – но закон есть закон. Вы не отрицаете?
– Чего?
– Что он привозил вам такие лекарства?
– Я уже сказала. – Почувствовав какой-то подвох, Бируте испугалась и стала оправдываться: – Разве это противозаконно?
– А вдруг случится какое-нибудь несчастье? Скажем, отравление или даже смерть?
– Но эти лекарства выписывают врачи, только достать их трудно.
– Да, – он постучал карандашом, – но разве вы всегда раздаете их по рецептам?
– Если болезнь точно определена, если лекарства помогают… тогда к чему эти формальности?
– А если эти лекарства случайно попадут в руки здоровому человеку?
Она только после этого вопроса поняла, в чем ее подозревают, поэтому покраснела до корней волос, перепугалась и лишь спустя несколько мгновений, с трудом совладав с собой, спросила:
– Товарищ Милюкас, как вам не стыдно!
– Таковы мои обязанности, поэтому я и должен был спросить. Спасибо. – Сложив бумаги в планшетку, он пошел к Стасису.
И снова тишина, и снова поездки Марины, и снова беда Виктораса.
– Она уничтожила меня, – еще не переступив порог, сказал он.
– Но ты еще жив!
– Эта змея сожгла мою докторскую диссертацию. – Он выглядел, будто его приговорили к расстрелу: почерневший, немытый, взлохмаченный, в полуразвязанном, со съехавшим вниз узлом галстуке. – Дай мне холодной воды, – долго пил, а потом упал на диван и закрыл глаза.
– Не может быть.
– Не может, но это правда.
– Голову-то не сожгла. – Бируте еще пыталась утешить его. – Ведь ты все помнишь. Наверняка сохранились какие-то пометки, черновики…
Он ничего не ответил, и Бируте поняла, что Викторас сломился. Теперь он был страшно похож на нее, когда она, завернувшись в одеяло, пряталась по ночам в кустах и не знала, откуда ждать помощи. Моцкус уже был не Моцкус. И хуже того – он уже не принадлежал ей. Боясь сказать что-нибудь не так, она тихо вышла из комнаты, а когда вернулась, он все еще сидел с закрытыми глазами. Услышав ее шаги, он тут же заговорил о Марине:
– Есть женщины, которые любят мужа, но до тех пор не могут успокоиться, пока не завладеют его душой, а Марине даже этого мало: она стремится любой ценой уподобить меня себе. Слабая, она страшно хочет управлять и властвовать. Она может спокойно жить с человеком, только прибрав его к рукам, словно вещь. Днями напролет она может говорить о том, чем она набила холодильник, где достала тряпки, которые не попадаются ни в одном магазине, и не понимает, что все ее богатство – не цель, а только банальное средство чего-нибудь добиться в жизни. Она боится идеалов, поэтому и стремится заключить душу мужа в омерзительную, провонявшую стряпней золотую клетку… И если ты, потеряв терпение, хоть раз уступишь ей, тогда держись – для нее и этого будет слишком мало. Ее надо превозносить, обожествлять, но обязательно в доступной ей форме, иначе и тут она не обойдется без подозрений, без насилия, без цепей…
– Хватит! – испугалась Бируте. – Перестань! Ты бог знает до чего договоришься.
– Нет, малышка, Марина убеждена, что таких типов, которых она не понимает, надо уничтожать физически, надо три раза в день кормить их крысиным ядом и не давать воды, чтобы они не поганили воздух. Она думала, что и я, обжегшись, стану так же обращаться с другими, но я не средневековый инквизитор. Придет время, и она будет локти кусать, если поймет свою низость… И тогда наступит мой час, час моей мести, час, к которому я шел всю жизнь…
Своей пассивностью, своей вялостью Викторас все больше отталкивал Бируте. Ей уже в тот день все было ясно, но она все равно любила его и, страшно разволновавшись, сказала:
– Если нет другого выхода, тогда я им стану.
– Кем ты станешь? – Он все еще разговаривал с закрытыми глазами.
– Инквизитором.
Испугавшись, Викторас порывисто вскочил, подбежал и уставился на нее.
– И ты смогла бы?
– Ради тебя?.. Да! А ты ради меня?
– С… с ума сошла!
– А он – мог бы.
– Кто он?
– Стасис.
– Не болтай чепухи! – Он опустил руки и только теперь понял всю серьезность положения. – Ну и публика! Один другого лучше… – Вдруг спохватился, что сравнил Бируте с женой, со Стасисом, с Милюкасом, и еще больше испугался: – Малышка, побойся ты бога! За кого ты меня принимаешь? На фронте и я не раз… Но теперь?.. И вообще: я запрещаю тебе говорить об этом!
Бируте ничего не слышала, только все время повторяла про себя: «Ну и публика!.. Один другого лучше… Публика… Один другого… Куча… Помойная яма… Я – публика, они – публика, публика – все, но только не он… – В это время под сердцем снова зашевелился ребенок. – И он, еще не родившийся, – публика?!»
– Уходи, – сказала она Викторасу.
– Вот еще! – Он даже вскочил от удивления, но, увидев ее плотно сжатые губы и грозный взгляд, извинился: – Прости.
– Уходи, Викторас, и не возвращайся скоро. – Она еще оставила ему возможность исправиться.
– Ты с ума сошла! Что ты делаешь?
Она заставила себя улыбнуться ему, подошла, взяла за плечи, подтолкнула к двери и чуть веселее добавила:
– И без диссертации не возвращайся.
– А как с ним?
– Справлюсь. Сможешь навестить.
– Фу, – он вытер испарину со лба. – Ну и напугала! Ты на самом деле умеешь читать чужие мысли. Я тоже решил без победы сюда не возвращаться.
– Неправда, ты хотел закончить все это иначе…
Он побледнел и плотно сжал губы. Постоял, потом повернулся и, забыв шляпу и плащ, ушел.
Как только он уехал, Бируте сразу пошла к Стасису. Тот, увидев ее, сгреб в ящик какие-то бумаги и встал, заслоняя собой письменный стол.
– Что ты тут пописываешь? – Она, наверно, выглядела очень плохо, потому что, посмотрев на нее, Стасис стал пятиться. – Я тебя спрашиваю: что тут пишешь?
– Ничего особенного… разную ерунду…
Она шагнула к столу, оттолкнула Стасиса и, вытащив бумаги, пробежала глазами.
– Значит, я хочу отравить тебя? – нисколько не удивилась она.
– Нет, не ты… Это я сам.
– Кто научил тебя этому?
– Она… Марина, Моцкувене.
– Иди! – Она толкнула его к двери. – Иди, говорю! – И когда он пришел в ее комнату, показала на аптечку: – Которые взял?
Он дрожащим пальцем ткнул в бутылочку:
– Эти.
– Ну, чего ждешь? Бери еще!
Он взял.
– А теперь – жри. Жри, говорю!
– Бируте, ведь они ядовитые…
– Знаю. – Она сняла со стены ружье и, даже не проверив, заряжено оно или нет, направила на Стасиса. – Ведь ты уже написал и бутылочку приложил, что я тебе этой дряни по приказу Моцкуса в борщ налила… Ну!
Он быстро отвинтил крышку, зажмурился и вдруг выпил залпом.
– А теперь иди и напиши, что никого не винишь, что все сделал сам, убедившись в бессмысленности своей жизни. – Она смела в ведро лекарства, которые привозил Викторас, истолкла прикладом ружья, вынесла на двор и выбросила в помойную яму.
Когда Стасис вернулся с запиской, она прочла ее и, сложив, сунула за вырез платья, а потом спокойно спросила:
– Теперь скажи: почему ты так сделал?
– Письмо я еще не отправил. Я все сомневался, хотел идти к тебе, но ты сама…
– Ты скоро умрешь, поэтому не запирайся: почему ты так поступил?
– Сам не знаю… Очень уж обидно было. Болезнь меня разума лишила. Раньше я бы не стал так… Сама знаешь!..
– Болезнь лишила, болезнь и вернет. Садись и пиши… – Она диктовала ему, как Марина соблазняла Стасиса разными посулами, как подкупала его подарками и деньгами, как сама привезла ему эти лекарства и велела одну бутылочку поставить в шкафчик Бируте…
– Но она не привозила.
– Пиши, ибо теперь тебе все равно: она подсунула лекарства, наняла свидетелей и просила свидетельствовать так, как научила…
А когда он закончил и расписался, Бируте налила полный кувшин теплой воды, сыпанула туда несколько горстей соды и приказала:
– Выпей!
Он схватился за кувшин, как утопающий за соломинку.
– Только не здесь, на дворе, а то комнату загадишь.
Она долго слушала, как Стасис икает и стонет, а потом, когда он, успокоившись, лег, постучала в стенку и добавила:
– Когда приедет Марина, приходите оба.
– Я не приду, мне достаточно и этого урока.
– Придешь. И запомни, Стасис, я тебя травить не стану и жалоб на тебя писать не буду, я только схожу к Альгису и попрошу помочь. Мне кажется, он найдет способ, как успокоить тебя.
Стасис долго сопел и молчал.
– Ну как?
– Я согласен.
Бируте успокоилась, легла и хотела уснуть, но теперь не желал успокаиваться ребенок. Он метался под сердцем, стучал кулачками и ножками и не хотел простить Бируте ни одного произнесенного ею дурного слова, ни одного резкого движения, ни одной проглоченной слезы, ни того страшного нервного напряжения, когда, думая о нем, о его покое, о его здоровье, она вдруг вздумала стать солдатом и перенапрягла свои силы. Утихомиривая, ублажая его, Бируте всю ночь бродила по лесу, смотрела на круг тумана, окольцевавший луну, ополаскивала в речке лицо и руки, и лишь когда, позабыв обо всем, она остановилась у мостика и стала наблюдать, как еж с пыхтеньем бегает вокруг своей ежихи, как тихо парит у самой воды козодой, они наконец помирились. Но через несколько дней снова приехала Марина и тихо закрылась в комнате Стасиса. Бируте не вытерпела и сама пошла к ним. Гостья, не сняв пальто, вся красная, сидела в глубоком кресле и, положив ногу на ногу, курила. Перед Стасисом лежал белый лист бумаги; не в силах удержать ручку дрожащими пальцами, он стучал по зубам искусанным ее концом.
– Зачем вы приезжаете сюда? – спросила Бируте гостью.
– Только не за тем, за чем ездит сюда Викторас, – ответила та.
– Стасис этого уже не может, – не осталась в долгу и хозяйка. – Зачем же?
– Общее несчастье сближает людей.
– Какое несчастье? – Бируте уже издевалась. – Идиотизм – не талант, в землю его не зароешь, не похоронишь и под юбку не спрячешь. Но ладно уж, Стасис тоже кое-что написал мне…
Она достала лист бумаги и с наслаждением начала читать, что было и чего не было написано, что она подозревала и что сама насочиняла… Марина слушала, бледнела, курила, порывалась уйти и снова садилась.
– Вот и все, дата и подпись, заверенная у нотариуса. Что вы на это скажете?
– Это ложь! Подлость. Я никогда… Ты, дурень, скажи ей, что это вопиющая чушь! Все вы здесь такие недобитые!..
– Ну, говори, Стасис, чего ты ждешь? – подхлестнула Бируте.
– Это чистая правда, – сказал Стасис. – Вы не только меня, вы и Милюкаса уговорили, запугали своим отцом, знакомыми…
– Вижу, вам мало этого. – Бируте ковала железо, пока горячо. – Чтобы перестраховаться, на всякий случай вы заставили этого дурака написать: во всем вините мою жену и Моцкуса!.. – Она снова читала, искажая и слова, и факты. – Ну, и как теперь?
Марина взбесилась. Она побежала к машине, немного отъехала и снова вернулась.
– Ты ведьма! Ведь все это – отвратительная ложь!
– Правда! Вы такая. И другой быть не можете!
– Может быть, я такая, но все это – гнусная выдумка.
– Чистейшая правда. Ты мстила Моцкусу, так как не могла подняться до него. Ты мстила мне, так как не могла отнять того, что дала мне природа. За это я прощаю тебя. Но ты мстила и ребенку, который еще не появился на свет, – какая ты после этого женщина?
Марина задрожала и, сдерживая слезы, спросила:
– Куда ты денешь эти бумаги?
– Сделаю копии. Одну отдам куда надо, а другую – отправлю твоему отцу.
– Ты не сделаешь этого!
– Не сделаю, если вы, вернувшись в Вильнюс, немедленно откажетесь от всего, что написали на моего мужа, – она подчеркнула последние слова, – опровергнете как плод своей болезненной фантазии. На кого вы все свалите – вот на этого дурака или на Милюкаса – мне безразлично.
– Хорошо, я согласна, – и Марина заплакала. – Боже мой, в кого я превратилась!.. Бирутеле, поверь, я – свинья, я ослепла… Отдай мне эти бумаги, я сделаю все, как ты просишь…
Бируте не стала дольше слушать, хлопнула дверью и ушла. Она больше не могла стоять, ибо почувствовала, как под сердцем… Боль, раздирающая тело, уже опускалась все ниже и ниже, но она не могла просить помощи у этих людей. Схватив приготовленные пеленки, Бируте кое-как дошла до машины и сказала шоферу:
– Вези, и побыстрей!
– Вы меня не нанимали.
– Вези, я рожаю!
Испуганный шофер понесся по дороге, а боль накатывалась все с новой и новой силой, она так и раздирала бедра. Она, медсестра, знала, что между схватками должны быть перерывы, но их не было. Она не могла выпрямить ноги, не могла вздохнуть, ничем не могла помочь себе…
Санитары вынесли Бируте из машины без сознания, а когда она очнулась, боли уже не было. Ей сделали укол, чтобы вызвать роды, ей старались помочь. Промучившись целые сутки, она родила, но не услышала крика, не услышала шлепка ладони доктора, она ничего не услышала, только увидела слезы на глазах подруги.
– Бирутеле!..
Бируте смотрела на подругу и не могла плакать.
– Слава богу, хоть ты осталась жива.








