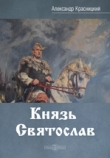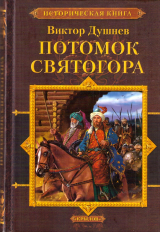
Текст книги "Черленый Яр. Потомок Святогора"
Автор книги: Виктор Душнев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
Буря в пустыне действительно разыгралась не на шутку. Даже здесь, в Бухаре, чувствовалось нестерпимое и жуткое дыхание ветра.
Ахмат попрощался с отцом без лишних любезностей. Темир только успел шепнуть ему на ухо: «Береги Махмуда, без него пропадёшь». – «Ладно, посмотрим», – сквозь зубы процедил Ахмат, в очередной раз демонстрируя неприязнь к голубоглазому рабу.
– Махмуд! – спотыкаясь, подбежал к любимому слуге Темир. – Махмуд! Не ходи на Амуль[18]18
Амуль – древний город на левом берегу Амударьи.
[Закрыть]. Перейди Оке северней. Там есть броды. А потом – в пустыню, и скорее.
Махмуд ничего не ответил, но всем своим видом дал понять, что приказ благодетеля выполнит. И Темир только сейчас, в час расставания, понял, что теряет самого близкого человека, настоящего товарища. Да, жизнь прошла, теперь можно и умирать. Но всё равно гнетёт чувство страха перед неизвестностью потустороннего мира. Как там тебя примут? Какой самый страшный грех перед Аллахом ты совершил? Что не даст возможности хотя бы там обрести покой? Атак хочется покоя! Всё тело словно в нарывах, ноги не держат. Да, нужен покой, ох, как нужен!..
Темир повернулся и, горбясь, пошёл в дом. Его уже никто не провожал, никто не поддерживал. Старик споткнулся и чуть не упал, удержался лишь потому, что успел ухватиться за поручни, отходящие от порога. Он оглянулся: караван тронулся. В последний момент Темир передумал оставаться, устрашившись мести Шомбоя и Удбала. Он хотел крикнуть вдогонку уходящему каравану, но лишь еле слышно прохрипел: «Ахмат, Махмуд!..» Колени задрожали, руки заскользили по поручню, и Темир опустился на порог. Из каравана никто не оглянулся. Бывший гроза Бухары был теперь немощен и ничтожен. Ни сил, ни богатств уже нет, и потому он больше никому не нужен, кроме разве только врагов лютых, над которыми сам когда-то лютовал зверски. Вот им он, уже совершенно беззащитный, очень нужен. Пришло время возмездия.
Караван скрылся в песчаной мгле. Нет его. Только ветер завывал, швыряя песок в глаза Темира. И как волк завыл и он сам...
Глава третьяПустыня по грозному своему могуществу и безраздельной власти над человеком сравнима лишь с морем. И буря в пустыне похожа на шторм в океане. В обоих случаях вероятность гибели странников и моряков превышает вероятность спасения; разница только в том, что в пустыне людей погребает песок, а в море поглощает бездонная пучина вод. Но одинаково то, что и в пустыне во время бури, и в океане в шторм люди чаще всего исчезают бесследно. И так же как в море опытный, видавший виды лоцман может спасти от гибели корабль, в пустыне бедствующий караван может спасти лишь всезнающий проводник. Только он выведет людей из царства смертоносных барханов.
Перейти Окс беглецам из Бухары не составило труда: Махмуд прекрасно знал все броды и множество способов переправы. Но в пустыне нужна сноровка особая, тем более в бурю. Здесь надо иметь чутье, уметь как легавая идти по следу, не видя его. Этим чутьём и обладал Махмуд.
Злым шакалом выл ветер, миллионами горстей хватал песок и бессовестно стегал им по лицам путников. Но привычные к такой погоде верблюды спокойно и уверенно шагали вперёд. Махмуд на гнедом арабском скакуне по кличке Арзак разъезжал, петляя, впереди каравана. Конь, приплясывая, повиновался каждому движению хозяина. Махмуд иногда останавливал Арзака, вставал на стременах, глядя по сторонам и не обращая внимания на болезненные уколы песка. Потом снова подстёгивал скакуна, догонял вожака-верблюда, что-то кричал погонщику. Тот, повинуясь командам Махмуда, сворачивал в сторону, и весь караван сначала изгибался дугой, а потом выпрямлялся, продолжая свой путь.
Сколько времени прошло, никто не знал. Наконец измученный Ахмат начал укорять Махмуда.
– Куда ведёшь караван? – поравнявшись с ним конь в конь, сквозь зубы прошипел Ахмат. – Погубить нас захотел!
Махмуд не отвечал.
– Ты что, оглох? – гневно переспросил Ахмат, прикрывая лицо рукой от песка. – Я спрашиваю: куда ты нас ведёшь, раб несчастный?!
Подъехал Хасан и подлил масла в огонь:
– Да он, видно, вольной птицей себя возомнил, и указ хозяина ему не указ!
Разъярённый Ахмат схватил Махмудова коня за уздечку и прохрипел:
– Ещё раз спрашиваю, баран поганый, куда ведёшь караван?
– Туда, куда приказал мой хозяин Темир! – недобро сверкнул глазами Махмуд.
– Здесь нет никакого Темира! – замахнулся плёткой на проводника Ахмат. – У тебя теперь я хозяин! – И попытался ударить его.
Махмуд лёгким движением увернулся от удара, который пришёлся по крупу Арзака. Конь от неожиданной боли сорвался с места, но сильные руки Махмуда удержали его. Арзак встал на дыбы, жалобно заржал и завертелся на месте. Махмуд ещё сильнее натянул поводья, и конь успокоился. Глаза же Махмуда засверкали яростью.
– Я должен выполнить волю хозяина Темира. В другом случае меня бы здесь не было. Поэтому не выводи меня из терпения, Ахмат, а то я нарушу клятву, данную Темиру.
– Угрожаешь?! – взвизгнул Ахмат. Но он понимал, что в данных условиях расправа над Махмудом невозможна: тогда неизбежна гибель его самого. И Ахмат смягчил тон: – Ну ладно, запомню твою дерзость...
– У тебя жар, господин, – спокойно ответил Махмуд. – Да и устал ты. Пересядь с коня на верблюда, на нём можно отдохнуть.
– Но мы слишком долго едем! – снова взорвался Ахмат.– Ты сбился с дороги? Мы погибли!
– Господин, – процедил Махмуд. – Ты не знаешь Каракумы, а я знаю, много раз ездил здесь с господином Темиром. Успокойся и не слушай всяких шакалов, – глянул в сторону Хасана. – Я выполню приказ Темира и спасу тебя, но не мешай мне вести караван, иначе мы действительно собьёмся с дороги. Прошу, Аллахом заклинаю, пересядь на верблюда! Скоро мы достигнем кишлака Юлдыбай, там есть колодец. Передохнем и пойдём дальше.
Нехотя Ахмат согласился.
Путь стал поспокойнее, больше Махмуду никто не мешал. Долго ли шёл караван, никому не приходило в голову подсчитывать. Ахмат дремал на верблюде, Хасан от греха подальше держался в стороне от Махмуда. Ветер немного стих, но не настолько, чтобы у путников появилась уверенность в безопасности. И наконец, сквозь пелену жёлтой пыли вдали что-то зачернелось.
– Кишлак! – закричал погонщик первого верблюда.
Махмуд проскакал немного вперёд, щурясь и вглядываясь в жёлтую бездну, и, увидя желанные и спасительные приметы жизни, прошептал:
– Слава Аллаху, спасены! Это Юлдыбай – середина пустыни. Хотя до Гирканского моря ещё далеко, но мы спасены. Здесь переждём бурю и пойдём дальше. Шомбой сюда не доберётся...
Дремавший на верблюде Ахмат очнулся. Махмуд подскакал к нему.
– Господин! – тяжело дыша и вытирая лицо платком, проговорил Махмуд. – Это Юлдыбай. Здесь можно передохнуть.
– Спешить надо! – только чтобы лишний раз досадить Махмуду, проворчал отдохнувший на верблюде Ахмат. – Шомбой небось на хвосте.
– Я что-то не пойму, господин! – изумился Махмуд. – Какой Шомбой? Никакой Шомбой уже не страшен. Сюда он дороги не знает и даже если и напал на наш след, то давно в песках зарылся.
– Ладно, – слезая с верблюда, снисходительно согласился Ахмат. – Передохнем...
Глава четвёртаяНасупилось небо над Русью чёрною тучею. Опять подул с востока леденящий душу человека свирепый ветер. Грянул сверху град смертоносный. Медленно, звериной поступью продвигался к истерзанной русской сторонушке, к Липецкому и Воргольскому княжествам, мучитель Ахмат.
...Мало было ему препятствий у берегов Гирканского моря. Персы татар не трогали – да и некому трогать: ильхан[19]19
Ильхан – титул монгольских ханов Ирана из династии Хулагидов.
[Закрыть] Абага был жестоко побит золотоордынским ханом Менгу-Тимуром. Спокойно было и в Ширване, и лишь в горах Большого Кавказа произошла заминка, чуть не стоившая Ахмату жизни. Непокорные аланы как снег на голову средь летнего дня налетели на его небольшой отряд.
Случилось это ранним утром при попытке перехода предгорного Сулака[20]20
Сулак — река на Северном Кавказе, впадает в Каспийское море.
[Закрыть].
– Что-то тревожно у меня на душе, – поглядывая по сторонам и вверх на горы, молвил Махмуд. – Враг прячется и хочет на нас напасть.
– Не говори ерунды! – гаркнул Ахмат. – Надо реку переходить. Где брод?
– Здесь перейдём Сулак, – указал Махмуд в сторону бурлящей реки, вскакивая на своего Арзака.
Конь привстал на дыбы, затанцевал, и весёлое, голосистое ржание звенящим эхом отдалось в горах. Конь Ахмата тоже заплясал в беспокойстве, кружа вокруг Арзака. Это взбесило Ахмата. Он резко задёргал поводья, закричал на Махмуда:
– Почему здесь? Утопить нас хочешь? Не видишь, что горы кончаются? Пойдём вдоль берега вниз, там перейдём речку! – хрипел он, с усилием натягивая поводья.
– Нет, господин, – возразил Махмуд. – Когда-то мы с твоим отцом были в здешних местах с ханом Беркаем. Усмиряли горцев. Если пойдём вниз, то завязнем в болотах. Там Сулак тяжело перейти будет. И даже если перейдём, то впереди Терек. Местность незнакомая, вокруг враждебные племена. Терек там не перейти. Двинемся вдоль гор, перейдём его выше и по степи в сторону Ергени[21]21
Ергени – возвышенность в Прикаспийской низменности в Калмыцкой степи.
[Закрыть]. Так все орды ходят, это самый безопасный путь.
– Ладно, будь по-твоему, – глядя исподлобья, кивнул Ахмат, отпуская поводья. Конь вырвался на волю и намётом пустился к реке.
Яркие лучи утреннего солнца, ударившись о вершины гор, брызгами рассыпались по ясному голубому небу, предвещая хорошую погоду. Отряд, осторожно ступая по камням, подошёл к берегу Сулака. Вода, скользящая по горному грунту, с шумом и свистом летела куда-то вниз, растекаясь там по равнине, приостанавливала свой бег и, как бы отдыхая от головокружительного спуска, уже спокойно, не торопясь добиралась до морских просторов.
– Река слишком быстра, – на редкость здраво рассудил Ахмат. – Верблюдов загубим. Добро на...
Он не договорил – в воздухе засвистели стрелы, и с гор стремглав, с гиканьем бросились на отряд десятка три горцев. С одного верблюда со стрелой в горле упал погонщик. Махмуд быстро развернул Арзака в сторону набегающих алан, прикрывая Ахмата от их натиска, приняв на себя сабельный удар двух нападавших, с ходу сразил первого из них. Но и Ахмат оказался проворным воином: косым ударом отсёк голову второму напавшему на Махмуда горцу. Завязался короткий бой, и внезапность и численное превосходство не помогли горцам. Более опытные и юркие татары, хотя и с потерями, выиграли сражение. Аланы же были почти полностью уничтожены, лишь несколько человек ушли обратно в горы. Заваленная трупами людей и животных небольшая площадка смердела кровью.
– Надо своих похоронить, – предложил Махмуд.
– Некогда! Некогда! – замахал руками Ахмат. – Аланы похоронят. Быстро берите верблюдов и оставшихся лошадей и переходим реку!
Он подстегнул коня, но у самой воды передумал и оглянулся:
– Махмуд! Не возись там. Погонщики сами справятся. Плыви вперёд. Ты ведь говорил, что знаешь брод...
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава перваяЗа сплошной стеной высоких деревьев не видно горизонта. Но видно, как над головой хмурятся, блекнут и умирают звёзды.
– Утро близко, – поёжился князь Олег Воргольский – влажная предутренняя лесная свежесть залезала под кафтан и дальше, в исподнее, обмурашивая кожу. Медленная езда по узкой лесной тропинке не давала согреться.
– Скоро ли доберёмся до Липеца? – спросил Олега князь Мстислав Карачевский.
– Ефим! – резко окликнул своего стремянного[22]22
Стремянный – княжеский придворный, «находящийся у стремени». В современном понятии – адъютант.
[Закрыть] князь Воргольский и Рыльский.
– Я тут, княже! – приостановив коня, отозвался Ефим.
– Что-то не туда нас, кажись, ведёшь! Не на Дубок ли?
– Да нет, княже, – виновато ответил Ефим. – Не на Дубок. Но, признаю, маленько сбились с дороги. На кремник[23]23
Кремник, детинец, кремль – фортификационные сооружения вокруг древнерусских городов.
[Закрыть] Воронеж попадём, а там до Липеца рукой подать.
– Ну хорошо хоть, что не на Дубок, – засмеялся князь Олег. – Далеко от Дубка до брата. А Воронеж и Липец рядом, поприща[24]24
Поприще – путевая мера длины на Руси, равная 20 вёрстам (чуть больше 20 км).
[Закрыть] не будет. А может, Святослав в Воронеже сейчас? Может, как раз на пир попадём?
– Да, в богатых местах вы со Святославом княжите, – позавидовал Мстислав. – Леса и поля полны дичины, в реках рыба стеной стоит, земля жирная, знатный хлеб растит, города червлены. Кра-со-га! – От нудной езды на зевоту потянуло Мстислава. – У тебя два богатых города: Рыльск и Воргол. У Святослава – Липец, Онуз и Воронеж. А у меня один Карачев да несколько крепостиц небольших, и на те зарятся братья с племянниками. Житья не дают, – вздохнул Мстислав. – Да, кстати, мы на Онуз поедем охотиться?
– В устье Матыры, – важно откинувшись в седле, молвил Олег. – Там всякого зверя навалом. Медведя хорошо бы затравить, медведь мне нужен для потехи, а в тех местах их много.
Лес неожиданно кончился. Восток нежными красками озарил лица путников. Солнце ещё пряталось в своём гнездовье, но из-под земли уже сыпало лучи на небо, пробуждая ото сна всё живое. Птицы начинали петь и щебетать вовсю. Вдали, в туманной синеве, смутно завиднелись купола деревянных церквей.
– А вон и Воронеж! – указал плёткой в сторону города Ефим.
Подстёгнутые кони пошли в намёт. Топот копыт возле кремника заставил отряхнуться от вязкой дремоты городских сторожей. Со стены крепости они, щурясь, вглядывались вдаль.
– Не-е, не татары! – сказал один.
– Да зачем с ентой-то стороны татары? – недоумённо вопросил другой сторож. – Татары со стороны Матыры ходють. А енто с Дону. Князья, могуть быть. Можа, брянскай аль воргольскай.
– «Брянскай аль воргольскай»! – передразнил первый сторож. – А можа, енто баскак летить?
– Можа, и баскак! – не стал возражать второй. – Однако беги, Мытарь, к воеводе... Да не баскак енто! Баскак прямо в Липец, к князю, обычно преть, а тут на Воронеж. Что ему на Воронеже делать? – И, помолчав немного, протяжно добавил: – Отряд ма-а-аленькой...
– Ладно, гляди внимательней, Прокоп Фомич, – спускаясь по лестнице вниз, наказал товарищу Мытарь. – Кто бы там ни был, баскак аль князь, всё одно воеводе доложить надо.
Покуда гости подскакали, прибежал и воевода:
– Где они?
– Да вон, Иван Степанович, – указал в сторону леса ещё не поднявшемуся на стену воеводе Прокоп. – Кажись, князь Олег Воргольскай.
– «Кажись, кажись»! – укорил воевода Прокопа. – Уже старый дружинник, а всё не можешь отличить ворога от друга. – Он приложил руку ко лбу козырьком и воскликнул: – Ну вот! Брат нашей княгини Агриппины Ростиславны Олег Ростиславич Воргольский! Открывай ворота! – закричал во всё горло.
Ворота распахнулись, и конный отряд вошёл в город.
Воевода поприветствовал князей и велел немедля послать доложить Святославу Ивановичу Липецкому о прибытии гостей.
– Постой, Иван Степанович, – перебил его Олег. – Мы чуток передохнем и сами поскачем в Липец.
– Нет-нет! – возразил воевода. – Князь гневаться будет. Пускай ему о вас доложат.
– Ну, делайте как знаете! – махнул рукой Олег.
Воронеж, древний, летописный, располагавшийся на крутом берегу одноимённой реки, был одним из городов Липецкого княжества. Южная его часть была защищена рекою, западная и юго-восточная – оврагом, а с севера был вырыт глубокий ров и возведена высокая насыпь, на которой из дубов сложили кремник. Любой противник раньше расшибал лоб о такую крепость, но для татар не существовало преград. Да и в отличие от остальных врагов татары обычно ходили на грабёж зимой. Замерзшие реки уже не были препятствием, потому и брали так легко они русские города и крепости. Заметим, что тот, старый Воронеж никакого отношения к нынешнему не имеет. Три крепости: Липец (Липецк), Воронеж и Онуз – находились недалеко друг от друга. Первый на берегу Липовки, второй, как уже сказано, на Воронеже и третий – недалеко от устья Матыры. Все эти города были разрушены первыми во время нашествия Батыева, но впоследствии восстановлены усилиями князя Липецкого и окрестного народа. И к описываемому времени, несмотря на тяжёлое бремя татарского ига, ощущение его постоянного дыхания, люди русские продолжали здесь жить, работать, строить и защищаться.
Овеянный древними преданиями и легендами Липец укрывался среди деревьев в могучем сосновом лесу на берегу быстрой и полноводной Липовки. Кроме речной защиты Липец имел естественные отвесные каменные обрывы на юге, западе и севере, которые охраняли его от нашествий врагов. А с пологой восточной стороны был насыпан земляной вал. Крепость, защищённая высокими дубовыми стенами, для многих была неприступна. Даже сам Бату-хан не смог её взять с наскока, пришлось потрудиться. Он, после убийства рязанского князя Фёдора, быстро пожёг и Онуз, и Воронеж. Липец стал первой преградой, где Батый встретил упорное сопротивление, но и он был взят и сожжён. И пошло пламя войны и разрухи по всей Руси Великой.
А потом – иго татарское. Однако жизнь продолжалась, и сидел князь Липецкий в своей крепости. Татары дерзки в набегах, но побаивались воронежских лесов. Здешние жители хотя и те же русские, но более смелы, выносливы, хитры и беспощадны к недругам. Видно, сказалось закаливание характера близостью Дикого Поля[25]25
Дикое Поле – то же, что Половецкая степь.
[Закрыть], и местный люд с незапамятных времён упорно сопротивлялся и хазарам, и печенегам[26]26
Хазары – кочевой тюркоязычный народ, появившийся в Восточной Европе после нашествия гуннов (IV – V вв.). В VII в. был создан Хазарский каганат (ханство) со смешанным хазаро-тюркско-иудейским населением. В конце VIII – начале IX вв. ставший царём Хазарии Обадия объявил государственной религией иудаизм. В пору наивысшего расцвета власть каганата распространялась на Поволжье, Прикаспий, Северный Кавказ, Крым и степные и лесостепные территории Восточной Европы до Днепра. Хазария вела активную внешнюю политику, много воевала, но в 60-х гг. X в. русский князь Святослав Игоревич совершил поход на Волгу и разгромил Хазарский каганат. В дальнейшем хазарами именовались потомки смешанного населения переставшей существовать державы.
Печенеги тюркоязычный кочевой народ, пришедший в Постойную Европу из Азии и вытесненный в XII в. из южнорусских степей половцами.
[Закрыть], и половцам, а вот теперь татарам. Когда липчан сильно не тревожили, они могли платить дань по поговорке: «Князю ли, хану ли, а платить всё равно надо». Но только бы не трогали, только бы давали возможность работать. И татары их не трогали, вернее, трогали редко. Побаивались, потому что жили здесь сорвиголовы, искусные в бою. Многие военные хитрости переняли они у степняков-разбойников, даже тактику охвата Чингисханову быстро уловили и усвоили. Не могут заманить их татары в ловушку, а липецкие витязи сами кого угодно и куда угодно заманят. И мастеровые здесь знаменитые, особенно в Онузе. Гончарным делом занимаются, свою посуду имеют. Кузнечное дело поставлено не как везде, тут кузнецы особенные. Много железа плавят (руда ведь на поверхности лежит), оружие куют, плуги, лемеха, наконечники на сохи железные. Свои купцы имеются, ведут торговлю и далеко ходят, с Киевом и Новгородом торгуют. И кабы не близость кочевников, расти и процветать этому краю, да вот незадача: только наладят свой быт липчане, как набег татарский. Поцепляются с ними, пустят кровушку свою и чужую, и айда в леса воронежские. Отсидят невзгоду – и опять за дело.
Святослав гордится своим народом: уж больно непокорный супостатам, перед татарами шапки не ломает. Да и немудрено – все мягкотелые убежали в ещё более дремучие леса – под Владимир, под Ростов Великий и дальше, на север. Здесь же остались только отчаянные, витязи, одно слово. Да и сам князь Святослав Липецкий в рот никому сроду не заглядывал, смело водил дружину на татар-разбойников. Дань давал, а как без дани? Но людей липецких не трожь. Голова полетит у всякого, кто поднимет руку на липчанина.
Исполин духом и телом князь Святослав. Светловолос, голубоглаз. Он не помнит Батыева нашествия, был совсем пелёночником во время той трагедии, и когда началась битва, его унесла в лес кормилица. Был ещё старший брат, говорят, татары увели в полон. И мать чуть не попала в татарский обоз, но спаслась. Слуга Тимофей ночью подкрался, перерезал верёвки и уволок матушку-княгиню. Но брата спасти не смог, мальчик в другом обозе был. Отец в том же бою погиб, защищая землю родную, да и матушка умерла вскорости. В тот тяжкий год она была ещё брюхата. Родила Александра и померла: не выдержала ужаса татарского, гибели мужа любимого и потери старшего сына, первенца Фёдора. После погрома татарского приезжал Великий князь Ингварь Рязанский. Подтвердил права на Липецкий удел за пелёночным князем Святославом и уехал.
Так и остался сирота Святослав Липецкий безо всякой поддержки. Воспитали и выкормили его и брата простые люди, уцелевшие после Батыева нашествия. Хорошо хоть междоусобицы никакой, никто на земли липецкие не зарился: ни черниговские князья, ни рязанские. Татар боялись, близко уж очень те кочевали. Да и татары сюда долго не заглядывали, думали, делать тут нечего. Так незаметно и оклемались, отстроили Липец на новый лад, Онуз и Воронеж восстановили. Липец – главный город удельного княжества. Онуз, как и прежде, город ремесленников, Воронеж – защита смердов[27]27
Смерды – земледельцы в Древней Руси.
[Закрыть] и другого люда окрестного. Да на счастье липчан, и баскак им добрый достался. Из монголов, крещёный несторианин[28]28
Несториане христиане, последователи Константинопольского патриарха Нестора (V в.), богословские взгляды которого получили широкое распространение в Азии, в том числе и Монголии и Китае. По некоторым церковным канонам несторианство близко к православию.
[Закрыть]. Дань брал, но не охальничал, не сильничал, всё делал по-божески. Одна печаль жгла князя Святослава: сынов не было. Родила жена Агриппина двух дочек, да и те померли в младенчестве. Вот и не рожает боле. У Алексашки с наследством дела немного получше. Дочь есть старшая, выдана замуж на сторону. Его жена Мария ещё и сына родила, Даниила. Когда вырос княжич, хотели сосватать за него муромскую княжну Авдотью, да не успели со сватовством, великие князья Александровичи перехватили. Александра Невского сына младшего, тоже Даниила, но Московского, женили на Авдотье.
Однако Данилушка Липецкий той женитьбе на муромской княжне московского князя обрадовался до беспамятства. Не хочет он брать жену со стороны, хоть и княжеского рода. Любит он дочь воронежского воеводы Ивана Степановича Гольцова Аксиньюшку. Оно, может, и к лучшему. Какая княжна пойдёт в княжество, где нужно всё время быть начеку, где жить приходится в постоянной опасности и тревоге? Здесь всякая женщина наравне с мужчиной умеет меч в руках держать, иначе не выжить. И сам князь Святослав женился на местной княжне Рыльской, не стал сватать невесту ни во Владимире Залесском, ни во Владимире Волынском, ни даже в Рязани. Воргол, Рыльск, Брянск и Карачев – что тебе Липец, Пронск, одно и то же. Вот и сватаются и кумуются здесь, на местах, под сабельный звон татарский.