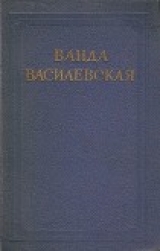
Текст книги "Том 4. Песнь над водами. Часть III. Реки горят"
Автор книги: Ванда Василевская
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц)
Он не признавался себе, что это как раз менее всего вероятно. Ему легче было думать, что она где-нибудь тут – на этих тысячах и десятках тысяч километров свободного от врага пространства. Работает где-нибудь в глубине страны, и, как только кончится война, они встретятся. Да, так и должно быть, потому что, если бы Соня… Нет, это было бы слишком жестоко, бессмысленно, несправедливо! Она где-нибудь здесь и думает о нем. И Стефек испытывал что-то вроде хвастливой гордости при мысли, что наступит время, когда он расскажет Соне обо всем пережитом за время войны, о капитане Скворцове, о своей работе на аэродроме. А Соня будет слушать, широко раскрыв кроткие темные глаза, будет слушать, как умеет слушать только она.
Но мысли тут же меняли направление. Все, что происходило не здесь, не на фронте, было призрачным, недействительным. Подлинными, реальными были только эти военные дни – фронтовая жизнь, работа на аэродроме.
И вдруг он еще раз, в тысячный раз за это время, все с тем же чувством острого счастья, которого не могла притупить привычка, подумал о себе.
Да будут благословенны солдатские сапоги, которые ему дано было надеть, чтобы вместе с миллионами солдат Красной Армии шагать по боевым дорогам. Да будет благословенна защитного цвета форма, при виде которой так неудержимо билось сердце любовью и восторгом, когда он впервые увидел ее там, в родном Полесье, и которую теперь ему дано право носить. Об этом он не смел мечтать в ольшинские дни, когда шепотом разговаривал с Петром, когда шептались в шалаше Семена над рекой. Как она была тогда далека, овеянная легендой, за непроницаемой стеной границы, охраняемой польским стражником. Вполголоса, чтобы не услышало непрошенное ухо, с тоской, с глубочайшей верой пели они тогда строфы песни, занесенной в Ольшины рабочим из местечка:
Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней.
А теперь он сам был солдатом Красной Армии. Даже в мечтах, даже в снах не мог он предположить, что это случится. Ни в Ольшинах, ни позже, когда в тридцать девятом году он шел неведомо куда, польский солдат, солдат разбитой, покинутой командующими, брошенной офицерами, беспомощно блуждающей по бездорожьям армии.
Ни тогда, когда он лежал в госпитале и ему казалось, что все уже кончено и никогда в жизни улыбка не появится на его губах и что это поражение, ужасное и неожиданное и тогда еще непонятное, сломало жизнь навсегда и что никогда не удастся оправиться от него, никогда он не будет жить и чувствовать, как раньше, как чувствует нормальный человек. Что уже никакая радость не будет радостью и никакое счастье не покажется счастьем и что навсегда останется чувство, будто несешь на плечах груз тысячи лет, и всегда будешь ощущать резкий запах гари, которым пропиталась, казалось, вся страна, и сладковатый, удушливый смрад трупов, которых некому похоронить. Но оказалось, что есть еще молодость и есть радость – и есть счастье. Тот день окончательно вычеркнул, перечеркнул раз и навсегда ядовитую боль, притаившуюся в глубочайших тайниках сердца, – тот июньский день, когда капитан в военкомате внял его страстным мольбам и принял его в Красную Армию. Ему хотелось тогда целовать выданные ему кирзовые сапоги, которые были велики на его ногу, и ременный пояс, и винтовку.
Никто, даже этот капитан, не мог бы понять, чем это для него было. Ведь они-то шли в свою армию, служили в своей армии. Но он, Стефек Плонский, не мог об этой армии и мечтать, и вдруг наяву, не в мечте, попал в нее! Его приняли в прекрасную армию свободы и мира, в армию, которая победит фашизм. Это он знал твердо, чувствовал в самые трудные, самые горькие дни. И под Тернополем, и под Киевом, и под Харьковом, на путях отступления, когда машины увязали в липкой грязи, когда аэродромы превращались в болото, когда кругом пылали деревни. Он твердо знал, что придет день, когда эта армия двинется на запад. То не была вера. В самой вере таится зародыш неверия. То не была надежда – в самой надежде таится возможность сомнения. Он попросту знал, что так должно быть. Если бы его спросили, на чем он основывает свою уверенность, он с трудом мог бы ответить. Нельзя же считать это аргументом – что в противном случае наступит конец света. Наступит конец – ну что ж! – через миллион лет или сейчас, теоретически это мыслимо. Нет, этого нельзя было объяснить. Он ведь не смог бы назвать количества запасов, людских резервов, не смог бы назвать числа не только дивизий, но даже армий, сражающихся на фронте. Попросту – знал. Так, как знал, что после зимы приходит весна, что после ночи наступает утро. Здесь незачем было мудрствовать. И так же, как он, были в этом уверены и все другие его товарищи. Они знали, что, быть может, придется брести по колена в собственной крови, километр за километром ползти по грязи, замерзать в снегах, отступать, падать и вновь подниматься. Но в конце концов все равно придет победа.
Это знал капитан Скворцов, готовящийся к своему тысячному вылету. Это знали солдаты в строю, и раненые в госпиталях, и крестьяне, здесь, у самой линии фронта, где в любую минуту могли сгореть, обратиться в пепел, взлететь на воздух их домишки.
Это знали дети, пасущие коров на склонах пологих холмов и подозрительно поглядывающие на майское небо, прислушиваясь, не нарастает ли вдали рокот вражеского самолета.
Это знало население городов и местечек, покинутых армией в тяжелые дни отступления.
Это знали все на сражающейся, истекающей кровью, на несокрушимой советской земле. И в этом сознании они черпали свою силу, черпали то воодушевление, которое наполняло их сердца в трудные, тяжелые дни. Да, они знали: он наступит, наступит желанный день!
И вот он наступает. За вздрагивающей линией горизонта ждет освобождения земля, ждут освобождения люди. Их освобождение близко. Грозной волной хлынет наша армия снова на Харьков, на Киев и дальше, дальше, до Вислы, и еще дальше, неся свободу и счастье. А вместе с ней пойдет и он – Стефек Плонский, теперь уже сержант Красной Армии, чтобы до конца выполнить свой долг.
Он вздрогнул – так неожиданно раздался над ним голос командира полка:
– Что, не видать еще? Уснул, а?
– Нет, товарищ гвардии полковник. Не видно.
– Скоро должны быть…
На аэродроме замелькали тени. Люди вышли из своих землянок. Волку передалось общее ожидание. Он сидел все в той же позе, с виду спокойный и неподвижный; но, положив ему руку на спину, Стефек почувствовал, что животное непрерывно дрожит мелкой дрожью.
– Спокойно, пес, спокойно, скоро прилетит!
Высоко в небе вдруг сверкнула, покатилась падучей звездой, рассыпалась тысячами искр ракета.
– Летит, летит!
Теперь вдруг ожил расположенный по соседству, на склоне холма, ложный аэродром. Там загорелись прожекторы, раздался шумный говор смешанных голосов, зажигалось и гасло огромное «Т», взвивалась вверх тонкая струйка пурпурных пуль.
– Стараются ребята, – рассмеялся кто-то. Но Стефек не смотрел в ту сторону. Он впился глазами в звезды, отыскивая среди них движущуюся точку. Там, вверху, снова вспыхнула ракета. Доносился шум мотора.
– Свой. Дайте ему прожектор, выложите «Т»!
Аэродром засиял ослепительным белым светом. Небо вдруг стало совсем черным. Из этой черной бездны быстро спускалась светящаяся белая точка, и вот уже плавным движением приземлился на посадочной площадке самолет. Бегут техники. Так, играючи, не сядет никто, кроме капитана Скворцова, – словно посадочная площадка выложена бархатом, а самолет лишен веса. Волк с радостным визгом бросается к летчику, устало стаскивающему с головы шлем.
– Все в порядке. Поторапливайтесь, ребята.
Самолет катят к опушке. А в небе уже снова ракета. И снова суета на ложном аэродроме, и снова замирает сердце: свой или враг? Он может появиться внезапно, может даже подать правильные сигналы – и вдруг ударить сверху, как коршун, разбомбить, разнести зеленый лужок, который так ласково ложится под колеса самолета. Кто же таится во мраке звездного неба? Кто описывает в нем круг – свой или враг?
Ракета.
– Давайте прожектор, – приказывает командир полка. В ослепительном голубовато-белом свете неожиданно близко возникает черный силуэт самолета. И снова спешка. Оттащить к опушке, расчистить место для следующего. – Поживей, поживей! – нетерпеливо подгоняет Скворцов. А Стефек и так работает быстро, размеренно, привычными движениями. Подлить бензина. Проверить мотор. Одновременно снизу к самолету подвешивают бомбы. Техники работают, но летчикам все кажется, что дело не подвигается. Майская ночь коротка, рассвет наступает быстро, растворяя тьму в золотисто-розовом свете зари. Надо спешить, чтобы успеть еще раз. К тому времени, как возвращается третий самолет, капитан Скворцов вылетает во второй раз. Один за другим движутся с опушки зеленые и белые огоньки. Один за другим самолеты вторично летят за линию фронта к Харькову, на Донбасс, на украинские земли, еще страдающие под оккупацией врага. Дежурный на старте ровным, сухим голосом рапортует в телефонную трубку:
– Желтая пятерка в воздухе.
– Голубая двойка…
– Черная шестерка поднялась.
Стефек отер потный лоб. В воздухе погас последний огонек. Умолк, утонул во мгле ложный аэродром. Все ушли, а они снова остались вдвоем – человек и собака, засмотревшиеся в далекий горизонт, во вьюгу звезд, в необъятную даль.
И опять поют соловьи и пахнет черемуха. Как горько, что нельзя полететь вместе с ним! Отмечать на карте дороги там, в самолете капитана. Или, сидя с наушниками, прислушиваться к сигналам, следя одновременно, не появится ли, не вынырнет ли из темноты неприятельский самолет, и медленно поворачивать пулемет настороженным, подстерегающим движением. Почувствовать толчок машины, когда бомба падает на цель. Быть там, где красной, сверкающей змеей вьется линия фронта, и там, где по окутанным ночной темнотой дорогам спешат к фронту неприятельские колонны. Быть над целью – и видеть, как безошибочно падает снаряд в намеченное, обозначенное место. Как вырывается вверх победным пламенем удар, направленный в сердце врага.
Но нельзя было лететь. Ведь он был всего лишь техником. Ведь он был только на аэродроме, обслуживал самолеты, а не управлял ими.
Надо было ждать здесь, в росистой траве, с замирающим сердцем, со страхом и радостью, – когда, наконец, заметишь огонь ракеты.
Решается человеческая судьба. Доверенная машине, воздушным течениям, обманчивой майской темноте, благоухающей ночи. Тысяча смертей таится в тайниках теплой майской ночи. В черемуховую ночь, в соловьиную ночь выискивает в темноте предательское жало рефлектора. Выискивает дышащая ненавистью пуля. Из-за маски очков холодным взглядом высматривает противник. Коварно ловит звукоулавливатель огромным металлическим ослиным ухом далекий рокот. Тысячей глаз смотрит, высматривает жадная к добыче смерть. Поймали рефлекторы – висит в воздухе маленький самолетик, ослепленный блеском. Сверкает так, как в солнечном свете, пробивающемся сквозь щель в ставне, дрожит серебристая маленькая моль. Вырывается справа и слева свет рефлекторов, как голубые мечи. Скрещиваются в темноте. Повисает в петле смертельных объятий самолет. Струи пуль пронизывают небо. Пламя. Серебряный мотылек превращается в пучок пламени, в красный, горящий шар. Он летит вниз, как комета, тянет за собой хвост огня и черного дыма, даже в темноте отчетливо видимого на фоне пламени.
Нет, нельзя об этом думать.
Милое, рябоватое лицо капитана, склонившееся над штурвалом. Перерезанный двумя морщинами лоб. Зоркие глаза смотрят в темноту. Исправно действует мотор, самолет идет прямо на цель. Уже – летят снаряды вниз, взрываются ослепительные кратеры. Светлым, почти белым огнем горят цистерны с бензином. А теперь самолет поворачивает, штурман ведет его обратно на аэродром.
И вот – снова выбегают люди из землянок. Ракета…
– Опять Скворцов! – говорит полковник. Разумеется, это его, Стефека, капитан. Зеленый и белый огоньки описывают плавный круг. Самолет приземляется.
В свете прожектора Стефек ясно видит усталое лицо летчика. Оно постарело за эти несколько ночных часов. Но капитан касается пальцами кожаного шлема.
– Капитан Скворцов просит разрешения вылететь третий раз.
Командир смотрит на часы. Короткая майская ночь вскоре кончится. Он что-то подсчитывает в уме.
– Если успеете вылететь в два тридцать – летите.
То есть через десять минут. Капитан Скворцов мягким, просящим голосом говорит лишь одно слово:
– Степа…
Но большего и не надо. Теперь все зависит от Стефека. Десять минут. Это не много. Прежде на это требовалось по крайней мере пятьдесят. Но теперь техники действуют, как машины, в которых бьется умное, страстное сердце. Масло, бензин, бомбы. Два тридцать – и самолет выходит на старт. Едва он успевает растаять в воздухе, где-то высоко на бархате звездного неба вспыхивает ракета. Возвращаются остальные. Но эти уже не успевают вылететь в третий раз; это удалось только капитану Скворцову, Стефекову капитану.
Летчики вылезают из кабин тяжелые, будто сонные. Усталой походкой идут от самолетов в лес, так изменила их одна эта ночь. Вечером они смеялись и пели в лесу, поддразнивали повара, были молодыми парнями. Сейчас и не поверишь, что им по двадцать четыре, по двадцать пять лет. Посеревшие, измученные лица. Два вылета, четыре перелета через линию фронта, два раза над целью. В страшнейшем напряжении всех сил, всей воли, всех нервов прошла майская ночь. Сейчас наступает разрядка, Тяжелой походкой идут смертельно утомленные люди. Вечером они снова станут молодыми, веселыми ребятами. Сейчас это люди, которые в течение нескольких часов играли в прятки со смертью. За эти несколько часов они пережили годы, если измерять время нормальной жизнью и переживаниями.
…Меркнут звезды. Еще темно, но на востоке уже виднеется красноватая полоса, мрачная и зловещая. Не верится, что через час-полтора там встанет алая, сияющая утренняя заря. Сейчас это лишь узкая багровая полоска. И хотя звезды уже медленно тонут в глубине неба, на мгновение делается как будто еще темнее.
Где-то в лесу защебетала птица. С лугов ответила другая. Мрак редеет. Начинается сероватый рассвет. Но вот багровая полоска постепенно превращается в розовое сияние. Затем по краям ее появляется золотистая кайма.
Высоко вверху мощный, грохочущий рокот моторов. Это возвращаются на свои базы бомбардировщики дальнего действия.
Дрожит Волк, весь мокрый от росы. Снова появляется командир полка.
– Не видать?
– Нет, товарищ полковник, – с трудом отвечает Стефек. Полковник еще раз смотрит на часы. Да, уже поздно. При дневном свете нельзя пролетать над линией фронта. Тяжелый, не обладающий большой скоростью самолет Скворцова не может ускользнуть от шныряющих всюду «мессершмиттов».
Полковник уходит тяжелой походкой утомленного человека. Стефек смотрит ему вслед. «Он тоже беспокоится», – думает Стефек. Ведь он отвечает за всех летчиков, за все машины. Ежедневно ему приходится посылать через фронт людей, которые ему ближе родной семьи. И ежедневно он ожидает их – с виду спокойный. Но вот не может усидеть в землянке, выглядывает, выходит, десятки раз запрашивает по телефону. «Он так же нервничает, как и я, – думает Стефек. – Только я не умею владеть собой, а он умеет. И я беспокоюсь, конечно, обо всех, конечно обо всех, но прежде всего о Скворцове. А он обо всех одинаково. Хотя, кто знает… Кто знает… Он тоже не показывает этого, но ведь не может быть, чтобы он не любил капитана больше, чем остальных. Это же его лучший летчик. И не только потому».
У полковника суровое, с виду холодное и замкнутое лицо. Но известно, что он вовсе не такой. Ночью и днем, ночью и днем каждый из них чувствует на себе его нежную, всегда чуткую заботу, его доброту, его внимательный, умеющий все прочесть в человеческом сердце взгляд.
Ох, в те сентябрьские дни тридцать девятого года… Как жадно хотелось тогда Стефеку увидеть такого начальника, как жарко призывало его сердце именно такого офицера! Но его не было на пылающих, потерянных, страшных сентябрьских дорогах. И Стефек тщетно пытался отыскать в памяти хоть одного командира среди тогдашних польских офицеров, который оставил бы по себе хоть какое-нибудь воспоминание. Нет, таких не было. Никто не думал, куда ведет дорога, по которой бредет истомленный, отчаявшийся солдат, где он приклонит голову, что он будет есть. Конечно, офицеры были. Капитаны, поручики, подпоручики. Но они были не командирами, а лишь такими же заблудившимися в черной ночи отчаяния солдатами.
Да что вспоминать! Не в этом сейчас дело… Где капитан Скворцов?
«Если бы я так не торопился, – думает Стефек, – если бы не поспел к двум тридцати, он был бы здесь, как все другие. Не надо, не надо было ему лететь в третий раз!»
Снова рокот моторов. Это уже летят на линию фронта дневные самолеты. А капитана Скворцова все нет!
Занимается день, серебристый, розовый, сияющий. Трава поседела от росы, птичий гомон наполняет черемуховые заросли, купы осин, ольховые чащи. А капитана Скворцова нет.
– Степа, завтракать! – кричат ему с опушки техники. Стефек даже не поворачивает головы.
На старте еще раз появляется полковник, но уже ни о чем не спрашивает, а лишь смотрит на часы. Хотя ясно, что ждать уже собственно нечего… Нет, нельзя об этом думать. Через месяц будет год, как летает капитан Скворцов. Двадцать второго июня годовщина – в первый день войны совершил свой первый полет лейтенант Скворцов. Трижды с тех пор попадал в него над целью вражеский снаряд – и каждый раз летчик все же дотягивал самолет до своего аэродрома. Тысяча вылетов – и всегда благополучно. Не может быть, не может быть…
И как раз сейчас, в такую чудесную ночь. Нет, не может быть…
– Чего он там сидит? Уведите его, пусть поест и идет спать, – слышит Стефек за своей спиной. И тотчас отвечает голос полковника:
– Нет, оставьте его.
Значит, и он не хочет думать о несчастье. Значит, и он верит, что самолет еще может вернуться. Тяжело занести в книгу, лежащую на столе в землянке: «Летчик капитан Скворцов не вернулся с боевого задания». Нет, нет, это всегда успеется… И Стефек не поворачивается, будто ничего не слышал. Зло берет – даже пес его ждет, даже пес не двинулся с места, а они хотят, чтобы он перестал верить, чтобы он ел и спал, перечеркнув жизнь того. Нет, он не уйдет отсюда, пока капитан не вернется!
Поют птицы в лесу. Где-то над полями, неподвижно повиснув в воздухе, звенит, захлебывается песней жаворонок. Обсыхает роса, которая еще мгновение назад играла огнями, преломляя в каждой капле крохотную радугу. Теперь видно, как богато убралась черемуха белыми кистями. Луг и роща зеленеют той первой, чистой, словно освещенной изнутри зеленью, которая уже не повторится, уйдет вместе с маем.
В голове вертится неизвестно откуда приблудившаяся строфа из какого-то случайно прочитанного в детстве стихотворения:
Ехали с запада,
На росе еще остался след.
О конь, конь вороной мой,
Перед нами далекий свет.
Он не помнит, что дальше, не может уловить смысла этих строк и о ком в них идет речь. И все же в них веет несказанная печаль, звучит что-то неотвратимое, чего не минуешь, не избежишь.
След на росе… Всего несколько часов назад по этой траве шел капитан Скворцов и оставил следы на росе, только их не было видно в потемках. Теперь роса исчезла, выпитая солнцем. Нет росы, и, быть может, нет и капитана. И никакой далекий свет не открывается перед ним. И не был то вороной конь, а бомбардировщик БС, желтая пятерка, желтая пятерка капитана Скворцова.
Стефек понимает, что ждать уже нечего. Линия фронта близка. Если самолет не перелетел через нее ночью, под защитой мрака, значит случилось несчастье. Но бывают же чудеса – взять хоть бы историю самого капитана Скворцова. Три раза он спасался, три раза возвращался на подбитой машине. Не погибал, не сгорал в воздухе, не падал на неприятельской территории, не попадал в руки врага. Может, и теперь… Вдруг явится и с обычной добродушной усмешкой скажет: «Что, Степа, наверно уже беспокоился?»
…Снова шаги, торопливые шаги человека, спешащего с новостью.
Стефек вскакивает. Вскакивает и Волк.
Идет командир полка. «Он еще тоже не ложился», – благодарно думает Стефек. И тотчас же сердце начинает стремительно биться: лицо полковника спокойно и радостно.
– Звонил капитан Скворцов. Приземлился у соседей, прилетит к вечеру. Иди теперь спать. Линия была повреждена, он не мог позвонить раньше.
Стефек идет, но Волк не трогается с места. Стефек его зовет, но пес лишь смотрит на него, и в его глазах светится упрек.
– Пойдем, пойдем! Капитан жив и здоров, он прилетит позже, понимаешь?
Волк, склонив голову набок, снова садится на прежнее место, устремив глаза туда, где ночью виднелась вздрагивающая линия фронта. Он не уйдет отсюда, пока его не позовет сам капитан. И Стефек решает, что его завтрак все равно уже, наверно, давно простыл. Надо сперва принести поесть собаке.
Шелестит под ногами трава. В кустах нежным голубовато-сиреневым цветом расцветает барвинок – маленькие цветы, похожие на спокойные, наивные детские глаза. На лугу широко раскрылись золотые солнца одуванчиков. И над всем этим бездонное небо, ясное, кроткое, без единого облачка, без единой тучки. Захлебывается от счастья птичий хор. Где-то в глубине зеленой чащи, впервые в этом году, закуковала кукушка.
Но стоит хорошенько вслушаться – и услышишь другую жизнь: по земле несется глухой, таинственный гул, глубокий и непрестанный. Это там, на линии фронта, гремят орудия.
Волк поднимает на Стефека влажные умные глаза и равнодушно отворачивается от миски.
Тихое повизгивание, словно детский плач, вырывается из его горла.
– Капитан Скворцов придет, скоро придет, понимаешь?
Слабое повиливание хвостом. И снова этот внимательный, настороженный взгляд, будто собака напрягает все силы, чтобы понять, что ей говорят.
– Ты же видишь, я смеюсь. Если бы что-нибудь случилось, разве я стал бы смеяться?
Волк помахивает хвостом. Короткий, бодрый лай.
– Ну, видишь, вот ты и поверил. А теперь ешь.
Но есть Волк не хотел. Он потерся у ног Стефека и снова вернулся на свое место, насторожив уши и пристально всматриваясь вдаль. Но это уже не была поза безнадежности. Теперь он ждал, ждал жадно, с пылким нетерпением, от которого напрягались все его мускулы.
– Ну ладно, не хочешь, не надо! – сказал, наконец, Стефек. Он лишь сейчас почувствовал страшную усталость. – Сиди себе здесь до вечера. Захочешь есть, так миска полна.
Теперь можно спать. Стефек тихо проскальзывает в длинную комнату в новом деревянном бараке. Белая постель, теплое одеяло. Можно укрыться с головой и спать, спать. Всюду тихо, ничто не нарушает покоя людей, которым надо отдохнуть, чтобы ночью им не изменили глаза, не дрогнула рука, не ослабли мускулы.
За окнами сияет ясный день. Но шторы, слегка колеблемые теплым ветерком, смягчают свет, и человек проваливается в сон, глубокий, пушистый и темный.
А во сне все сразу меняется. Благоухает жасмин, шумит, колышется озеро. Он тихонько, осторожно прикрывает двери. Какая роса на траве. У мостков ждет Соня. Как хорошо идти по тропинке, обняв Соню. Высокая мокрая трава бьет по ногам. С реки, с болот, отовсюду слышится лягушечий оркестр. Ничего не говорить, а только идти вот так под золотым от звезд небом, чувствуя тепло Сониной руки.
«Но зачем я так осторожно выбирался из дому? – удивляется Стефек. – Ведь мы уж должны были пожениться с Соней, почему мы еще не поженились? Странно, ведь мы сговорились… но когда это мы сговорились?» Из пушистой глубины сна вдруг слышится словно подсказанный знакомым голосом ответ. В июле – ну конечно, в июле…
И сон сразу начинает терять свою мягкую, ласковую пушистость. Сквозь него приходится продираться, как сквозь густые заросли, что-то мучительно в этих зарослях отыскивать.
– Как же так? – спрашивает он Соню. – Ведь мы должны были в июле пожениться?
Но Соня уходит, уходит, словно не слышит, как Стефек зовет ее. Даже головы не поворачивает. Нет, лучше проснуться – во сне он затерялся в непонятной печали, в беспричинной скорби, в пронизывающем страхе. С трудом, с усилием Стефек вырывается из сонных потемок.
Сквозь белые шторы падает рассеянный солнечный свет. Мощный храп доносится с койки у противоположной стены. Все спят; еще очень рано, судя по солнцу. Можно бы еще уснуть. Но страшный сон притаился где-то поблизости и только ждет, чтоб он снова заснул. Теперь уж наверняка приснится что-то очень дурное. «Но что же такое мне снилось?» – вспоминает Стефек. Ведь ничего страшного не было. Он шел с Соней Кальчук по лугу в Ольшинах, где-то на дне сердца еще осталась сладость этого сна. Почему же он так хотел проснуться? Ах да. Потом Сони не стало, она уходила, уходила все дальше, пока не исчезла, пока не развеялась, чужая и далекая, будто позабыла о его существовании.
И сердце снова сжимается от страха, не объяснимого тем содержанием сна, которое можно выразить словами. Но там было что-то, чего словами выразить нельзя, и именно это было страшно, заставило его вырываться: тревога, заполнившая даль, в которую уходила Соня. Пугливое мерцание воздуха, и гнет на сердце. Нет, лучше уж не спать. Стефек встал осторожно, чтобы не разбудить кого-нибудь. Хотя, казалось, крепко спавших не разбудили бы и орудийные выстрелы. После тяжелой ночи они спали глубоким сном, никто даже не шевельнулся. Только радиотелеграфист Стрелков под окном бормотал, как всегда, что-то сквозь сон.
Двери коридора открылись прямо на зеленую поляну, на солнечный майский день. Царила тишина – видимо, все спали. По узкой тропинке, извивающейся меж кустов, он стал спускаться к озеру.
Под деревьями, почти невидимая в их чаще, стояла изба. Кудлатая белая собачонка выскочила за ворота и дружелюбно потерлась о ноги Стефека.
– Здравствуй, Тявка…
Собачонка радостно заскулила. Опершийся о плетень крестьянин кивнул головой:
– Добрый день. Ну, как там ночь прошла, ничего?
– Все в порядке.
– Спать неохота? Денек-то какой! И вправду спать не захочешь. Заходите-ка в сад.
Под старыми кудрявыми грушами стояла подгнившая скамья. Стефек присел рядом с хозяином, который свертывал себе козью ножку. Белые утки ныряли у самого берега озерка в поисках пищи.
– Вон как бьют! Всю ночь слышно было, а теперь опять…
Сквозь солнечную тишину дня, сквозь жужжание пчел, вьющихся над мелкими, едва расцветшими цветочками, сквозь щебетанье птиц, которых еще не сморило полуденное солнце, доносился низкий глухой гул, будто раскаты отдаленного грома. Можно было подумать, что где-то за холмами, поросшими зеленым лесом, собирается гроза. Но небо было безоблачно.
– Н-но! – донесся с поля веселый возглас.
– Это кто же пашет? – удивился Стефек.
– Солдаты. Я пахать и не собирался, да и лошади у меня нет. Так и остался этот клочок, что у воды. А они вот с лошадью пришли, захотелось ребятам вспахать. Теперь уж посею – просо, что ли.
Небольшое поле полого спускалось к озерку. Плуг проводил ровные темные полосы по заросшей травами целине. Высокий солдат, налегая на чапиги, вел плуг; другой солдат погонял гнедого.
– Стосковались ребята по крестьянской работе… Пойдем посмотрим, что ли?
Высокий солдат обернулся на звук шагов и остановился. Стефек увидел крестьянское, дочерна загорелое лицо и на нем яркие голубые глаза.
– Закурим? – Старик вытащил кожаный кисет с махоркой.
– Отчего не закурить?
Они свернули по козьей ножке. Голубые глаза солдата блуждали по распаханному клочку земли.
– Ох, и земелька тут, земелька… Золото, а не земля. А ты, отец, так ее оставил…
Хозяин пожал плечами:
– Куда денешься? Лошади нет. Да и что там, этот клочок!
Солдат наклонился и, взяв в руку горсть земли, медленно размял ее.
– Ишь какая черная. У нас не такая.
– А ты сам откуда? – спросил Стефек.
– Я-то? Я из Белоруссии. У нас все больше песок… Ну все-таки картошка и лен и у нас растут, еще как растут! А все же не та земля… А ты ее бросил, – еще раз горько попрекнул он старика, окидывая его голубым взглядом. На коже, туго обтянувшей скуластое лицо, выступили мелкие капельки пота.
– К вечеру, а то и раньше, вспашем. Просо будешь сеять?
– Да уж, видно, просо… Что еще сейчас посеешь? А проса у меня осталось в мешочке, так, чуточку. Можно посеять.
Солдат взглянул на небо. Солнце поднялось уже высоко.
– Ну-ка, Володя, давай кончать. Эх, кабы нам еще и посеять удалось…
– Что ж, сегодня не успеете, завтра можно, – заметил крестьянин. Солдаты улыбнулись враз и какой-то одинаковой улыбкой.
– Кто знает, где мы завтра будем? По всему видать, что и ночевать здесь не придется, вечером дальше двинемся. – Голубоглазый махнул рукой на запад. – Давай, давай погоняй, Володька! Да, хорошо бы еще успеть просо посеять…
Старик вздохнул.
– Вот она, солдатская доля! Сегодня здесь, а завтра – кто его знает, где придется голову приклонить… Вот и мои сыны тоже где-то воюют, и они небось по работе соскучились. Да, не та нам работа этой весной выпала, не та! Вон, гляди, – солдаты, завтра, может, от них и следа не останется, а пахать им все одно охота. Работящий у нас народ… Сколько их еще за эту землю головы сложит!..
Он поднял на Стефека серые глаза, окруженные сетью морщин.
– Жалко мне вас, солдатики, жалко, а что поделаешь? Война. Только не тянули бы, скорей бы кончали. Вон у меня один сын еще дома сидит, ничего парень, как следует быть. А не берут – молод, говорят. Неправильно.
Стефек удивился.
– Ведь двое ваших на фронте?..
– Двое… А как же, двое… Но мог бы быть и третий… Все-таки одним солдатом больше.
Он поднял и растер в пальцах комок земли.
– Если уж на то пошло, – я так думаю, – времени-то у нас мало. Землю надо пахать, хлеб сеять, дома строить. Вот и моя избушка уже недолго постоит. О новой следовало бы подумать. Так нечего тянуть – скорее надо гада выгнать и за свое браться. Так пусть бы уж и этого третьего взяли. Мы народ трудящийся. Эх, какая уже жизнь была, какая жизнь… А тут – на тебе!.. Чем скорее прогонят, тем лучше.
Он снова наклонился и взял комок земли. Растирал ее пальцами.
– По мне, я бы всех брал. И мне вон говорят – стар, мол, не годишься. Ну ясно, не молод, еще в гражданскую войну воевал, да и тогда уж не сопляком был… Однако пригодился тогда – пригодился бы и сейчас. Воевать мы умеем, русский солдат всегда умел воевать, а теперь и подавно… Но народ мы миролюбивый… Нам бы пахать да строить, сады садить, дороги прокладывать. Так уж хочется, чтобы поскорей, поскорей… А сколько добра пропадает, сколько времени даром по ветру уходит… Эх, прогнать бы антихриста поскорей и снова своей жизнью зажить… Что ж, я стар, действительно стар, а как же вам, молодым?







