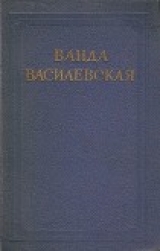
Текст книги "Том 4. Песнь над водами. Часть III. Реки горят"
Автор книги: Ванда Василевская
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц)
Темные борозды ровно вытягивались одна за другой. Гнедые бока лошади потемнели от пота. У берега с хлюпаньем ныряли белые утки, гладкие и лоснящиеся. За спиной Стефека послышался вздох. Он обернулся. Жена старика стояла за ними, глядя на пашущих. Руки ее были сложены под фартуком, из-под завязанного под подбородком платка виднелись гладко причесанные седые волосы.
– Что, мать, правду я говорю или нет?
Она еще раз вздохнула. Блеклые глаза скользнули с пашущих солдат на сверкающее золотом озеро, на весело зеленеющий лесок на том берегу.
– Правду-то оно правду, – сказала она тихо. И еще тише, словно про себя, прибавила: – А от Ивана второй месяц писем нет.
– Нет, так будет, – сурово перебил старик. – Не один Иван. Понятие надо иметь… Время такое пришло.
– Да я ведь только так, – робко защищалась женщина. И тут же обратилась к Стефеку: – Может, молока напьетесь? Холодное, в погребе стоит.
– А ты не спрашивай, давай. Конечно, напьется.
Стефек смотрел на ее небольшие загорелые руки, наливающие молоко в кружку. У кого это были такие же? Ну, конечно, у старой Петручихи, у лучшей пряхи в Ольшинах. И снова вспомнился дурной сон, который он сегодня видел. Стефек полол плечами. Глупо думать о снах. Ведь все в порядке: и капитан Скворцов вернулся, и Соня, наверно, где-нибудь здесь, в Советском Союзе, вместе с другими эвакуированными.
– Теперь, наверно, поляки пойдут помогать нам, – услышал он голос старика.
– Какие поляки?
– Да вот эта ихняя армия, что еще осенью организовалась. Я по радио слышал, как их генерал говорил. По-польски говорил, так я не все понял. Ну, а теперь-то они уж небось готовы. Вы не слышали?
Вся кровь бросилась Стефеку в лицо. Он наклонился, притворяясь, что подтягивает голенище.
– Нет… Не слышал.
– А интересно. И в газетах ничего не писали?
– Что-то не заметил.
– Оно, конечно, не так их и много, ну а все-таки какая ни есть подмога. У нас тут говорили, поляки неплохие солдаты. Да что там, вы ведь сами поляк – лучше знаете, а я вам тут рассказываю…
Кровь снова отхлынула у Стефека от сердца. И почему он краснеет от этих вопросов, он, сержант Красной Армии? Почему ему приходится лгать? Но как, какими словами сказать этому старику, считающему неправильным, что у него не берут третьего сына, что его, Стефека, соотечественники и не собираются «давать подмогу»? Что большинство их уже убралось подальше отсюда, в Иран, за тысячи километров от фронта. Как объяснить ему, что это были за люди и чего от них можно было ожидать?
«И что у меня с ними общего?» – внутренне бунтовал Стефек против этой невольной краски в лице, против того, что он не смеет поднять глаз, против того, что чувствует себя как бы ответственным за тех, что ушли, не желая слышать грохота орудий, от которого содрогается здесь земля, не желая видеть пылающих городов и деревушек, не желая видеть пути на запад, хотя это единственный путь в Польшу.
Какое ему до них дело? Он-то ведь ни минуты не колебался. Он-то знал, что его место здесь, в рядах армии, которая по-настоящему сражается с врагом. К черту их, он не желает о них думать!
Насвистывая, он шел в гору, к бараку. Нет, трудно было даже подумать, что идет война. Зеленеют пригорки на солнце. Кто может догадаться, что в этой зелени дремлют ряды самолетов, ожидая ночной поры, когда темнота укроет полянку? Что там, под деревьями, притаилось длинное низкое здание, в котором сейчас спят летчики, – пока не наступит вечер и по телефонным проводам не передадут боевое задание…
Но нет. Глухой стон, подземный гул был слышен непрестанно. Не крестьянин пашет полоску земли над озером, а солдаты в форме. Высоко в воздухе слышно тихое жужжание – летит самолет. Чужой или свой? Пока еще неизвестно. А Соня, наверно, где-нибудь на Урале, в Башкирии или Казахстане. И сейчас надо думать только о самолете, о желтой «пятерке» капитана Скворцова.
Глава VIЗима в Ольшинах в этом году была долгая и жестокая. В сильные морозы раздавался громкий, словно выстрелы, треск деревьев. Под пышным снежным покровом озеро простиралось бескрайной равниной; снежная пелена скрыла береговой ольшаник и лозняк. Снег засыпал с верхом низкие деревенские хлевы, так что приходилось прокапывать к ним глубокие ходы, похожие на туннели. Издали трудно было догадаться, что над озером, в развилке реки, прикорнула деревня. Только в полуденную пору кое-где виднелись тонкие струйки дыма, казалось поднимающиеся прямо из снега, и это был почти единственный признак жизни. Но и дымков было немного, дрова приходилось беречь, – с осени их не успели наготовить, сколько надо, а сейчас ни один смельчак не решался отправиться в лес. Снегу навалило выше головы – недолго потерять дорогу, заблудиться в этом незнакомом белом мире. Да и незачем идти в лес: снегом завалило хворост, ветви, сломанные по осени вихрем невысокие деревца. Они зарылись глубоко, и докопаться до них было не под силу.
Словно медведь, улегшийся в яме на зимнюю спячку, ушла под снег деревня, тихая, примолкшая. Отсюда было далеко до трактов и большаков, – трудно добраться до деревни, трудно из нее выбраться. Немцы не показывались здесь с самой осени. Дел у них тут не было. Еще осенью они увели коров, где удалось, забрали и хлеб…
Время от времени, какими-то неведомыми путями, в Ольшины все-таки доходили вести, но такие путаные и смутные, что никто не знал, чему верить, чего держаться.
Все, как спасения, ожидали весны. Казалось, что, когда двинется лед, когда выглянет из-под снега земля, когда задышит мощной грудью озеро, наступят какие-то перемены, произойдет что-то решающее. Но пока зима держала в своих крепких, беспощадных когтях не только землю и воду, но и самоё жизнь, помертвевшую, застывшую жизнь. Невозможно было поверить, что еще так недавно все здесь кипело, росло в неудержимом радостном порыве. Мертвым стоял теперь клуб над озером. Занесло сугробами тропинку в барский дом, где были весной ясли и детский сад, и ее, невидимую под снегом, забыли, словно никогда по ней не бегали детские ножки. Учитель уехал в первые же дни войны, а Ольга исчезла из яслей, и никто не знал, куда она девалась. Ее домашние лишь пожимали плечами в ответ на вопросы, – видно, сами не знали или не хотели говорить.
Исчез в самом начале и Петр. Он один, быть может, мог бы объяснить что-нибудь людям, но не было Петра. Жители Ольшин неохотно встречались друг с другом, глядели исподлобья, никому не хотелось разговаривать. Каждый будто нес на плечах тяжкое бремя и тащил его один, ни от кого не требуя помощи. Все, что здесь случилось два года назад, казалось счастливым мимолетным сном, с которым одним взмахом покончила тяжкая, душная явь. Жизнь изменилась до основания, и трудно было с этим примириться. Но никто не знал, что делать, что предпринять, и от этого руки беспомощно опускались. А вдобавок ко всему пришла страшная зима, жестокие морозы и вьюги, каких не помнили и самые старые люди в деревне. И казалось, так уж оно и будет всегда – не победить весеннему солнцу, не одолеть теплому ветру этих морозов, снежных завалов, мертвенной белизны.
Но весна все же наступала. Снег постепенно превращался в бегущие ручьи, в быстрые речушки и в жидкую грязь, в которой утопали Ольшины. Уже слышно было по ночам, как с грохотом ломается лед на озере, уже видны были на нем длинные расщелины, сквозь которые проступила вода. Теплый ветер съедал снежный пласт, а доедали его дожди, необычайно рано хлынувшие с хмурого неба. Но не веселила людей весна, как бывало раньше. Теперь не один из тех, что нетерпеливо поджидал ее зимой, горько вздыхал о морозах и снеге. Правда, зимой голод поселился в избах и лишь изредка пылал огонь в очагах курных хат; но зато деревня была отрезана от мира, отрезана от Влук и Синиц, ограждена, как крепость, стеной высоких снегов. А теперь обнажатся, оттают дороги и ветер обсушит тропинки, впитаются в землю лужи – и кто знает, что двинется по этим дорогам, что еще обрушится на беспомощные, ничем не защищенные Ольшины?
Но пока дороги были еще непроходимы. Размокла рыжая глина, провалились гнилые мостки, которых осенью никто не чинил, разлилась река, вышли из берегов речушки, ручьи, потоки, заливая мутной бурой водой низины и тропинки. Пока еще все это защищало деревню не хуже, чем снега, и всякий знал, что еще не время ожидать каких-нибудь перемен или пришельцев.
Лишь один пришелец забрел в деревню, но он появился так тихо, что о его приходе узнали не скоро. Павел услышал о нем впервые от старосты, зайдя к тому одолжить топор. Староста был еще молчаливее и неприветливее, чем всегда. Топор он все же дал, ворча что-то под нос. Павел присел на минуту на лавке у окна.
– Вот и дикие гуси летят, – старался он начать разговор.
– Время им лететь, вот и летят. Да и гусак, говорят, прилетел. Тоже, видно, время ему.
– Какой гусак? – удивился Павел.
– Так вы ничего не слышали? Хмелянчук, говорят, домой пришел.
– Хмелянчук? Не может быть?
– А кто его знает… Паручиха заходила сюда за мукой, говорила, будто ее детишки видели его у избы.
– Хмелянчук… Ишь ты! И откуда он взялся? Выпустили его, что ли?
– То ли выпустили, то ли сам сбежал, кто знает?
Они задумались. Что же это такое? Возвращается все минувшее. Сколько уж времени, как они и думать забыли о Хмелянчуке, и вот он снова здесь, снова появился в деревне. Словно в знак того, что все, изменившееся с приходом Красной Армии, теперь не в счет и возвращаются все старые порядки, словно никогда не проносилась освежающая гроза, принесшая деревне новую жизнь.
– А может, это еще и неправда? Мало ли чего ребятишки наплетут… Увидели кого-нибудь возле его избы, и сейчас – Хмелянчук.
– Может, и так… Но только кому бы там быть, кроме него? К бабе его ведь никто не ходит… А его по рыжей башке узнать нетрудно.
– Если пришел, так покажется же где-нибудь.
– Да уж если пришел, так небось не без умысла… А может, и выдумали ребятишки.
Так они и разошлись, не зная, чему верить. Но Хмелянчук действительно был уже здесь. Однажды вечером, когда его старуха шла в хлев кормить уцелевшего поросенка, она встревожилась, заметив мелькнувшую за сараем темную фигуру. Кому бы это вертеться вокруг их двора? Народ тут такой, что ничего хорошего от него не жди, а дурного дождаться недолго. Она поставила корыто с вареной картофельной шелухой и, вытирая руки об юбку, будто ненароком – так, мол, иду поглядеть на реку, – медленно подошла к углу своего дома. Так и есть, у забора стоял кто-то, не то нищий, не то странник. Уже смеркалось. Она сперва различила только рваную кацавейку и ноги в холщовых обмотках, обвязанных бечевкой.
«Вор, должно быть… Высматривает…» – подумала она с испугом. Но, набравшись храбрости, крикнула:
– Чего вам?
Оборванец подошел поближе. Не веря глазам, она попятилась и вскрикнула.
– Не ори! – шепнул тот. – В избе никого нет?
– Господи Исусе, да ведь это Федя!..
– Федя, Федя, – бормотал он, озираясь. – Что ты, не могла забор хоть колом подпереть?
– Так это снегом… снегом забор повалило, – шептала она, в замешательстве продолжая вытирать о передник уже давно сухие руки.
– Свиньям несешь?
– Какие там свиньи, один поросенок остался… – И вдруг опомнилась. – Господи Исусе, Федя, Федя, живой, здоровый… Федя! – Она кинулась к мужу и всхлипнула, стремительно обхватив его руками. – Господи, а я уж думала тебя убили, замучили, не вернешься уже ко мне… Ой, Федя!
– Тише, баба, а то народ сбежится. В избу пойдем. Работник дома?
– Какой там работник! Работы никакой нет, что ж я дармоеда кормить буду?
– А девка?
– Да что ты, господь с тобой… Ведь она еще при советах от нас ушла… Не помнишь, что ли?
– А новую не взяла?
– На что брать-то? Самой делать нечего, горе такое…
– Да перестань! – грубо прикрикнул он. – До ночи ты меня собираешься во дворе держать, что ли?
Старуха растерянно подхватила корыто, но сразу же поставила его обратно на землю.
– О господи! Федя…
– Федя и Федя, что ты, забыла, как меня зовут?.. Давай, давай в избу!
Она кинулась в избу и трясущимися руками принялась растапливать печь.
– О господи, и как ты только жив остался…
– А с чего это я жив не буду? – пробормотал он, осматриваясь в избе. – Поесть бы дала, вот что.
– Сейчас, сейчас будет… О господи, Федя…
Все валилось из рук. Она хватала то один горшок, то другой и снова останавливалась, вытирая краем платка льющиеся из глаз слезы.
– Сала бы кусок.
– Да откуда же я тебе сала возьму, боже милостивый?
– Разве не колола свинью зимой?
– Свинью! Забрали у меня свинью, и кабанчика забрали, всего один поросенок уцелел, и то уж я его в яме за садом прятала.
– Кто забрал?
– Да кто ж? Немцы забрали… Все дочиста ограбили еще осенью…
– Да перестань ты хныкать! – снова рассердился он. – Давай, что под рукой, только поживей. И самовар поставь.
– Самовар? Чаю нет, сахару нет, какой тут самовар!
– Ну, вижу, ты совсем нищей стала, – сердито проворчал он, когда она поставила перед ним тарелку черных галушек.
– Да как не стать-то? Ведь дочиста ограбили, ничего нет, как сквозь землю все провалилось…
Он молча ел галушки и мрачно оглядывал избу. Все было, как прежде, – и занавески на окнах, и килим над постелью, и обливные миски на полке у печки. Но ему казалось, что он ничего не узнает. В воспоминаниях эта изба казалась ему больше, светлее, чем была в действительности.
Старуха стояла, сложив руки под передником, и следила мокрыми глазами за каждым движением его руки, неохотно несущей ко рту ложку.
– А и плохо ты выглядишь, о господи…
– Будешь тут плохо выглядеть! Да и на твоей бурде тоже не растолстеешь…
– А что же мне, горемычной, делать? Откуда взять?
– Не пищи, не пищи!.. В деревне что слышно?
– Да что ж, в деревне как в деревне… Я-то к ним не хожу, да и они ко мне не ходят…
– А земля как?
Она не поняла.
– Какая земля?
– Ты что, совсем одурела? Наша земля… За рекой, за садом?
– Да что ж? Немцы говорили, все советские порядки отменяются. У кого землю забрали, чтоб им отдали… Да что теперь в этой земле?
– Озимые посеяла?
– Чем же мне было сеять? Весь хлеб, какой был, забрали… До последнего зернышка забрали. Только у тех, кто спрятал, еще горсть-другая найдется…
– А ты не прятала?
Старуха испугалась. Потупив глаза, она беспомощно вертела в руках край передника.
– Потому что… потому что…
– Говори, как человек, – крикнул Хмелянчук. – Чего мычишь?
Она расплакалась.
– Не прятала… Говорили, они ничего брать не будут, культурные. И еще говорили, что раз тебя большевики вывезли, так… А они пришли, забрали… Уж как я просила, как кланялась – забрали, вроде как свое.
– Дура баба, к коменданту надо было идти.
– К ихнему?
– К какому ж еще?
– Ой, Федя, ходили тут, ходили которые к коменданту… Так им еще прикладами надавали, а до коменданта не допустили.
Он отер ладонью мокрые усы.
– Не реви. Вот я осмотрюсь маленько, сообразим… Староста новый есть?
– Какой там новый. Тот, что был, тот и остался. Только что это теперь за староста!..
Хмелянчук исподлобья взглянул на жену.
– Ну, а в деревне кто остался?
– Кто в деревне-то остался?
– Совсем одурела баба! Ну, из этих, из большевистских прихвостней, остался кто?
Она задумалась. Хмелянчук нетерпеливо махнул рукой.
– Иванчук? Павлова Ольга? Остался кто-нибудь? Параска?
– Иванчука нет… Стефека, панича, тоже нет. Как советы ушли, так и они куда-то подевались… Ольги и не было, она в город тогда уезжала. А так все здесь. И батюшка здесь.
– И богослужения в церкви бывают?
– Бывают, бывают. Только снега всю зиму такие были, что в церковь не пройти… Да, правду сказать, люди и боялись. А теперь опять водой все залило… А главное, боятся…
– Чего же им бояться?
Женщина вздохнула.
– Да уж так, боятся и боятся. Правду говоря, из избы и то выйти неохота. Такие уж времена пришли. Всюду страшно.
Хмелянчук сплюнул и пожал плечами.
– Тьфу, глупая баба!
– Может, я и глупая… А что ж ты, Федя, не скажешь, не расскажешь, как там с тобой было?..
– С тобой говорить – только время терять. Спать хочется. Прилечь, что ли? И устал же я.
Она засуетилась, снимая с постели полосатую плахту.
– Еще бы не устать, господи Исусе! Ложись, Федя, ложись.
Он медленно стаскивал рваную обувь, тряпки, обвязанные бечевкой. По правде сказать, спать ему не хотелось, но надоели причитания жены, ее слезы и стоны. Хотелось спокойно подумать, освоиться с тем, что он, наконец, дома.
Собственно он иначе представлял себе это. Как? Он и сам хорошенько не знал. Но во всяком случае был разочарован. Не было радости, скорее скука и какая-то пустота. То, что поддерживало его столько времени, что давало ему силу и энергию для преодоления всех трудностей, теперь исчезло, перестало существовать. Все было уже позади, осталась только неудовлетворенность, внутренняя пустота, пустота настолько ощутительная, что трудно было даже определить, что ее вызывает – черные ли галушки вместо сала, которого ему так хотелось, или неприятные мысли, которые его одолевали, неясные еще и все же неотвязные.
Он некоторое время еще поворочался на кровати, но уже видел, что заснуть не удастся. Вдобавок жена сидела на лавке под окном и вздыхала так тяжко, что о сне нечего было и думать. Он неохотно поднялся.
– Сапоги мои целы?
– Целы, целы, как же, смазаны, в кладовой стоят… Сейчас принесу. Что ж ты не спал?
– Не спится. Душно тут. Хочу на воздух выйти.
Спускались сумерки, когда он вышел из избы. Снова бросился в глаза подгнивший, повалившийся забор. Он внимательно осмотрел столбы – нет, никуда не годятся! Он долго бродил по двору, осматривая имущество, и вдруг приостановился и бросил взгляд на деревню.
Кое-где еще белели пятна снега, но общий вид местности был темным, серым, безнадежным, – раскисшая глина, лужи, болотца. Голые кусты выглядели словно мертвые, словно им никогда уже не зазеленеть, не расцвести. Дождя не было, но в туманном, влажном воздухе словно непрестанно моросило, мелкие капельки оседали на голых ветках, сливались в более крупные, стекали по черной коре, как слезы. Вскоре он почувствовал сырость на своих усах.
Серо, мрачно, безнадежно выглядело все вокруг. В деревне ни огонька. Озеро колыхалось, мерно плеща бурыми волнами о берег, кроша остатки льда.
Хмелянчук пошел было в ту сторону, но не хотелось пока встречаться с людьми. Не хотелось и возвращаться в избу. Он присел на мокрое бревно у сарая и бездумно засмотрелся на меркнущую, сонную, набухшую сыростью даль. Боже милостивый, каким все здесь казалось жалким, маленьким, безнадежным… И какая долгая жизнь отделяла день возвращения от дня ухода…
Нет, это не похоже на то, что ему грезилось там, за тридевять земель.
А между тем он не прозевал ни одной минуты. Грохот бомб, разрывающихся во Львове, Киеве и Минске, в тот же день донесся туда, где он был, – за тысячи километров на восток. И он воспринял эти взрывы как сигнал, с радостью, со злым, мстительным чувством. «Они» его вывезли, оторвали от дома, от земли, от Ольшин, – ну вот, теперь и «им» придет конец. Он твердо верил: «им» придет конец, а стало быть, начнется хорошая жизнь для него, Хмелянчука. И все будет по-прежнему. Нет, даже не по-прежнему, а лучше. Уж кто-кто, а фашисты наверняка сотрут в порошок всех этих Иванчуков, Семенов, всех этих деревенских голодранцев, которые не давали ему жить спокойно, выпускали рыбу из садков, истребляли посевы, травили клевер и, наконец, добились того, что его привезли в чужую землю, где приходится все начинать сызнова… Нет, он и не собирался работать там, на востоке, – он сразу уверил себя, что так остаться не может, что долго это не протянется. Войны он ожидал с такой уверенностью, словно все было заранее гарантировано. И вот грохот бомб прокатился эхом от Буга до морей и океанов. Хмелянчук не думал о том, что для миллионов людей то был сигнал к борьбе и обороне. Он понял эти взрывы как сигнал, поданный ему, – сигнал к возвращению.
Сообразил Хмелянчук и то, что сейчас особенно возиться с его поимкой не будут. «Сейчас у большевиков другие заботы, хо-хо! Совсем другие заботы», – думал он про себя. И вот в один июльский денек, собрав в узелок лишь самое необходимое, Хмелянчук двинулся в путь. Его не пугали ни огромность пространств, ни трудность пути. Там, над озером, в развилке рек, там его место, там ждет его жизнь, к которой он привык. Он знал, что он должен дойти, и дойдет.
Не приходилось даже скрываться. Он правильно предвидел, что сейчас не до него. Упорно, терпеливо он продвигался вперед, сообразуясь лишь с одним – с направлением на запад, только на запад! Не он один направлялся в ту сторону – туда ехали и шли, текли широкой рекой десятки тысяч людей. Туда везли орудия, танки, какие-то таинственные ящики. Эшелоны за эшелонами. Он поплыл в общем потоке. Правда, минутами его брала тревога: откуда эта уйма людей, этот неисчерпаемый поток народа? Откуда в этой стране, о которой он сам со злой радостью говорил, что она разута, раздета и голодна, – откуда в ней столько хлеба, столько скота, всякого добра? Ведь он сам, своими глазами видел переполненные поезда, один за другим, один за другим идущие на запад, туда, где кипела борьба… Но он сейчас же утешал себя, что все это быстро истощится. Уж немцы с ними справятся, хо-хо! Закончат все в два счета, не успеют еще и эти эшелоны дойти.
Сам он двигался медленнее, чем ему хотелось. Пришлось цепляться как раз за эти эшелоны, даже помогать в погрузке, чтобы кормиться в пути. Где поездом, где попутной автомашиной, а случалось и пешком, он продвигался на запад. И чутко, чутко прислушивался к вестям. Нет, большевикам не везло! Потупив глаза, чтобы не выдать радости, он слушал сводки. Знакомые, ох, какие знакомые названия! Немцы захватили уже и Ольшины – еще бы, в два счета захватили!.. И уже продвинулись много дальше. Хмелянчук с радостью подсчитывал, насколько сокращается его путь благодаря тому, что немцы идут с запада, а он – на запад; он встретит их – и все пойдет замечательно.
Слегка беспокоило лишь то, что он не видел вокруг себя страха. Люди слушали сводку, глядели на карту, ну иной раз вздохнет кто-нибудь, заплачет женщина… Но то не был страх. Они верили в свою мощь. Постоянно повторялось: «временно оккупированные территории». «Временно»! – издевался Хмелянчук. Для него это не было временно. Он верил, что если немцы ступили куда ногой, то не найдется силы, которая смогла бы стронуть их с места. Уж они-то ничего не дадут у себя вырвать.
Чем дальше он продвигался на запад, тем больше чувствовалась война. Отсюда вглубь страны, в безопасные места, шли санитарные поезда с ранеными, эшелоны эвакуированных.
«Бегите, бегите, – радовался он в душе. – Не скрыться вам, не убежать, нет, не убежать! Всюду вас найдут!»
С злобной радостью смотрел он на платформы со станками, с заводским оборудованием, направляющиеся на восток. Ишь, разобрали заводы, спасают свое добро! Да только когда эти заводы снова начнут на них работать? Не хватит времени, не хватит! Фронт надвигался быстро, лавиной катились на восток железные колонны.
Но сейчас и это уже не так сильно интересовало Хмелянчука. Главное – Ольшины и Стырь, Стоход и Горынь, и плавни над Припятью, знакомые, родные места – все уже в немецких руках.
Зимой его как громом оглушила весть о советской победе под Москвой. Червь тревоги снова зашевелился в его сердце. А вдруг?.. Но нет, это ничего не может значить, не должно ничего значить. И все-таки… Что за страна, что за огромная, необъятная, страшная страна! Пожалуй, и немцам не удастся захватить ее всю. И что за люди – твердые, верящие, упрямые люди. И сколько их!
Он видел на своем пути огромные города – куда до них Бресту, смешно и говорить! Видел деревни и поселки, электростанции, заводы, элеваторы – и все это настолько разнилось от того, что рассказывали в Польше об этой стране. Но дело ведь не в этом. Ну, пусть их не разобьют окончательно – в полную победу над большевиками он уже, пожалуй, и перестал верить. Пусть их не уничтожат повсюду, – лишь бы там, над Стырью, не осталось их и следа, лишь бы там можно было жить, как раньше. Если даже там все разрушено войной – ничего, можно будет приняться сызнова, отстроиться, он еще не стар, не одного молодого за пояс заткнет… И потом, ему ведь возместят убытки, он пострадал от большевиков, – такие, как он, будут там сейчас первыми людьми.
Пока до фронта было далеко, он ехал спокойно и уверенно. Но затем пробираться стало труднее. Украдкой, тишком, сторонкой приходилось ему проскальзывать между опасностями. Сколько тысяч километров он проехал – так неужели же споткнется здесь, на пороге своего счастья? Ну нет, не таковский он человек.
И он полз, как змея, крался, как лисица, петлял, заметал следы. По ночам уже слышался далекий орудийный гул. Уже не раз приходилось ему укрываться в придорожных рвах, слыша над собой зловещий рокот самолета, и его трясло от бешенства, что он, будто большевик какой, вынужден прятаться от немецких самолетов.
Наконец, через пылающие города и деревни, через грохочущую линию фронта он пробрался в родные края. И сразу же сообразил, что и здесь нужна осторожность, пока он не очутится дома, в своей деревне. Там ему будет на кого сослаться, там он заживет, как хочет. И он продолжал пробираться тайком, жил жизнью полудикаря, питаясь чем попало. Заходить в избы он боялся – немцы могли потребовать документы, а их у него не было. На слово же они могут и не поверить…
Все здесь было как-то иначе, чем он себе представлял, – какая-то притаившаяся, полузадушенная, мертвенная жизнь. И он решил, что лучше обходить хутора и поселки – идти по лесам, по бездорожью, по замерзшим болотам, которых тут было вдоволь.
Но вот, наконец, и дом – Ольшины, родные места, темные и печальные в эту раннюю пору дождливой, грязной, холодной весны.
Теперь надо было что-то предпринять, на что-то решиться. Но на что? Он хмуро вспоминал радость, которую почувствовал, услышав о войне. Свою уверенность, что все это для него, Хмелянчука, скоро и благополучно окончится. Теперь у него уже этой уверенности не было. Долгое путешествие показало ему кое-что, с чем он раньше не считался, чего не знал. Все было не так просто, как сперва казалось. Вся эта история может затянуться, хотя ясно, что кончится она поражением советов. Главное – повести себя умно. Но что сейчас умно, а что – нет? При большевиках, например, он был очень осторожен, еще как осторожен! И все же не удалось… Ну, большевики, конечно, дело другое, большевики по самой природе вещей – его враги. Ни на какой мир с ними идти было невозможно, а обманывать их можно было лишь до поры до времени. Но сейчас? Казалось бы, немцы пришли, хозяйничают, наводят свои порядки – значит, с этой стороны ему ничто не угрожает. Вся окрестность притихла, притаилась в мрачном молчании, кто же посмеет ему что-нибудь сделать? Все козыри у него на руках.
Он вновь и вновь повторял себе это, блуждая глазами по темнеющим холмам за озером. Но успокоиться не мог.
Нет, это не совсем так. В сердце таилось глухое беспокойство. Что-то мешало точно и ясно обдумать положение. Вдобавок еще эта глупая баба, которая ничего не знает, ни на что не может ответить толком. Надо поговорить с кем-нибудь. Но с кем?
Он вернулся в избу уже к ночи. На столе чадила коптилка, струйка копоти вилась над слабым красным огоньком.
– Лампы нет?
– Керосину нет. Вот этак, при коптилке, и сижу, масла-то у меня есть еще немного.
– Давно нет керосину? – спросил он хмуро, как бы что-то соображая.
– А с самого начала.
– Как немцы пришли?
– Как пришли, так и не стало керосину.
– А соль?
– Какая там соль! И соли нет, и ничего нет, как сквозь землю провалилось.
Она вздохнула и, робко покосившись на мужа, прошептала:
– При советах привозили, а теперь не привозят…
Он резко обернулся.
– Советов тебе захотелось?
– Что ты, Федя, что ты!.. – испугалась она. – Я только так, правду говорю…
Он хмуро уселся на лавку.
– К попу сходить, что ли?
– Завтра пойдешь?
– А чего ждать? И сейчас небось не спит еще. Сейчас пойду.
– Да ты что это, Федя! А полицейский-то час?
– Полицейский час? Разве немцы в деревне есть?
– Я ж тебе говорила, что с осени ни одного не было.
– Ну так что с того, что полицейский час?
– А кто его знает, еще подсмотрит кто-нибудь, донесет… Очень строго приказывали, чтобы после семи часов из избы ни-ни, ни на шаг.
– И все этого приказа так и слушаются?
– Кто слушается, кто нет. А страшно… В Синицах сколько пароду расстреляли!..
– За что?
– Кто их знает… И за полицейский час, люди говорили…
– Да ведь их здесь, сама говоришь, нет…
Она беспомощно пожала плечами.
– Нет-то нет, а случаем зайдет, увидит, и вот оно, несчастье! Хотя, говорят, по деревням-то он боится ночью ходить…
Хмелянчук вздрогнул.
– Немец боится? Чего ж ему бояться?
– Ну да. Говорят, – она пугливо оглянулась на занавешенное окно, – как пойдет который ночью и деревню, так и не вернется.
– Немец? Здесь, у нас?
– Нет, у нас пока не слыхать. А вот в Рудах, в Бялке… Бялку за это сожгли осенью.
– Сожгли!..
– Люди говорят, сама-то я не видела. Все село спалили, говорят, с людьми… – шептала она, держа у губ уголок платка.
– Не может быть! – твердо сказал Хмелянчук. – Кто виноват был, того и сожгли. В Бялке тоже народ разный.
Он-то хорошо знал, что в Бялке народ разный. Ведь там жил и его кум Зозуля, богатейший хозяин на сорока моргах. Этому-то уж наверняка бояться было нечего.
– Вот я Макара расспрошу.
– Какого Макара? – испугалась она.
– Как какого? Зозулю, какого еще?
Она всплеснула руками.
– Я ж тебе говорю! И Зозулю сожгли, всех сожгли, из всей деревни ни один человек живым не вышел… Избы позапирали, поставили пулеметы, чтобы кто не выскочил, и подожгли. Как солома сгорело, осень-то сухая была…
Его вдруг затрясло от злобы.
– А ты бы держала рот на замке, трещит трещотка! Бабы бог весть чего плетут, и ты за ними!
– Да я ведь ничего, – бормотала она испуганно. – Ты же сам спрашивал…
– Тебя спрашивать, узнаешь, – проворчал он и лег спать.
Но сон не приходил.
Зозуля… Не может быть! Но дело даже не в одном Зозуле. Оказывается, не напрасно в сердце ныла тревога. Здесь еще не было того порядка, о котором он мечтал, когда шел сюда. Оказывается, и здесь еще нельзя распрямить спину и зажить той жизнью, какая грезилась в снах. Приходится все еще таиться, изворачиваться, хитрить, чтобы как-нибудь прожить.
«Хотя, что глупая баба знает? Поговорю завтра с попом», – решил он, и это немного его успокоило.
Но поп, по-видимому, вовсе не обрадовался посещению. Он постарел, борода его поседела и спутанными, неопрятными космами свисала на грудь. Попадья похудела, обмякли ее когда-то упругие, полные формы. И оба они казались перепуганными не меньше, чем старуха Хмелянчука.



