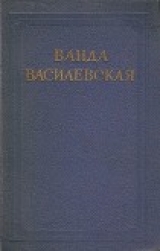
Текст книги "Том 4. Песнь над водами. Часть III. Реки горят"
Автор книги: Ванда Василевская
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 33 страниц)
– Мы не создавали этой конституции, мы получили ее в наследство.
– В наследство – после кого? После людей, которые разорили Польшу, довели ее до гибели, а сами сбежали, оставив страну и народ без защиты, без власти, без укреплений и оружия, как легкую добычу для врагов, которых они почти до самой войны называли друзьями?
– Надо же установить какую-то преемственность законной власти.
– Да о какой законной власти вы говорите? Не были ли правительство и власть, опирающиеся на эту конституцию, по самой своей сущности незаконными? Именно незаконными!
– Ну, вы уж слишком далеко заходите.
– Слишком далеко? Мне кажется, пора бы извлечь некоторые выводы из данного нам историей горького урока, взглянуть, наконец, трезво на известные фигуры, известные вопросы.
Словно стеклянная стена перерезала стол, покрытый красным сукном. Слова отскакивают от ее твердой, гладкой поверхности.
Адвокат разводит руками. Разговор тянется вяло, медленно. Каковы шансы договориться? Что представляют собой эти люди, которые явились сюда лишь тогда, когда уже освобожден Люблин, когда советские армии стоят у стен Варшавы? Что дает им силу и наглость вести переговоры с деятелями, часть которых боролась за Польшу здесь, в сражающемся против фашизма Советском Союзе, а часть сопротивлялась захватчикам там, в оккупированной родной стране, и прибыла сюда через линию фронта от имени высших властей Польши – действительно борющейся, новой Польши.
Разговор снова обрывается. Адвокат как-то притаился, словно готовится к прыжку. Поочередно оглядывает собеседников. Поднимает глаза к потолку, будто что-то взвешивая. И, наконец, тихим, но внятным, вкрадчивым голосом говорит:
– Надеюсь, господа, мы можем говорить откровенно… Вы действуете по указаниям Москвы – я представляю английскую точку зрения…
Ну, разумеется. Последнее не стоило и подчеркивать – никто и так не сомневался.
Подавить, задушить в себе негодование. Не дать им преимущества – больше спокойствия! Можно, как этот адвокат, тоже поднять глаза к потолку. Изукрашенный, размалеванный потолок. Здесь некогда принимал гостей и плел паучью нить шпионажа посол польского министра, агента иностранных разведок Бека. Здесь некогда сходились дипломаты разных стран поговорить между собой об интимных делах, о секретах западной политики. Ни следа не осталось ни от кого из них, ни следа от их дутого величия, от их «гениальных политических шагов». На потолке живопись – тяжелые, пышные тела мужчин и женщин, нечто под Рубенса. И прямо над столом на плафоне – жирный выпяченный голый зад, удивительно похожий на любезно улыбающееся лицо члена лондонского правительства. И, как ни странно, это наблюдение успокоительно действует на нервы Шувары. Неприличное слово – не высказанное, но так ясно увиденное на потолке, – приносит облегчение. И можно уже спокойно, даже любезно ответить:
– Да? Значит и тут есть различие, но только не то, о котором вы говорите. Различие между нами в том, что именно мы представляем польские интересы.
На этот раз улыбка адвоката напоминает сконфуженную улыбку пойманного за руку воришки. Легкое покашливание. «Ох, не такой уж ты ловкач, каким хочешь казаться, – насмешливо всматривается в него Шувара. – Ошибся малость, принял нас за таких же каналий, как сам, и проболтался, бедняга…»
Но адвокат уже откашлялся. Лицо его снова оживляется.
Ах, он совсем не об этом. Он, разумеется, тоже всей душой за соглашение с Советским Союзом. Всегда был за него. Как же иначе – ближайший сосед, союзник, это совершенно ясно…
Не пора ли?
С самого начала разговора на столе лежит папка. Обыкновенная коричневая папка, завязанная черными тесемками. Она была приготовлена на всякий случай, хотя неизвестно было, как пойдут переговоры и будет ли в ней надобность. Глаза лондонских собеседников уже не раз останавливались на папке. Они явно интересовались: что бы там могло быть? Подождите, подождите, это не совсем обычные документы. Товарищ, сидящий рядом с Шуварой, не спеша развязывает тесемки, и Шувара видит, как глаза тех господ, будто вопреки их воле, приковываются к папке.
Наконец, она открыта. Шувара перелистывает бумаги, вытаскивает одну. Воззвание, этакое маленькое воззваньице о необходимости бороться против вступающей на польские земли Советской Армии. «На польские земли» – это означает в данном случае Литву. Речь идет о Вильнюсе. Господину министру не случалось видеть это воззвание? Его источник установлен с несомненностью.
Белый клочок бумаги слегка дрожит в руках господина министра.
Но вот и другой документ. Это уже не воззвание, а инструкция: как притаиться, как вкрасться в доверие, чтобы тем легче, тем успешнее ударить исподтишка, из-за угла.
Бесцветные глаза медленно, внимательно читают. Рука уже не дрожит. Она протягивается к следующему документу. Угодно еще? Пожалуйста. Папка полна. Она содержит в себе ворох документов, более опасных, чем заряд динамита. Рапорт о том, как был вырезан партизанский отряд. Указания, как вылавливать бежавших из фашистского плена красноармейцев. Инструкция, как не допускать борьбы с фашистами. И инструкция, как бороться с коммунистами.
«Дружба с Советским Союзом»… Сквозь заграждения концентрационного лагеря, под автоматными очередями прорвался темной ночью солдат. В ста битвах он сражался с врагом. В ста битвах глядел в глаза смерти. Сто раз умирал в голодной лихорадке за колючей проволокой, за каменными стенами лагерей. И вырвался, бежал. Тяжело дыша, пополз к деревне. Исхудалый, как призрак, – человеческая тень. Крестьянские руки накормили солдата, крестьянские руки перевязали его раны – затем чтобы поутру его выволокли вооруженные люди в штатском и расстреляли и его и хозяев, заплативших жизнью за кружку молока, за белый бинт, данный солдату Советской Армии.
В лесах и оврагах сражался бежавший из лагеря солдат Советской Армии. Он увлек на борьбу людей, которые уже ни во что не верили, ни на что не надеялись. За тысячу километров от своей отчизны, от своей армии боролся он за свободу страны, которая не была его родной страной, – затем чтобы его, вместе с его отрядом, окружили штатские в высоких сапогах и топорами зарубили его и его отряд в темную ночь, в ночь польской неволи.
Из когтей смерти, из ямы, куда бросают расстрелянных, чудом спасся советский солдат, спас и лежащего рядом поляка – затем чтобы обоих застрелили в момент, когда они уже очутились вне досягаемости для врага.
«Дружба с Советским Союзом»…
Еще? Пожалуйста, вот еще и еще. Только поосторожнее берите эти листки, господин министр. Как бы не полилась по вашим рукам братская кровь. Поосторожнее берите эти листки, господин министр. Как бы не встали перед вами обвиняющие тени убитых.
Короткие пальцы сжимают бумагу так, что белеют суставы пальцев. Но благодаря этому рука не дрожит. Член лондонского правительства читает медленно, гораздо медленнее, чем этого требовало бы ознакомление с документом. Но лицо его не выражает решительно ничего. Будто это безразличные, не содержащие ничего интересного бумаги.
«И что же, что? – мысленно спрашивает его Шувара. – Ты ведь это знаешь, ты видел уже эти документы… Неужели ты думаешь, будто что-нибудь изменится, если ты немного оттянешь мгновение, когда придется взглянуть нам в глаза?»
Тот медленно откладывает документ. И спокойным, ровным голосом, будто продолжая светский разговор, говорит:
– Это не мы. Это НСЗ[3]3
«Народове силы збройне» – польская фашистская организация, связанная с гестапо и одновременно с лондонским эмигрантским правительством. (Прим. перев.)
[Закрыть].
Ах, вот как? Возможно. Но… Что же означает вот этот ваш договор, черным по белому написанный договор с НСЗ? Что означает этот второй договор, заключенный с бандеровцами, договор о совместной борьбе против советских частей?
– Бумага все терпит, – улыбаются тонкие губы. – Можно сфабриковать и более сенсационные документы…
Сфабриковать? Нет, за каждым из этих документов стоят трупы, сожженные деревни и люди, выданные гестапо. Муки, смерть, слезы.
«Нельзя давать волю своему гневу, – думает Шувара. – Нужно непрестанно следить за теми, нужно понять, почему вдруг возникло такое напряжение, почему, начавшись с любезных улыбок, разговор зашел в тупик».
Улыбка больше не появляется на лице адвоката. Бывший посол посматривает на часы. Профессор, кажется, задремал, не вмешивается в разговор.
Бумаги снова уложены в папку, завязаны тесемками. Но в воздухе еще стоят испарения крови и предательства, которыми повеяло от этих бумаг. Над красным сукном стола, по углам зала, под размалеванным потолком блуждают призраки. Атмосфера враждебности наполняет зал до того, что всем становится душно.
Бывший посол опять украдкой смотрит на часы. Он и его коллеги, видимо, устали, хотели бы прервать разговор, принявший столь неприятный оборот, но все еще тянут, спрашивают о каких-то мелочах. И вдруг представитель лондонского правительства вспоминает:
– Да, а как обстоят дела… финансовые, если не будет нескромностью спросить?
– То есть какие финансовые?
– Ну, хотя бы вооружение, экипировка армии. Вам пришлось, конечно, дать какие-нибудь обязательства?
Зеленоватые водянистые глаза будто совершенно равнодушно смотрят сквозь светлые ресницы. Но за внешним безразличием таится напряженное внимание. Как у кота, подкарауливающего воробья. Спрятал когти, сидит как ни в чем не бывало. Но под кожей напрягаются мускулы, вот-вот прыгнет.
«Вот что тебя интересует… Как тех журналистов в день присяги дивизии… Нет, ты и тут промахнешься, этого козыря у тебя нет и не будет».
И Шувара спрашивает:
– Кто же мог дать обязательства? От чьего имени? От имени польского народа? Мы служим польскому делу, но не считали возможным обременять страну какими бы то ни было долгами. Да никто и не требовал от нас этого…
– Как так?
«Ну, разумеется, ты удивлен. Еще бы. Ведь там, за Ламаншем, ваши покровители скрупулезно подсчитывали каждую копейку. Каждая бомба, сброшенная польскими летчиками на общего врага, была оплачена золотом, вывезенным из Польши. Каждый самолет, каждый снаряд был куплен на это золото… Неважно, что поляки защищали Лондон от налетов, неважно, что они защищали берега Англии. Этот союзник умеет и любит считать. А вам – что? В ваших руках золото, выжатое из умиравших с голоду мужиков и рабочих, – вы умеете запускать руки в государственную казну. И не колеблетесь делать займы от имени Польши, которой еще даже нет. Вы спокойны. Вам кажется, что стоит покрепче нажать на крестьянина, вытащить подушку из-под головы умирающей бабы, вывести из покосившегося хлева последнюю корову, еще повысить налоги, еще урезать заработную плату – и вы расплатитесь с союзниками, если даже не хватит золота, вывезенного из Польши. Найдутся деньги на банкеты и на пышные резиденции, на весь ваш вульгарный шик, над которым смеются даже ваши покровители. Хватит денег на десятки грязных листков, в которых вы ведете свою лживую пропаганду, хватит на все… Ведь это так просто – стоит только снова передать шахты в иностранные руки, снова предоставить концессии иностранцам».
– Мы дали людей, Советский Союз дал этим людям оружие. Сражаемся мы за одно дело. Какие же еще обязательства?
Водянистые глаза щурятся, почти исчезают в желтоватых ресницах. Не верит. Да и как ему поверить? Он привык все продавать и покупать и не может представить себе, что отношения между людьми, между государствами и народами могут заключаться в чем-то ином, что не торговля, не купля-продажа.
Звучат в ушах слова, сказанные тихим, проникающим в самую глубь сердца голосом:
– Мы не торгуем кровью…
Где адвокату понять это? Ведь и тем иностранным корреспондентам, в Сельцах, мерещились какие-то закулисные сделки, тайные договоры, тайные обязательства. Как мог бы понять этот делец, что здесь другой мир, что единственным ответом на все их вопросы был ответ человека, каждое слово которого твердо, как клятва; прямой и ясный ответ, что Советский Союз не торгует кровью…
– Скажите, а… вся эта материальная помощь штатским, школы, детские дома, – настаивает адвокат, – это все… тоже бесплатно?
– Ах, значит вы, господа, все же знаете, что здесь существуют польские школы, и детские дома, и материальная помощь беженцам?
– Да… В общих чертах…
О, разумеется, в общих чертах. Жаль только, что даже в «общих чертах» ни одного слова об этом не проникло в прессу там, за Ламаншем, за океаном, в прессу, орущую, плюющую, не отступающую ни перед какой клеветой, ни перед какой ложью.
– Вот, можете познакомиться не в общих чертах, а точно, по документам.
Бывший посол на мгновение теряет каменное спокойствие, он слишком быстро, слишком стремительно протягивает руку.
«Смотри, смотри. Ведь это вопросы, которые когда-то были в твоем ведении, которые должен был разрешать ты».
Бывший посол торопится, быстро перелистывает страницу за страницей. Школы. Детские дома. Издательства. Вагоны продовольствия. Вагоны одежды. Рубрика за рубрикой – колонны цифр.
– Любопытно, не правда ли?
– Да, любопытно, – бесцветным голосом отвечает тот и, будто спохватившись, прежним ленивым жестом отодвигает от себя бумаги. – И это тоже безвозмездно?
– Да, и это безвозмездно.
Старый профессор смотрит подернутыми пеленой усталости глазами. Совершенно очевидно, что он давно потерял нить разговора и не понимает, в чем дело. Круглое лицо адвоката, так похожее на выпяченный зад, приобретает оттенки желтизны. Бывший посол все чаще посматривает на часы. Уже поздно. Гости чувствуют себя утомленными. Просят отложить окончание разговора на следующий день.
Тихо закрываются огромные, массивные двери бывшего посольства. Длинная черная машина тихо отплывает по асфальту. И теперь, когда они уехали, когда разговор отзвучал, – становится совсем ясным то, что затемнялось в переговорах. Нет, дело не в границах, не в аграрной реформе и тем более не во второстепенных вопросах. Стеной, на которую всякий раз натыкался разговор, был упрямо отстаиваемый лондонцами тезис о том, что правительство можно будет формировать только в Варшаве. Это выдвигалось ими как нечто не подлежащее дискуссии. Но это была пустая болтовня. Функционировал Комитет Национального Освобождения, осуществляя полноту власти. Он в сущности был уже правительством на клочке отвоеванной земли и мог официально переформироваться в правительство где угодно – и в Люблине и в Хелме, свидетельствуя, что Польша существует, что она перестала быть только территорией, оккупированной врагом, а стала государством.
Разумеется, подлинный вес будет иметь лишь правительство, пребывающее в столице. Но ведь оно может войти в нее уже сформированным хотя бы в Люблине. Откуда же это упорство? Почему только в Варшаве? Зачем ждать и чего ждать, когда каждый день требует безотлагательных решений, декретов, устройства освобожденных районов на новый лад?
Все эти доводы отскакивали, как горох от стенки, наталкиваясь на молчаливое, глухое упорство лондонцев.
Это не зря. Казалось бы, те сами заинтересованы в том, чтобы как можно скорее войти в новое польское правительство, как можно скорее принять участие во всем происходящем в Польше, – хотя бы для того, чтобы тормозить и вредить. А они откладывают, оттягивают это до освобождения Варшавы, даже не спрашивая, когда оно может быть осуществлено. А ведь это совершенно неизвестно, особенно сейчас. Ведь ясно, что огромное трехмесячное наступление не может продолжаться до бесконечности, что надо подтянуть войска и боеприпасы. Форсировать Вислу – дело трудное. Как это ни грустно, приходится считаться с возможностью, что Варшава будет освобождена не так скоро, – быть может, даже позже Кракова, Силезии. Почему же они откладывают до Варшавы?
И когда сейчас Шувара вспоминал всю конференцию от начала до конца, у него возникала неопровержимая уверенность: эти люди выжидают. Но чего? Казалось, им бы и торопиться. История идет своим путем, и чем дольше они будут находиться вне событий, тем хуже для них. Каждый новый день дает новые преимущества людям из Комитета Национального Освобождения. Так почему же лондонцы тянут?
В эту ночь Шувара не мог уснуть. Широко раскрытыми глазами смотрел он в темноту. Где таится западня? Что скрывают эти маски выжившего из ума профессора, отставного дипломата, адвокатского крючка? Впрочем, теперь уже совсем ясно, что старикашка не в счет, он, кажется, даже не посвящен в их планы. Но те двое – почему они играют на промедление?
Шувара осязаемо чувствовал притаившуюся рядом опасность. Но какую? Любое предположение, которое приходило ему в голову, тотчас же казалось ему самому бессмысленным. Что должно произойти? Ведь тот прохвост не дрогнул, когда на брошенный как бы мимоходом вопрос, какой пост они могут предложить ему в будущем правительстве, услышал немедленный и недвусмысленный ответ: хотя бы пост премьера. Ведь он, конечно, этого не ожидал. Он явно готовился к тому, что придется торговаться за портфели, за влияния и возможности. А тут сразу портфель премьера – и он не ухватился за него, дал вопросу утонуть в вялом, перескакивающем с предмета на предмет разговоре. В чем же дело? Откуда может обрушиться удар?
Утро принесло сомнения. Может, все это ему кажется, игра нервов?.. В одиннадцать новая встреча – тогда все выяснится. Нельзя же тянуть эту болтовню до бесконечности. Ну ладно, тот хотел прощупать почву – быть может, хотел снестись с Лондоном, прежде чем принимать конкретные решения. Но следующий разговор уже пойдет глаже, по-деловому. Хуже всего это переливание из пустого в порожнее, в которое превратился весь первый разговор.
…Медленно двигались стрелки стенных часов. Мертво выпячивались голые зады на размалеванном потолке.
Телефонный звонок. Ровный, любезный голос бывшего посла. Господин министр очень просит его извинить. Господин министр плохо себя чувствует и просит отложить совещание. О, ничего серьезного, простой грипп, простуда…
– Когда же?
– Это, разумеется, трудно предвидеть. Все зависит от того, как будет себя чувствовать господин министр. Как только ему станет лучше, они тотчас дадут знать. Очень неприятно, что так вышло, но что поделаешь?.. Господин министр очень просит извинить.
Простудился… Ну, конечно. Его насморк важнее, чем формирование правительства…
Подозрения, возникшие вчера, подтверждались. Те играли на промедление и в сущности даже не скрывали этого, не стыдились пускать в ход самые школярские увертки.
Простуда… Здесь люди работают день и ночь, в жару, больные, едва таская ноги. Бледный рассвет застает их за работой, раннее утро снова поднимает их к труду. Они сгибаются под бременем тысячи дел и не бывают простужены, не говорят, что чувствуют себя плохо даже тогда, когда врач считал бы нужным уложить их в постель. Но этот министр лондонского правительства – не им чета. Он должен заботиться о своем здоровье, о здоровье «провиденциального человека», даже когда совсем здоров.
Ясно, они просто выжидают. Но чего, чего они ждут?
Приходилось вооружиться терпением. Любезно разговаривать с этими людьми, считаться с тем, что за их призрачными фигурами маячат и британский лев, и звезды, и полосы. А главное – надо считаться с моральным кредитом, которым пока еще пользуется в Польше этот «крестьянский деятель». Его невозможно просто зачеркнуть, приходится ждать, пока его зачеркнет сама жизнь. Ведь он вошел в «лондонское правительство», чтобы показать, будто оно «полевело», он был нужен этому «правительству», как человек не скомпрометированный, не обремененный виной за сентябрьское поражение, не замаранный явной изменой в дни войны. Вначале и Шуваре хотелось верить, что между этим и другими все же есть какое-то различие, что с ним можно будет разговаривать более прямо и открыто. Но уже первый разговор развеял эту иллюзию. Стало ясно, что и с этим надо так же торговаться, чувствуя во рту омерзительный вкус того, что те называли «политикой».
Нет, опасным этого человека считать нельзя, можно спокойно швырнуть ему даже премьерский пост: ему либо придется пойти вперед вместе со всеми, либо жизнь сама выбросит его за борт. Теперь уже никому не вырвать из рук крестьянина землю, данную ему июльским манифестом Комитета Национального Освобождения. Никому не согнуть распрямившуюся спину рабочего, не приковать его к каторжной тачке. Никому не преградить путь тому ветру свободы, который развевает знамена на освобожденном клочке польской земли. Произошли необратимые перемены, и не этому политикану уничтожить их. Он либо поплывет по течению, либо будет им снесен.
Но что он прячет за пазухой, чего ждет? Никто не верил в его «простуду». Что это за болезнь, ради которой откладывались дела, не терпящие отлагательств, и которая вместе с тем протекала без врачей? А «болезнь» затягивалась. День, другой, третий, четвертый. Любезные разговоры по телефону. Округлые, точеные фразы бывшего посла. Старческий лепет профессора.
И вдруг – звонок самого министра. Он очень просит возобновить переговоры. Когда? Ах, бог мой, как можно скорее. Лучше всего сейчас же, немедленно.
Даже сесть, даже поздороваться как следует никто не успел.
– Господа, вы, конечно, уже знаете? – Гладкое лицо дипломата сияет. Сияет круглое лицо члена лондонского правительства.
Шувара похолодел. Что случилось? Он и его товарищи не знали ничего, решительно ничего, что могло бы объяснить эту с трудом сдерживаемую радость, это рвущееся наружу торжество, заставившее позабыть даже об осторожности.
– Вчера вечером восстала Варшава.
Холодная дрожь. Будто под ногами вдруг разверзлась пропасть. Но нет, не может быть, это какой-то бред… И чему они собственно радуются?
– Вчера вечером.
Круглое лицо сияет. Адвокат захлебывается своей новостью. Видимо, он не понял, почему побледнели его собеседники, почему сдавлены их голоса и дрожат руки.
– Что же теперь будет?
– Как – что будет? Варшава будет свободна.
– Но ведь их в два-три дня подавят…
– Ну что вы, почему подавят? А советские войска? Ведь советские войска могут очутиться там как раз за эти два-три дня.
Безумный политик танцует на ниточке над пропастью. Хлопает в ладошки, радуется. Он ничего не знает, ничего не хочет понимать, кроме одной цели – захватить в свои руки власть. Он хочет доказать этим людям, говорящим от имени народа, что они – ничто, что не они будут ставить условия, а он, только он. Не войти советским войскам освободителями в польскую столицу, не посыплются цветы к ногам солдат Первой польской армии. Благодаря ловкому маневру с восстанием советские части, вступая в Варшаву, должны будут вести переговоры с правительством, уже держащим Варшаву в своих руках.
Ох, как он счастлив, этот адвокат. Как сладко чувство удовлетворения, вознаграждающее его за неприятные часы, которые он пережил, когда заявил, что вести переговоры – пожалуйста, но непосредственно с Советским Правительством, а не с самозванцами, именующими себя Комитетом Национального Освобождения, и получил твердый и недвусмысленный ответ, что судьбу Польши определяют сами поляки. Советское Правительство ответило, что может помочь в переговорах, но не станет вмешиваться во внутренние польские дела; и не к чему вести переговоры с Советским Правительством, раз существует представляющий Польшу Комитет Национального Освобождения.
И вот теперь, посредством этого восстания, удалось все спутать. Теперь уж Советскому Правительству волей-неволей придется разговаривать с ними, а не с этими наглецами из люблинского Комитета Освобождения. Занятые улицы, занятые здания, правительство, воевода, староста, войско, полиция, возникшие словно по мановению волшебного жезла. Сюрприз, какого никто не мог ожидать…
– Три дня? – спрашивает Шувара. – Вы, по-видимому, не ориентируетесь в положении. Фашистские войска сконцентрированы в районе Варшавы. Советская Армия после трехмесячного кровавого наступления должна подготовиться. Вы знаете, что значит подтянуть тылы, пополнить вооружение, подготовиться к форсированию Вислы, захватить плацдармы? Неужели вы думаете, что Варшаву можно взять немедленно, с ходу, фронтальной атакой?
– Но ведь Советская Армия так близко.
– И что же из этого? Вы там были? Разве такие вещи измеряются только циркулем по карте? Три месяца наступления. Вы понимаете, что это значит? А вы говорите – три дня. Надо быть безумцем, слепым безумцем, чтобы говорить о трех днях. Надо рассчитывать не на дни, а на недели, быть может – на месяцы.
Теперь бледнеет адвокат. Улыбка сползает с его лица. Желтые мешочки морщинистой кожи под глазами подергиваются, побелевшие, как мел, губы безвольно раскрылись.
– Но ведь в таком случае…
– Вот именно. В этом все дело. Вы послали на смерть сотни тысяч поляков, обрекли на разрушение столицу… Вы еще ответите когда-нибудь за это безумие, на которое толкнули людей… Как вы могли, как могли…
Теперь все ясно. Вот чего они ожидали. Вот какую карту припрятали в рукаве, воображая, что сыграют наверняка, что это козырный туз. Идиотское, изменническое преступление проигравшихся шулеров, заранее битая карта…
Но эта битая карта – это город, город. Воля и Охота, Мокотув и Маримонт, Повислье и Черняковский район, улицы, извилистые переулки Варшавы, любимые места, знакомые с детства площади, где каждый камень полит слезами и кровью. Родная Варшава, обреченная сейчас, в последние недели перед освобождением, на кровавую баню, на смерть и разрушение.
Руки адвоката дрожат. Испуганный взгляд. Но постепенно он успокаивается. Нет, он не верит, не может поверить, чтобы столь хитроумно задуманный план мог рухнуть.
– Но ведь советские войска…
– Советские войска… А вы договорились с командованием Советской Армии? Поставили его в известность о своих планах? Ознакомились с положением на фронте, выяснили возможности освобождения Варшавы?
Конечно, нет. Этого они не считали нужным.
– Ведь любому ребенку ясно?..
«Любому ребенку»… Если бы и вправду спросить любого ребенка там, в Люблине, под Люблином, по дороге на Прагу, он ответил бы, что не так-то скоро можно освободить Варшаву. Но эти люди и не думали никого спрашивать. Они создали свой план, ни с кем и ни с чем не считаясь, ослепленные, завороженные одной целью – не допустить в столицу польскую армию, которая в их глазах была армией коммунистов, и, главное, любой ценой не допустить в Варшаву людей, которые могли претендовать на посты в правительстве, на решение судеб Польши.
Нет, они еще не верят в катастрофу, хотя усомнились в своем успехе. Сверлят глазами, стараются понять, в чем таится мнимое коварство их противников. Пытаются спастись, закрывая глаза на действительность. Они не хотят, чтобы так было, они хотят, чтобы было иначе – и поэтому верят, что оно и есть иначе. Так им удобнее. Член лондонского правительства, снова во всеоружии своей любезной улыбки, вежливо склоняет голову, изображая внимание к словам собеседника:
– Я полагаю, господа, вы ошибаетесь. Потому что…
Какая еще гнусность слетит сейчас с этих тонких губ? Мгновение он молчит, как бы соображая что-то.
– Потому что… ведь не можете же вы, господа, полагать, что Советская Армия, ввиду возникшей ситуации… нарочно воздержится от дальнейшего наступления?
Шувара вздрогнул от негодования.
– Мы ни с кем не разговаривали об этом. Никто не говорил нам и никто не должен был нам говорить, когда и на каком фронте ожидается следующее наступление, когда предвидится операция по освобождению Варшавы. То, что мы говорим, мы говорим на основе собственных наблюдений. После трех месяцев непрерывного наступления, пройдя сотни километров, войска закрепились под Варшавой. Подготовка нового большого наступления, да еще с форсированием такой широкой водной преграды, требует времени, это известно всякому, кто хоть немного понюхал войну.
Но эти люди и не нюхали войны. И подходят к ней не с мужеством воина, а с расчетами политических спекулянтов. Поэтому говорить с ними больше не о чем.
На столе не сукно – лужа крови. В Варшаве льется кровь, рушатся дома, пылают улицы. И этого уже ничто не отвратит, если… Если это не ложь, не глупая и грубая хитрость, пущенная в ход для достижения каких-то неведомых преимуществ при переговорах.
Но уже на другой день оказывается, что, к сожалению, это не ложь, а горькая, страшная истина. И переговоры сходят на нет. Становится понятным, что цель этих людей заключалась лишь в том, чтобы ошеломить представителей Комитета Национального Освобождения неожиданностью, продиктовать им свои условия, восторжествовать. Но там, за Вислой, горит, утопает в крови и пламени Варшава. Американо-английские лакеи хотели, чтобы она была главным козырем в их шулерской игре, и она стала гигантским костром, подожженным руками преступников. Нет, уже не высадятся в ней с самолетов лондонские «министры» – льется кровь на баррикадах. Немецкие силы, находящиеся в районе Варшавы, о которых знали в Москве и в Люблине, но, по странной «случайности», не знали в Лондоне, несмотря на регулярную связь «лондонцев» с их варшавскими сторонниками, – танковая дивизия, дивизия эсэсовцев, саперные части обрушились на злосчастную столицу.
Козырь перестал быть козырем. Уяснив себе это, увял член лондонского правительства. В сущности ему не о чем говорить. Не для переговоров, не для установления отношений он приехал сюда, а лишь для того, чтобы блеснуть «гениальным» лондонским планом, поразить неожиданностью, продиктовать условия. Не удалось. И вот сонно тянется еще один томительный, бесплодный, никому не нужный разговор. Мягкий голос, но каждое слово взвешено. Да, разумеется, все принципиальные вопросы обсуждены. Положение ясно. Но сам он не имеет полномочий решать. Он должен вернуться в Лондон, информировать, согласовать. Ответ будет дан тотчас по возвращении в Англию. Конечно, медлить больше нельзя, медлить нет никаких причин. Если все пойдет хорошо – кто знает, быть может достаточно будет нескольких дней, чтобы вернуться сюда, поехать в Люблин, включиться в работу по строительству Польши.
…Медленно, тяжко тянется день. Шувара тихо идет по улицам Москвы.
Улетели. Помчались в свой Лондон. Будут там финтить – совещаться, договариваться, – как бы еще купить и продать, как еще поторговать жизнью и смертью народа, как еще попытаться спасти свою призрачную власть, свои иллюзорные посты, как еще лечь колодой поперек дороги новым дням, поперек пути той новой Польше, которой они не хотят, которую ненавидят, которая им чужда и далека…
Нет, никто не заблуждается относительно их скорого возвращения. Провокация с варшавским восстанием дала осечку – им нужно придумать что-то новое, придумать любой ценой, чего бы это ни стоило стране и народу.
Глухо раздаются шаги на асфальте московской улицы. Город, огромный город, прекрасный город, как горько мне ходить сегодня по твоим улицам, когда там, в моем городе…







