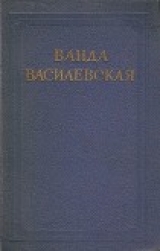
Текст книги "Том 4. Песнь над водами. Часть III. Реки горят"
Автор книги: Ванда Василевская
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 33 страниц)
Солнце пекло, но в лугах стояли буйные, еще свежие травы, и овцы бродили сытые, довольные, пощипывая сочные травинки или невзрачные, но, видимо, особо ароматные цветы и листья. Днем Тянь-Шань казался расплывчатой лиловой тенью на небе. Утром и вечером он переливался жаркими красками, как пылающий уголь.
Три недели Ядвига пробыла на горных пастбищах. Эти три недели промелькнули, как сон. Они полны были зелени и беспредельной голубизны, они растаяли в просторе, слились с ним так, как сливались воедино небо и земля, теряя свои границы.
В совхозе Ядвигу встретили новостью.
– Есть новенькая, – сказала госпожа Роек.
– Новенькая? Кто такая?
– Полковница! Может, помнишь, была с нами на пристани, а потом в теплушке, такая в черной шали.
– Полковница! Да не может быть! Что она тут делает?
– Так сразу и делает? Вот уже три дня присматривает себе работу. Нелегко выбирать, шутка сказать – полковница! А живет в комнате, что, помнишь, весной перестроили из чулана.
– Ведь ее должны были дать Матрене?
– Ну да, а Матрена согласилась остаться в общежитии, потому что та стала скандалить, что не может жить в казармах. Вот ей и дали комнату, полковнице.
– Интересно, как она тут очутилась?
– Говорит, ее там травили. Так она, мол, и без них обойдется. Уж как-нибудь, говорит, на себя заработаю.
– Что ж, посмотрим.
Полковница Жулавская мало изменилась с того времени, как они были на Сыр-Дарье. Те же тонкие, кисло поджатые губы, то же бесцветное, сухое и сердитое лицо. Только шерстяной платок сняла, что, впрочем, принимая во внимание температуру, было вполне объяснимо. И еще оказалось, что она собственно не была полковницей, а только тещей полковника.
– Странно, почему вам не предложили ехать в Иран? – притворно удивлялась госпожа Роек.
– В Иран… Вы не знаете, как это делается? Взяли кто помоложе, покрасивее, а что ж я? Старуха. Кому я нужна? – ядовито рассказывала полковница, исподтишка осматривая комнату.
– А вы, кажется, уже давно проводите здесь время? Как устроились?
– Да вот, как видите. Много ли человеку надо? Выла бы крыша над головой да кусок хлеба.
– Да, да… Потребности у людей, конечно, разные.
– Как так? – не поняла Роек, но госпожа Жулавская не сочла нужным объяснить. Она сидела прямая, напряженная, словно пришла с официальным визитом.
– И что ж, вы так и удовлетворились этой… физической работой?
– А почему бы не удовлетвориться? По правде сказать, что еще я могла бы делать, – рассуждала госпожа Роек. – Образования я не получила, какая же может быть не физическая работа? А как свинарка я могу еще и рекорды ставить, вот оно как!
Жулавская брезгливо поморщилась.
– Да, разумеется… А вы, – обратилась она к Ядвиге, – тоже к свиньям приставлены?
– Нет, я к овцам.
– К овцам… Ага…
– А вы что намерены делать? – в упор спросила Ядвига, которую раздражало презрительное выражение на лице гостьи.
– Я? Да вот… осматриваюсь. Хотя, что поделаешь, может и меня загонят в какой-нибудь… коровник? В конце концов ведь я в полной зависимости от их милости. Вот до чего довели меня дорогие соотечественники! Впрочем, вы читали в последнем номере «Польши»? Сам посол заявил, что нам придется жить своим трудом.
– Мы посольский журнал не читаем, – сухо отрезала Ядвига.
– Но я вас уверяю – посол именно так и сказал! «К сожалению, говорит, к сожалению, каждому придется жить своим трудом…» Конечно, господину послу легко говорить «к сожалению». Он-то ни в чем не нуждается. Что ему до того, что такой женщине, как я, пришлось скитаться, просить подаяния у большевиков? Выразил сожаление – и считает, что выполнил свой долг… Впрочем, посол говорит о тех, кто уезжает. Оказывается, в Иране они тоже не могут ничем людей обеспечить.
Госпожа Роек шумно вылила в корыто воду, подогревшуюся на печке, и принялась засучивать рукава.
– А чем же их там должны обеспечить? Ишь ты, как всякому охота на готовые хлеба… Ничего, пусть поработают, не помрут от этого.
– Конечно, – процедила сквозь зубы Жулавская, – если кто к этому привык…
– А конечно! С малых лет работаю – и ничего, жива еще. Уж мы-то работы не боимся; правда, Ядзя? – весело бросила она Ядвиге, старательно латавшей штанишки Олеся.
– Впрочем, – еще высокомерней и злее процедила сквозь зубы Жулавская, – все это скоро кончится.
– Что кончится? – удивилась госпожа Роек.
– Война.
– Вы полагаете?
– Конечно. Вы же знаете…
Да, они знали. Радостные весенние дни кончились. В глухом молчании, со сжимающимся сердцем люди слушали теперь сообщения Советского Информбюро. Остановилось наше наступление под Харьковом. Керчь была в руках врага. Не оправдались радостные обещания весны – лето было трудное, горькое лето тяжелых оборонительных боев.
– Мы должны работать вдвое больше, вдвое лучше. Мы должны напрячь все силы, чтобы помочь фронту, – говорил Павел Алексеевич, и все именно так и понимали. – Здесь тоже фронт. Мясо наших свиней, коров, наше зерно кормят солдат. Пища так же нужна, как и патроны. Шерсть наших овец одевает солдат, – одежда так же нужна, как и оружие. Мы трудимся для фронта, мы также являемся частью этого фронта, только в лучших условиях: над нами не висит смерть, нам не угрожают ни бомба, ни пуля. Тем более мы должны выполнить свой долг.
Да, это было именно так. Павел Алексеевич говорил то, что думали, что сознавали они все.
Чувствуя под руками мягкое серебристое овечье руно, Ядвига думала о том, что оно превратится в сукно солдатской шинели, солдатской гимнастерки. Солдат, который наденет эту шинель, никогда не узнает, кто с мыслью о нем любящими руками ухаживал за овцами на далеких пастбищах и лугах Тянь-Шаня. Да и Ядвига никогда не узнает, кто надел шинель из шерсти выращенных ею овец. Может быть, Стефек, а может быть, и Петр? Нет, скорее всего это будет неведомый человек, фронтовик, которого она никогда в жизни не видела. Но с этим неведомым человеком ее связывали узы более крепкие, чем со многими, которых она хорошо знала. Ради него она дежурила по ночам, когда ягнились овцы. Ради него вскакивала на рассвете, чтобы выпустить их из ограды. Ему были посвящены все часы ее труда, все ее заботы, все ее мысли и чувства. Особенно теперь, когда фронтовому солдату так трудно, особенно теперь нужно помогать ему всеми силами не только рук, но и сердца.
Что же тут рассказывает эта дамочка, которая, пробездельничав год, решила, наконец, взяться за работу, да и то еще не совсем решила – вот уже три дня только «присматривается». Почему она считает, что война скоро кончится, хотя враг не изгнан и даже еще дальше проник вглубь страны?
– Но это же совершенно ясно, – отвечала Жулавская. – Правда, целый год большевики продержались. Но ведь все заранее знали, что против немцев они не устоят.
Роек стирала так, что только брызги летели. Но тут она остановилась и подняла от корыта свое раскрасневшееся лицо.
– Что вы там рассказываете! Как бы там ни было, а фашистов они разобьют.
– Вы полагаете? – насмешливо взглянула на нее полковница.
– Что мне полагать! Ведь говорил Гитлер: «в два месяца войну кончу»? Видите, какие это два месяца… А под Москвой осенью его не побили? А весной не били?
– И вы верите? – спросила полковница тихо.
– Во что это?
– В эти победы…
– Во имя отца и сына! Чего ж тут верить или не верить? Это всем известно!
– Ах, известно… А вы там были? Сами все видели? Написать в газетах или сказать по радио можно что хочешь.
– Ну, знаете, это уж, я вам скажу… – захлебнулась от негодования госпожа Роек. – До такого додуматься!.. Что же, по-вашему, гибель миру пришла, что ли?
– Нет, почему же гибель? Англичане…
– Только уж вы мне об англичанах не рассказывайте! Видела я, как они Польше помогали. Уж мы-то на договор с ними надеялись, да… Как бы не так! Гитлер летал, сколько хотел, бомбил Варшаву, как хотел, а где англичане были? Рассказывают, что когда эти ваши англичане через три дня надумали объявить Гитлеру войну, так варшавяне на радостях манифестацию устроили перед их посольством… А много ли нам помогло их объявление войны? Хоть бы один самолет нам прислали, хоть бы одну бомбу на Берлин тогда сбросили! И теперь то же самое. Большевики уже год дерутся, а те все только болтают да болтают! Еще осенью этот их – ну как его?.. – приезжал в Москву. Опять договор заключили… А помощь где? Пальцем не шевельнули. А здесь, поглядите кругом, много вы тут мужчин видели? Все на фронте…
– Ну, это уж, так сказать, область высшей политики. Не станете же вы требовать, чтобы англичане лили кровь в защиту большевиков?
– Почему не стану? И почему в защиту большевиков? В свою, в свою защиту! Бомбил же их Гитлер там, в Лондоне, учил уму-разуму. А они и себя-то защитить не умеют… А может, даже и снюхались с ним, кто их знает!
– Ну, сударыня, это уж слишком!
– Нет, нет, об англичанах вы мне лучше не говорите. Уж что я вижу, то вижу, тут вы меня с толку не собьете. Если большевики Гитлера не побьют – никто его не побьет. А если его не побьют, что же будет? Никто из нас родного дома не увидит… Хоть бери веревку и вешайся, пока тебя немцы не повесили!
– Не всех же они вешают, – вставила полковница.
– Не всех? Так вы, наверно, не знаете, что там у нас творится? Покажи-ка, Ядзя, этот номер «Новых горизонтов»…
– «Новые горизонты»? – удивилась Жулавская.
– Ну да, польский журнал, который выходит в Куйбышеве…
– Да ведь орган посольства называется «Польша»?
– Э, что вы там из этой «Польши» узнаете?.. Все так же брешут, как до войны… Я даже удивляюсь, как им позволяют издавать эту «Польшу», только людям голову морочат! Вот почитайте-ка это, сами увидите…
Ядвига неохотно вынула из ящика номер журнала и, не говоря ни слова, подала гостье. Жулавская осторожно, двумя пальцами, словно боясь запачкаться, перелистала его и довольно быстро дала заключение:
– Это большевистское издание.
– Почему большевистское? Поляки издают – вот, прочтите фамилии.
– Что фамилии! И среди поляков всякие бывают, это давно известно.
В сердце Ядвиги медленно, но неудержимо нарастал гнев. Она чувствовала, как он поднимается, подступает к горлу. Глазами, потемневшими от злобы, она глянула на эту тупую и чванливую женщину.
– Одного только я не понимаю… – начала Ядвига таким необычным, сдавленным голосом, что Роек удивленно взглянула на нее.
– Простите, чего вы не понимаете? – любезно спросила полковница. Она все время была любезна, подчеркнуто любезна. Но Ядвига чувствовала, что вся манера Жулавской рассчитана на то, чтобы они поняли ее превосходство, чтобы они знали, какая это уступка с ее стороны сидеть и разговаривать с ними.
– Не понимаю, почему вы не остались в городе? Чего вам здесь надо? Ведь те господа – как раз подходящее общество для вас.
Полковница величественно поднялась.
– Это уж мое дело. Могу вас уверять, что если бы я искала общества, то, разумеется, не здесь. Но я, кажется, мешаю вам предаваться вашим занятиям…
Они не стали ее удерживать, и полковница, презрительно пожав плечами, все так же величественно выплыла из комнаты.
Все следующие дни она продолжала «присматриваться» в поисках работы, достойной ее общественного положения. Постепенно выяснились некоторые подробности, частично объясняющие ее неприязнь к людям, с которыми, казалось бы, она должна была во всем сойтись. Во-первых, она была не полковницей, а лишь тещей полковника. Во-вторых, этот полковник в сентябрьские дни тридцать девятого года, погрузив чемоданы в лимузин, забыл, в качестве дополнения к чемоданам, захватить и жену; ее место в лимузине заняла некая панна Мушка, машинистка из его отдела. Тем меньше, разумеется, думал он о теще. Лимузин с панной Мушкой, с полковником и чемоданами, в одном из которых заключались меха и драгоценности полковницы, благополучно добрался до румынской границы. И вот свое священное негодование против зятя госпожа Жулавская перенесла на все эмигрантское правительство и его армию. Вдобавок перед поездкой в Южный Казахстан она поссорилась с дочерью и очутилась в городке одна-одинешенька, надоедая встречным своими претензиями и кислыми замечаниями о «наших господах министрах» и «нашем генералитете». В отместку уполномоченный посольства и вся его канцелярия с большим удовольствием заговорили о том, что она вовсе не полковница, а только выдает себя за нее. В конце концов отношения настолько испортились, что Жулавская решилась на «героический» шаг: уехать в совхоз. Они еще пожалеют, что вынудили ее просить помощи у большевиков! Пусть, пусть все узнают, как у нас поступают с людьми! Подумать только: она – теща полковника, вдова помещика, женщина из хорошей семьи, брошена в большевистский совхоз, на тяжкий труд, на унижение и обиды…
В глубине души ей не верилось, что с ее решением так легко примирятся. Они поймут, что наделали, они испугаются, будут искать выход из неловкого положения. За ней приедет сам Лужняк, извинится, попросит прощения. Ну, разумеется, она не так-то легко простит, пусть они еще подождут, помучатся, прежде чем она согласится вернуться в городок. Правда, никто ее не удерживал, когда она оттуда уезжала, – но это, конечно, потому, что они не верили в серьезность ее решения. Теперь небось спохватились… Можно себе представить, какой скандал там разразился!
Но пока что-то никто за ней не ехал. Между тем здесь на нее уже косились, и – что самое странное! – не большевики, а свои же поляки. Павел Алексеевич сразу дал ей комнату. И в столовке, когда она приходила поесть, ее ни о чем не спрашивали. А вот эти две подозрительные женщины, польки, оказались хуже всяких большевиков. Эти не упускали ни одного случая, чтобы не сказать что-нибудь о дармоедах или не спросить ее, как она себя чувствует и не утомилась ли, боже упаси… А сами работали совсем как простые бабы. Босиком, повязав головы ситцевыми платками, они копались в навозе, словно ничего другого в жизни не видели. И что за разговоры они ведут! О баранах и овцах, о свиноматках и хряках, грубые, бесцеремонные разговоры, в которых все вещи называются своими именами. И с каким непостижимым, дикарским увлечением они говорят о корме для свиней, об овечьем руне! Госпожа Жулавская даже удивлялась, что все это говорится по-польски. Она бы еще поняла, если бы об этом разговаривали здешние большевики или «хохлушки», которых здесь была уйма, но польки? «Впрочем, какие это, прости господи, польки!» – утешала себя Жулавская, наблюдая с насмешливой улыбкой, как потная, запыхавшаяся Роек купает в корыте поросят и с увлечением рассказывает что-то помогающей ей девушке. И этот язык! Она сама знала русский – ведь она воспитывалась в Царстве Польском. Но разве это русский язык? Странная смесь: украинские и казахские слова, каждый говорит, как хочет. И этот дикий современный советский жаргон. Сокращения, которыми все легко оперировали, даже и эти две…
Часы еды стали для нее часами пытки. Жестяные ложки были выщерблены, тарелки сделаны из грубого сероватого фаянса… Но не это было самое плохое. Больше всего ее мучила мысль, что вот она сидит за одним столом со скотницами, со всякими свинарками, доярками, которых она не пустила бы к себе в дом даже в качестве прислуги. А тут они нисколько ее не стесняются, ставят локти на стол, шумно выскребают ложкой тарелки, подбирают остатки еды хлебом.
Жулавская сидела за столом, неестественно выпрямившись, прижав локти к бокам, ела маленькими кусочками, всячески подчеркивая изысканность своих манер. Морщась, жевала черный хлеб и со скучающим лицом, выражающим покорность судьбе, медленно черпала ложкой гороховую похлебку. Ядвиге тошно было глядеть, как Жулавская, осторожно помешивая ложкой суп, взирает на него, как на нечто совершенно несъедобное. Весь процесс еды Жулавской был сплошным актом мученичества и тихим, но красноречивым протестом. И Ядвига с изумлением заметила в себе новую черту: ей совсем не хотелось избегать этой женщины – наоборот, хотелось с ней встречаться, преследовать ее, ссориться с ней.
– Вы, кажется, давитесь этим хлебом? – тихонько спрашивала она, глядя, как морщится полковница, жуя хлеб.
Та поднимала глаза к небу.
– Хлеб… Разве это можно назвать хлебом?
– Вы бы предпочли булку, не правда ли?
Жулавская пожала плечами.
– Ну, ясно. Вы предпочли бы булку. И, разумеется, даровую. А на фронте пусть бы хоть с голоду мерли. Вы знаете, сколько муки нужно для фронта?
– Меня эти дела не интересуют, я в этом не разбираюсь.
– А в чем вы разбираетесь? В том, чтобы жить на даровщинку и объедать совхоз?
– Ужасно я его объела… И вообще я не знала, что вы здесь ведете бухгалтерию.
– Вы прекрасно знаете, что я не веду бухгалтерии. Просто мне неприятно смотреть на паразитов.
– Прошу оставить меня в покое, это не ваше дело.
– А чье же?
– Даже этот… директор ничего мне не говорит.
– Очень жаль. Но мы тем более обязаны вам это говорить.
– Это почему же?
– Потому что у вас стыда нет. Потому что вы всех поляков срамите.
– Скажите пожалуйста, какой патриотизм… Я даже не думала, что вы считаете себя полькой.
Лицо Ядвиги потемнело.
– А кем же мне себя считать?
– Не знаю, не знаю… – кисло улыбнулась Жулавская. – Я полагала, вы считаете себя… местной.
– Местные здесь разных национальностей.
– Вот именно.
– Да оставь ты ее в покое, – вмешалась, наконец, Анастасия Петровна. – Что уж, старуха она и работать не привыкла. Трудно ей.
– Она моложе вас. А вам разве не трудно?
– Мне-то? Нет, мне не трудно. Ведь для кого работаем? Для фронта, а там и моя Фрося. Да и кроме того… Живу я давно, много чего в жизни видела. Молодость у меня пропала зря. Я тогда в помещичьей усадьбе работала. У графа. Вот где было трудно! Эх, что вы теперь знаете, что вы можете знать!.. Бывало, каждую корку слезами поливаешь. А сейчас что? На своем работаю. Почет, уважение имею. На старости лет читать-писать меня советская власть научила. Фермой дали мне заведовать, доверили. Даже в газетах про меня писали. А что я раньше была? Темная, безграмотная девка, которую всякий мог обидеть. Я как подумаю о своей молодости, так уж и не знаю, когда я была молода, тогда или теперь? Эх, если бы не война, если бы не война! Посмотрела бы ты, какая бы у нас тут жизнь была! Ведь уже вылезли из нужды, уже вышли на широкую дорогу. Кому это снилось в старые времена, чтобы и клубы, и библиотеки, и театр, и кино – все чтобы для простого человека было! Я вон и на съезды ездила, и перед правительством с трибуны выступала, и сам Сталин слушал, когда я говорила… А ты говоришь, трудно, мол, мне. Нет, я своих лет и не чувствую, работа моя веселая и старость у меня молодая, да и какая это еще старость! Эх, кабы не война… А теперь ты на Жулавскую погляди – что она в жизни знала? Кислая, видать, была жизнь, хоть не голодная и не трудная, но и безрадостная, если она так безо времени постарела. Да и сейчас… От дому далеко, всех своих с этой войной порастеряла, тоже не легко человеку.
– Даром вас объедает, могла бы работать.
– Э, милая моя, сколько уж там она съест… Попрекаете вы ее, попрекаете – и что из того? Сами себе кровь портите – и все… А вы внимания на нее не обращайте, лучше будет.
– Вы бы послушали, что она говорит про вашу страну…
– А пусть говорит. Не отвечай ты ей, так она и говорить не станет, не перед кем будет. С людьми надо терпение иметь.
Но Ядвиге казалось, что все они тут чересчур терпеливы – и Анастасия Петровна и Матрена. Даже Павел Алексеевич спокойно относился к тому, что госпожа Жулавская все еще «присматривается», и не настаивал, чтобы она, наконец, приступила к какой-нибудь работе.
– Жаль мне ее, – объяснял он Ядвиге. – Негодяй-офицеришка бросил старуху на произвол судьбы, обокрал жену… С дочерью она не поладила и осталась одинокая, бездомная, непривычная к работе… Что уж ей кусок хлеба жалеть? Пусть привыкнет, присмотрится, самой захочется что-нибудь делать.
Ядвига слушала, потупив глаза. Да, здесь люди добры чуткой, терпеливой добротой. Они как будто забывают о том, что сами страдают от войны, что война разметала и их гнезда, что смерть подстерегает их близких. Как они работают! Напряженные, как струна, они работают с единственной целью – помочь фронту! Победить, спасти великую советскую родину! И все же они находили в себе сочувствие к этой чужой и неприятной женщине, которая явилась сюда незваная и ничем не желает помочь им. Ядвиге было непонятно, почему они прилагают к себе одну мерку, а к этой Жулавской – другую. От себя они требовали работы сверх сил, спокойствия, непоколебимой веры. От нее не требовали ничего и еще ее жалели. Этот Павел Алексеевич, потерявший руку на фронте, не жалел себя, словно не на него свалилось несчастье, – а жалел эту чужую женщину, тещу полковника из далекой страны. Он умел прочувствовать ее горе – пусть даже она сама была его причиной… Да, и здесь ссорились, и здесь были симпатии и антипатии, и здесь были споры, – но все это было каким-то иным. Без желания принизить, без зависти, без обиды. Люди здесь были добры – простой и мудрой человеческой добротой. Здешние девушки, может, и не умели есть так изысканно, как госпожа Жулавская, и девушка-зоотехник не знала, что к светлому платью не принято надевать темных чулок; но они знали тысячи вещей, о которых ничего не было известно госпоже Жулавской, и они излучали какой-то внутренний свет, который теплой волной охватывал Ядвигу.
– Да, дитя мое, работаю я в этом хлеву, гляжу на этих свинарок, – изливала душу госпожа Роек, – и знаешь, что я тебе скажу? У нас кричали, что в этой «большевии» никакой культуры нет, наши насмехались, что здесь галстука завязать не умеют, что не так вилку держат… А я вот смотрю на них и думаю – далеко еще нам до них. Хо-хо! Вот этому бы научиться. Галстук завязать всякий хам, всякий Лужняк сумеет. А вот как у них… Я уж не знаю, что со мной и делается, будто другим человеком стала, другими глазами на свет гляжу. Нет, уж теперь я бы не стала терпеть того, что раньше всю жизнь человек терпел. И скажу, дитя мое, что вот вернемся мы домой, так работы будет, работы! Подумать страшно…
– Если Лужняк вас впустит… – улыбнулась Ядвига.
– Да, вот еще и Лужняк… Я думаю, что за них тут, наконец, примутся. Ты слышала, Павел Алексеевич говорил, что опять какие-то мошенничества обнаружены? Между нами говоря, я бы всех этих уполномоченных посольства разогнала на все четыре стороны. Читала в журнале? Оказывается, то, что у нас тут делается, вовсе не исключение, всюду одно и то же – дорвались до пирога, живут на наш счет да еще нам же и головы дурманят. Шувара рассказывал про их газетку, что они в Иране издают, так это ужас что такое! И не скажешь, кто пишет, гитлеровцы или наши… А ведь все это для солдат! И что они с этим Ираном думают, скажи ты мне? Всю войну на печке переждать? Я уж эти сводки просто слушать не могу, сердце сжимается, страшно на карту посмотреть. Столько крови, столько горя. А те сидят в Иране!
«Полковница» тоже слушала сводки. Маленький черный репродуктор, висящий на улице у входа в клуб, собирал вокруг себя по вечерам все население совхоза. В тяжелом молчании люди выслушивали горькие вести, а потом шли на работу и набрасывались на нее с таким неистовством, словно хотели сразу уничтожить последствия тяжелых событий на фронте.
Не так слушала госпожа Жулавская. Крепко сжав тонкие губы, с непроницаемым лицом, она переживала свое торжество. Всего худшего она желала им, этим большевикам. Они завезли ее сюда, в эту дичь и глушь, только за то, что она была помещицей и тещей полковника. Но теперь неизвестно, кому хуже будет. Куда-то они побегут, когда их припрут с двух сторон гитлеровцы и англичане? Союзники… Конечно, англичане ведь не такие глупые. Помаленьку, потихоньку они дождутся случая и покажут им. Недаром генерал Андерс перевел свою армию именно в Иран…
Но мысль об Иране снова напоминала Жулавской польскую делегатуру в местечке и обиды, нанесенные соотечественниками. Никто что-то не приезжал из польского представительства извиняться, приглашать Жулавскую обратно в местечко… С ней не посмеют так обращаться, когда придут англичане! Культурные люди поймут трагедию покинутой женщины, сумеют надлежащим образом позаботиться о ней. И этого недолго ждать. По всему видно, что развязка приближается. Ведь немцы уже дошли почти до Волги!
Ни посланцы Лужняка, ни сам Лужняк не приезжали в совхоз. Но в один прекрасный день Жулавскую вдруг навестил Малевский. Сперва она подумала, что он явился с официальным поручением, и приняла его сухо, холодно, с достоинством. Однако он сразу развеял ее иллюзии.
– По правде сказать, я с этим Лужняком никаких отношений не поддерживаю…
– Почему?
– Да что ж… – поморщился он. – Ярый сторонник Сикорского!.. Да и вообще там своя братия, и не подступишься… Я просто так заехал, осмотреться, узнать, что они тут думают.
– Кто? Большевики?
– Да. Видите ли, надо на что-нибудь решаться. Самое время! Немцы продвигаются, теперь уже каждому дураку ясно, что войне скоро конец, тут и говорить не о чем. Я сам, черт меня возьми, немного просчитался: был бы в андерсовской армии, теперь бы здесь и след мой простыл… Сидел бы себе за границей. Но кто ж его знал? Сомнительно, конечно, это было, а все же думалось: вдруг и в самом деле пошлют на фронт? Ну уж, думаю, дураков нет! А оказалось, что они взяли да ушли, и остальные, кто еще остался, тоже уйдут, говорят. Но теперь поздно, больше они никого не принимают, вот я и сижу на бобах. А тут, черт его знает, что еще может быть…
– Что вы имеете в виду?
– Да что ж… В один прекрасный день возьмут эти казахи ножи в зубы, да и начнут резать большевиков. И спрашивать не станут, кто не казах – под нож! А с нами что тогда будет?..
– Неужели это может быть, боже мой!..
– А что же? Уж они-то воспользуются случаем. Только нам от этого не легче, потому что и нам попадет. Лес рубят – щепки летят.
– И вы думаете, что действительно…
– Да как же может быть иначе? Легко было в мирное время держать их в ежовых рукавицах. А сейчас чекистов на фронт взяли, так что, как начнется резня, так и пойдет и пойдет… Здесь что об этом говорят?
– Здесь? Я ничего не слышала… Они здесь все еще верят в победу, – растерянно ответила госпожа Жулавская. И вдруг почувствовала злобную радость. И пусть, пусть их всех вырежут. Ради этого она согласна, чтобы зарезали и ее. Лишь бы им пришел конец!
– Но только правда ли это? – вдруг забеспокоилась она. – Ведь вот сюда приезжает Канабек…
– Какой еще Канабек?
– Казах из колхоза. И вроде ничего… В хороших отношениях с директором, разговаривает с ним. И в самом совхозе казахи работают – и тоже как будто все в порядке.
Малевский задумался.
– Эх, знаете ли, это еще ничего не значит. Азиаты коварны. Тихонько, тихонько, ничего по ним незаметно, а потом – как дадут! Это даже лучше, что они так притаились. По крайней мере те ничего не заметят.
– Но как же? – не понимала «полковница». – Ведь и те тоже азиаты?
– Кто – «те»?
– Ну, большевики.
– Ах, да ведь это так только говорится… Ну ладно – все они в общем азиаты. Но эти-то казахи – это уж самые настоящие азиаты, понимаете?
Она кивнула головой, хотя ничего не поняла.
– Но вы вполне уверены, что так будет?
– Да что вы! Как дважды два четыре. Уже вспыхнуло восстание в Башкирии, восстание под Казанью, восстание на севере…
– Правда?
– Это абсолютно достоверные сведения. Абсолютно достоверные. В любой день может начаться, должно начаться и здесь. Известно, конгломерат разных диких племен, энкаведе соединяло это в одну кучу, но теперь – фю-ю – и кончилось… Сейчас главный вопрос: как нам вывернуться из всего этого, как спастись? У меня нет ни малейшего желания пойти на жаркое этим дикарям…
Жулавская задумалась.
– Потому что перейти границу вряд ли удастся, – говорят, здорово ее охраняют, риск большой. Я хотел посмотреть: что тут? Главное – где-нибудь притаиться, переждать, пока англичане не придут. Тогда уж все будет в порядке. Я думал, может, здесь?.. Но если этот Канабек…
– Он сюда по разным земледельческим делам приезжает. К директору – советоваться.
Малевский лукаво прищурил глаз.
– И вы этому верите? По земледельческим… Уж я знаю всех этих казбеков! Приезжает по земледельческим делам, а сам небось так и шныряет глазами, так и высматривает! Наверно, у них уже весь план готов.
– Дорогой мой, но что же мне в таком случае делать?
– Вам? – удивился он, словно все, что он говорил, касалось только его и не имело к ней ни малейшего отношения. – Вам? Ну что ж…
Она молитвенно сложила руки.
– Возьмите меня с собой! Умоляю вас!..
Он остолбенел.
– Кто? Я? Новое дело! Да куда я вас возьму?
– С собой… к англичанам!
– Где еще они, эти англичане… И как я вас заберу? Всякий должен думать о себе.
– Да что же я, старая женщина, могу придумать?
– А может, для вас и лучше, что старая, – может, казахи вас еще и не тронут. Во всяком случае это шанс. Вы говорите, они тут работают?
– Работают, – беззвучно ответила она, мысленно созерцая разверзшуюся под ногами черную пропасть. – Так, может, я лучше вернусь в город?
– Тоже выдумали! там ведь будет хуже. Как раз на город они в первую очередь бросятся, огонька подпустят. А как же, города они в первую очередь захотят занять…
– Значит, нет никакого выхода?
– Почем я знаю! Что вы все меня спрашиваете? Сам выхода ищу. Что ж вы думаете, я столько часов трясся на машине, только чтобы вас навестить? Не те времена… Знал бы я, что делать, вы бы меня здесь не увидели… Да не ревите вы, поможет это теперь, как же! Надо было получше зятька держать, вот и сидели бы теперь в лондонском ресторане да ели омара в майонезе, а не большевистскую гороховую похлебку…
– Как вы смеете!
– А так вот и смею… Просто правду говорю: бывает, не спохватишься во-время – и пиши пропало. Одни евреи выиграют на этом, – заключил он настолько неожиданно, что Жулавская позабыла о собственной обиде.
– Как?
– А так… Что бы ни происходило, они всегда выигрывают… Всегда из всего вывернутся. А человек должен страдать и страдать… А вы как думаете с этим Сикорским, с этим договором с большевиками, это как? Тоже евреи… Уж у них всюду свои есть, они уж умеют сообразить, как им выгоднее…
К вечеру он уехал обратно на попутном грузовике, а Жулавская явилась к ужину мрачная, как ночь. Мрачность свою она так старательно выставляла напоказ, что госпожа Роек не могла не спросить ее, что случилось.
– Что случилось? – Тонкие губы сжались в узкую прямую линию. – Да ничего… Покамест ничего.
– А я уж думала бог весть что стряслось.
«Полковница» страдальчески улыбнулась.
– Нет, нет. Что же могло случиться?.. Покамест…
И она принялась за картофельный суп, не переставая думать, что это, быть может, последний суп в ее жизни. А те все ничего не понимают, едят, разговаривают о фронте, будто, кроме фронта, ничего на свете уже не существует. А то, что их, может, всех через минуту вырежут…







