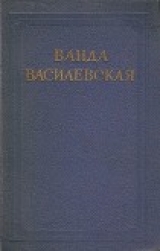
Текст книги "Том 4. Песнь над водами. Часть III. Реки горят"
Автор книги: Ванда Василевская
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 33 страниц)
– Что это! Вы плачете? Что с вами? – смутился Марцысь.
Она сама удивилась, почувствовав на щеках капли слез.
– Да нет же, нет, я не плачу… Ох, Марцысь, ты видел когда-нибудь такое? Так бы, кажется, и не уходила отсюда никогда.
Марцысь помолчал. Он не любил восторгов.
– Дальше тоже будет красиво, – неохотно ответил он. – Пора ехать, а то не успеем вернуться дотемна.
– Да, да, конечно, – вздохнула Ядвига и, движением пловца раздвигая тюльпаны, вышла на дорогу. У самого края одиноко рос цветок. Марцысь мгновение постоял в нерешительности и сорвал его.
– Все равно его тут раздавила бы какая-нибудь машина, – сказал он, словно оправдываясь, но все же не подал Ядвиге тюльпан. И лишь сев за руль, как бы для того, чтобы освободить руки, положил цветок ей на колени. Машина рванулась вперед.
– Уже видны тополя, – сказал через некоторое время Марцысь. Ядвига разглядела вдали котловину, будто чашу среди степи, что-то вроде голубоватого тумана в этой чаше, а вокруг – рвущиеся к небу стройные силуэты тополей.
Вскоре мягкая степная дорога влилась в шоссе.
Машина затряслась по мостовой городка.
Ядвига поежилась, как от холода, когда Марцысь остановил машину перед небольшим домиком с верандой.
– Это здесь. Может, мне пойти с вами?
– Да, да, пожалуйста, – шепнула она.
«Опять запугана, опять боится…», – подумал Марцысь. Свободная улыбка и спокойное выражение, которые делали ее такой красивой на прогулках с детьми и там, среди пламенеющего моря тюльпанов, теперь погасли. Стоя на тротуаре, смущенно и неловко обдергивая на себе платье, она казалась маленькой и жалкой. Ему пришлось слегка подтолкнуть ее к крыльцу. Глупо было спрашивать, не пойти ли с ней. Разумеется, надо идти. Ведь заранее известно, что одна она растеряется. При каждом столкновении с новыми людьми она всегда становится такой несчастной. Тем увереннее Марцысь постучал в дверь, на которой висело тщательно выведенное печатными буквами объявление: «Прием от одиннадцати до двух». Не ожидая ответа, он нажал дверную ручку.
В небольшой комнате сидело порядочно народу, но было сразу заметно, что это не посетители, а персонал. Слышался то усиливающийся, то ослабевающий говор. В углу мужской голос, ежеминутно прерываемый взрывами подавленного смеха, рассказывал, по-видимому, какой-то анекдот. Парень с минуту колебался, к кому бы из этих занятых своими частными делами людей ему обратиться. Наконец, он заметил маленький столик в углу. Барышня с тщательно уложенными волосами и накрашенными сердечком губами подняла на него глаза.
– К уполномоченному?
Она приподняла тонкие, нарисованные брови.
– Не знаю, есть ли у него сейчас возможность принять вас.
– Прием, кажется, от одиннадцати до двух? Сейчас двенадцать.
Брови поднялись еще выше, холодный голос стал еще холоднее.
– Да, прием с одиннадцати. Но господин уполномоченный сейчас занят. Может быть, вы потрудитесь завтра?
Марцысь покраснел.
– Мы двести километров ехали. Ежедневно делать такие экскурсии… Наконец, эта дама получила письмо с предложением явиться.
– Письмо? Ах, тогда другое дело… Что ж вы сразу не сказали? В таком случае… Сейчас узнаю.
Она встала, обмахнула пуховкой носик и, слегка покачивая бедрами, обтянутыми плиссированной юбочкой, направилась в другую комнату. Мгновение спустя она снова появилась в дверях.
– Будьте любезны обождать, господа.
Марцысь огляделся и, бесцеремонно взяв стоящий у столика секретарши стул, подал его Ядвиге.
– Садитесь. Да садитесь же! – вышел он из терпения, видя, что она колеблется. Она неловко присела на краешек стула и устремила глаза в пол. «Ну, конечно, – злился он про себя, – уже потерялась и съежилась, как испуганный ребенок. И кого боится? Этих хихикающих, накрашенных девиц? Этих наглых хлыщей в тщательно отутюженных брюках? Вот уж нашла кого…»
Кто-то из стоящих у печки мужчин окинул его ироническим взглядом. Парень покраснел от гнева и вызывающе выставил вперед ногу в заплатанном, рваном сапоге. Пусть хорошенько рассмотрят и эти сапоги, и потертый, порыжевший ватник!
– Пять минут ждем, потом входим, – заявил он Ядвиге.
Та опять испугалась:
– Да ведь нельзя, ведь сказали подождать?
– Вот именно. А времени у нас наверняка меньше, чем у этого господина, который заставляет нас ждать. Да не пугайтесь вы так, – шепнул он со злостью, перехватив ее испуганный взгляд. Ну, ясно, она боится этой стервы за столиком. Наверно, та кажется ей замечательно красивой со своими взбитыми волосами и раскрашенной мордой. Небось заметила и ее туфельки – новенькие, из какой-то прелестной мягкой кожи. Вон как прячет под стул свои старые, стоптанные туфли, как нервно мнет в руках платочек. Марцысь злился все больше. Ведь в совхозе Ядвига вела себя как настоящий товарищ и работала так, что Павел Алексеевич просто слов для похвалы не находил. А тут вдруг сидит дура дурой.
Он почувствовал себя обиженным не только за нее и за себя, но и за всех работающих в совхозе, в колхозах. Перед чем она здесь так робеет? Почему, вместо того чтобы посмотреть свысока, с презрением на этих господ, она смущается, ежится, хочет стать незаметной? Кажется, ей-то стыдиться нечего! И перед кем? Ведь это не просто пошлые бабенки, нет, это банда паразитов, живущих за счет чужого горя, нищеты и дурацкой беспомощности. Ох, как он их ненавидел, как он их всех ненавидел! Живут, будто ничего не случилось, будто не лежит в развалинах Варшава, не погибли десятки и сотни тысяч людей. И будто не проливает свою кровь эта страна, где они нашли приют… Что им до всего этого, этим господам, что им до соотечественников, которые работают в совхозах и колхозах, побратавшись одной судьбой и одними стремлениями с советскими людьми!
Барышня в углу, шурша серебряной бумагой, угощала других служащих шоколадом. Они отламывали себе куски, смеясь и переговариваясь.
Чтобы приободрить Ядвигу и дать выход злобе, Марцысь шепнул ей:
– Видите, как жрут краденый шоколад?
– Боже мой, как ты можешь?.. Почему краденый?
– Ну да краденый, у нас краденый… У Олеся, у Мани, у всех польских детей. Ведь не для них же его прислали бог знает откуда!
– Тише!
– Почему тише? – рассердился он еще сильнее, но в эту минуту их пригласили в соседнюю комнату.
Уполномоченный, не приподнимаясь, небрежно кивнул им головой. Да, это был старый знакомый по эшелону, унтер Лужняк. Только уже нажравшийся, раздобревший. Марцысь это сразу заметил, рассматривая прекрасный костюм и безукоризненный галстук нового сановника.
– По какому делу?
– Мы… То есть эта дама получила письмо, что она должна явиться к вам по важному делу…
– Ах, так? – заинтересовался он. – Ваша фамилия?
Она охрипшим от волнения голосом произнесла фамилию, прозвучавшую в ее устах еще более странно и чуждо, чем обычно.
– Так, так, припоминаю… Понятно…
Он рылся в каких-то бумагах.
– Мы вас долго разыскивали в связи с этим выездом.
– Каким выездом? – удивилась Ядвига.
– Ваш муж выхлопотал вам разрешение отправиться вместе с семьями военных, уезжающих в Иран.
– В Иран?
– Сорокатысячная польская армия переходит в Иран. Семьи пока едут не все… Вы во всяком случае внесены в список. Только вам следует поторопиться, эшелоны вот-вот отправятся.
– В Иран? – Она смотрела на него широко раскрытыми, непонимающими глазами.
– В Иран. Хватит с нас этого советского гостеприимства. Там вы встретитесь с мужем, отдохнете после всего этого ада.
Вся кровь отхлынула от лица Ядвиги. Комкая в руках платок, она спросила каким-то чужим, далеким голосом:
– А что я буду делать в этом… Иране?
– Это уж не мое дело, – сухо ответил тот. – Муж вас как-нибудь устроит. Отдохнете после всех этих ужасов.
Марцысь стиснул зубы и до хруста сжал пальцы. Что это такое? Почему она ничего не говорит? Теперь ведь уже несомненно, что это не сплетни, что они действительно бегут – попросту говоря, дезертируют с поля боя… Сорок тысяч военных…
– А с кем, разрешите спросить, идет война в Иране? – спросил он высоким, срывающимся голосом.
Лужняк подозрительно взглянул на него.
– А вы, собственно говоря, кто такой, молодой человек?
Марцысь на мгновение смутился.
– Я? Я просто так, приехал с этой дамой…
– Ах, так…
– Господин Роек работает трактористом в нашей МТС, – вдруг выпалила Ядвига и, испуганная своей храбростью, покраснела до корней волос.
Лужняк откинулся на спинку стула и закурил папиросу. Он раскуривал ее долго, держа зажженную спичку и рассматривая прищуренными глазами тоненькую струйку дыма.
– Ах, вот как? Весьма любопытно. В нашей МТС? А я ничего не знал о нашей МТС. Очень, очень любопытно… МТС? Это что-то с тракторами?
– Да, это что-то с тракторами, – отрезал Марцысь.
– И вы, мадам, тоже что-то делаете в этой нашей МТС? Тоже на тракторе?
– Нет, я работаю в совхозе.
– В совхозе… Так, так.
Он снова порылся в бумагах.
– Вашего мужа зовут Владислав?
– Да.
– Значит, правильно. Очень любопытно!
С минуту он рассматривал свою папиросу, будто именно в ней открыл что-то любопытное.
– Ну что ж… Разрешение есть, я бы вам советовал сразу ехать. Документы и деньги на дорогу вам выдаст моя секретарша.
Ядвига не двинулась, упорно комкая в руках платок.
– Пройдите в ту комнату. Секретарша сейчас вам все устроит.
Она подняла голову:
– Не надо. Я не поеду.
Уполномоченный удивленно поднял брови.
– Неужели? Вам так нравится в этом… совхозе? А до совхоза где вы были?
– Была… в Коми.
– Ах, в Коми! Чудное место, не правда ли?
Вдруг он перегнулся через стол. Лицо его покраснело, жилы на лбу вздулись.
– И вы им так благодарны за это Коми, что никак не можете с ними расстаться? Отказываетесь от единственного и, может быть, последнего шанса выбраться отсюда?
– Я вовсе не хочу отсюда выбираться, – глухо сказала Ядвига. – Тем более в Иран.
– Вот как. Ну что ж, пожалуйста, останется место для кого-нибудь из порядочных людей… Могу лишь пожалеть, что произошла такая ошибка. Ваш муж, господин Хожиняк, видимо пользуется прекрасной репутацией, раз ему, несмотря на его невысокий военный чин, разрешили взять с собой жену… Но если вы пылаете такой любовью к большевикам, что ж – вольному воля!
– Пойдем отсюда! – грубо сказал Марцысь.
Лужняк ткнул папиросу в пепельницу.
– Могу лишь пожелать: счастливо оставаться! Господину Хожиняку придется принять к сведению, что вы задерживаетесь здесь… по идейным, – а может, по сердечным? – побуждениям, – сказал он, глядя прищуренными глазами на Марцыся.
Тот круто повернулся к нему.
– Ты, скот этакий…
– Но-но, полегче! – Лужняк всем корпусом перегнулся через стол. Ворох бумаг сдвинулся, и Ядвига увидела черный поблескивающий пистолет. Она схватила парня за рукав.
– Марцысь, идем!
– Я его, я его…
С неожиданной силой Ядвига потащила Марцыся к дверям.
– Слышишь? Идем!
Этот повелительный тон был так необычен для Ядвиги, что ошеломленный Марцысь позволил вытащить себя за дверь. Все еще таща его за руку, Ядвига торопливо прошла через канцелярию, где все глаза с любопытством уставились на них. По-видимому, шумный разговор донесся из кабинета в приемную.
– Немедленно садись в машину! – командовала Ядвига. – Теперь куда? У тебя здесь есть дела?
– В «Автосбыте».
– Поехали. Я подожду в машине.
Он снова подчинился. И лишь когда он сошел с машины и вошел в «Автосбыт», Ядвига почувствовала обморочную слабость. Все случившееся казалось ей коротким, но страшным сном. Иран, Хожиняк, Лужняк, и этот пистолет под бумагами… Почему Марцысь вдруг кинулся на Лужняка? Ах да, этот мерзавец сказал…
Уличка была глухая, тихая, кругом никого не было, лишь над забором какого-то сада возвышалась верблюжья голова. Верблюд глядел полузакрытыми глазами в пространство, а его подвижные темные губы непрерывно жевали. Эти сощуренные глаза придавали морде надменное выражение. Некоторое время Ядвига бессознательно рассматривала верблюда. Однообразное, спокойное движение жующих челюстей подействовало на нее как-то успокоительно. Только бы Марцысь задержался еще хоть немного, только бы он не пришел сейчас. Пусть бы прошла эта слабость, и дрожь в руках, и это желание разрыдаться.
Опять все сначала! Она уже успела забыть о существовании Хожиняка, но он всегда находил ее. В Ольшинках – ну, это еще было понятно, ведь это был дом ее матери, откуда он взял ее, куда он знал дорогу… Но каким чудом разыскал он ее там, в тайге, когда приказал ехать на юг? Сорвал ее с места с ребенком… Хотя о том, что у нее ребенок, он мог и не знать. Она не говорила ему о своей беременности, а когда он уходил в последний раз из дому, ничего еще не было заметно. Впрочем, тогда ему и не до нее было… Да, не до нее… А вот потом он все-таки разыскал ее и приказал, просто приказал ей ехать, будто она была его собственностью. Да, словно охваченные лихорадкой, ринулись все. И тут неожиданно это письмо… Напоминавшее, что существует такой Владислав Хожиняк… и что пусть мир переворачивается вверх ногами, пусть вся жизнь меняется и мчится вперед, – одно не меняется – существует Владислав Хожиняк, имеющий какие-то права на нее. И вот теперь, когда она снова успела забыть о нем, он вновь явился с приказаниями, переданными через этого полицейского унтера Лужняка, того самого, который сказал госпоже Роек, что не впустит ее в Польшу. Хожиняк даже не спросил Ядвигу, желает ли она ехать в Иран, хочет ли она бросить госпожу Роек, мальчиков, Олеся, овцеферму…
«Но чего я собственно волнуюсь? – спросила она себя. – Ведь все кончено, больше он меня разыскивать не станет. Этот Лужняк уведомит его о том, что я отказалась ехать, и черт его знает о чем еще…»
Ей вспомнился грязный взгляд, которым Лужняк окинул ее и Марцыся, будто помоями окатил. Ее и этого мальчика, почти ребенка! Хуже всего, что этот ребенок был достаточно взрослым, чтобы понять намек. Словно на мгновение замутился прозрачный, чистый источник, эта смешная и милая дружба с мальчиком, со строптивым сыном госпожи Роек. Но что поделаешь? Уж таковы эти люди! Тут и обижаться не на кого. Что же еще им могло прийти в голову!
Марцысь, вернувшийся из «Автосбыта», был все еще немного смущен. Его обуревали противоречивые чувства. В нем еще кипело негодование, но он сознавал, что с Лужняком он вел себя как мужчина, и если бы не Ядвига, не помог бы унтеру и его револьвер, уж он бы расквасил эту гнусную морду. Было, однако, еще нечто другое. Где-то в самой глубине души Марцысь гордился тем, что этот скот принял его за совершенно взрослого, больше чем взрослого… И вот за это Марцысь себя презирал. К счастью, Ядвига будто и не замечает его смущения и ведет себя так, словно ничего не случилось. Теперь, когда она не между чужими, у нее уже нет этого испуганного, детского выражения лица, она снова стала сама собой, добрым товарищем, одним из лучших работников овцефермы.
А Ядвига и вправду уже не думала о происшедшем. С облегчением, с чувством несказанной радости она сознавала, что вся эта история осталась позади. Что еще не успеют блеснуть звезды на небе, как она увидит тополевую аллею, и строения ферм, и дом, где нетерпеливо дожидается госпожа Роек, и что там, в совхозе, и Матрена, и Павел Алексеевич, и все, все – свои близкие люди. И что она, Ядвига, перестала быть одиноким, всеми покинутым человеком.
– Скорей, Марцысь, так хочется поскорей домой!
Кроваво-красная заря меркла, по степи начинали стлаться голубые сумерки. Но в вышине сиял свет, и воздух над степью играл всеми красками, а на розовом и золотом небе, на фоне проглядывающей местами холодноватой полоски лазури загорелась мерцающим светом первая звезда.
Глава VНа западе, у самого горизонта, еще сияла узкая алая полоска. Небольшое озерцо в долине отражало этот блеск одной поверхностью, словно лишенное глубины. Повыше купол неба темнел, становился густым, далеким, и одна за другой в нем зажигались звезды. В лесу и в рощах уже стоял зеленый ароматный сумрак. Горьковато и пряно пахло черемухой, молодыми березовыми листьями, буйными, сочными ветвями ольхи. Несмело, словно пробуя голос, щелкнул соловей и тотчас умолк. В густых зарослях на опушке леса было слишком много людей, шума, движения. Соловей щелкнул еще раз и снова умолк. Теперь он отлетел подальше, на купу осин, в трепещущую серебристую листву.
– Волк, не путайся под ногами!
Темная, почти черная овчарка капитана Скворцова вертелась среди работающих у самолета техников. Услышав окрик Стефека, она села, внимательно глядя на людей.
– Умный пес, умный. Только не надо мешать!
Собака склонила голову набок и тихо заскулила, будто отвечая.
– Умный-то умный, а курицу все-таки украл, – заметил Вася Чабан, наливая масло.
– Может, еще и не он?
– Как же! Не он! Волк, кто украл курицу? Нехорошо, нехорошо, разве порядочные собаки крадут кур?
Волк распластался на земле и, отворачивая голову, стал тихонько отползать в сторону.
– Смотри, смотри, как застыдился… Знает, бестия, о чем говорят, ишь совесть заела! Не он, как же! Разбойник!
Но в голосе Чабана не было гнева. Все любили этого большого темного пса, неразлучного товарища на аэродроме. Днем Волк обычно спал возле кровати своего хозяина, но, убедясь, что капитан храпит, накрывшись с головой одеялом, немедленно отправлялся в свои воровские экспедиции. Едва начиналась вечерняя подготовка к полетам, Волк появлялся как из-под земли. Он шел за капитаном в заросли, где стояли укрытые в зелени самолеты, бежал вслед за машиной в поле, а потом, когда капитан улетал, дежурил на аэродроме, ожидая его возвращения.
– Не прячься, не прячься, Волк. Ну что там – одной курицей больше, одной меньше…
Волк снова сел и боком, не глядя, подавал Стефеку лапу, будто прося прощения.
– Ну, ну, ладно уж, сиди…
Из леса доносился смех. Летчики ужинали. Звенели судки. В землянке командира полка звонил телефон.
– Ну, как там?
– Еще неизвестно.
Алая полоска на западе погасла. Погасло озеро в долине. В пустынном углу аэродрома вырисовался черный силуэт прожектора. На небе высыпало все больше звезд. Они мерцали ярко, отчетливо. Казалось, вздрагивает и переливается весь небосклон.
– Ну, как там?
– Все еще ничего.
Самолеты стояли в зарослях, вполне готовые. Баки полны бензина, моторы проверены, масло залито. Подвешенные внизу темные продолговатые бомбы сейчас выглядели как мирные, безвредные груши. Стефек отер перепачканные руки. Слышалось шуршание раздвигаемых ветвей, кто-то направлялся прямо к нему. Он рассмотрел знакомый силуэт и вытянулся в струнку. Не потому, что так было принято, – нет, Стефеку хотелось выразить своему капитану всю свою любовь, все уважение, все, что он думал о нем – о нем, который скоро полетит в эту звездную майскую ночь.
– Все в порядке?
– Полный порядок, товарищ капитан.
Конечно, все было десятки раз проверено, смазано, отрегулировано. Ведь это машина капитана Скворцова, ей он сейчас доверит свою жизнь. И Стефеку казалось, что он готов залить мотор не маслом, а собственной кровью, лишь бы тот не подвел. Лишь бы не захлебнулся в самый ответственный момент. Лишь бы донес – и благополучно вынес.
«Разве я когда-нибудь любил кого так, как тебя?» – думал Стефек, провожая взглядом капитана, удалявшегося к землянке командира. Отца? Нет, ведь он почти не помнит отца. Соню? То была другая любовь. Без этой жажды самопожертвования, без стремления принять на себя любые удары, лишь бы уцелел тот. И ведь капитан Скворцов был не на много старше Стефека – на каких-нибудь несколько лет, не больше.
Простой человек, слесарь из Донбасса. Но Стефеку не приходило в голову обратиться к нему фамильярно, попросту, как к ровеснику. Нет, это было другое. Не потому, что Скворцов важничал или принимал позу героя. Нет. Он был простым и веселым. Но был действительно героем. Не только потому, что имел такое звание. Это было лишь внешним подтверждением факта. Он был таким героем, о каких Стефек читал в детстве в книгах, о каких мечтал. Нет, даже больше. И Скворцов стал составной частью той удивительной жизни, которой жил теперь Стефек, неправдоподобной, безумной жизни, упоительной и страшной одновременно.
Капитан Скворцов стал для Стефека олицетворением всего лучшего, что Стефек чувствовал сегодня и что чувствовал раньше. Вспомнились далекие, туманные вести о Красной Армии, совсем не такой, как все другие армии в мире. Стефеку случалось читать советские книги, в немногих переводах попадавшие в Синицы или Влуки, и в его сердце росла мечта хоть когда-нибудь увидеть Красную Армию своими глазами. Он мечтал, что наступит час и она придет, эта армия свободы, и принесет свободу на земли над Стырью, над Горынью, до самого Буга – и дальше, за Буг.
И вдруг в тридцать девятом он, наконец, увидел ее своими глазами, и она не принесла ему ни малейшего разочарования. Разве только то, что она не пошла дальше, за Буг…
Люди этой армии были как раз такими, какими он представлял их себе. И в то время как свирепствовали лживые слухи, как из уст в уста передавались всякие ужасы и нашептывалась всяческая клевета на большевиков – ни один, кто видел на Западной Украине Красную Армию, не поверил ни одному дурному слову о ней. То, как она вела себя, закрывало рты даже врагам.
А позже, в июньские дни сорок первого года – о, как он смотрел на советских солдат, не смея и мечтать о том, чтобы стать одним из них, носить красную звезду на шапке, надеть эту овеянную славой форму, форму армии народа.
И теперь все, что он слышал, читал, видел собственными глазами – высокое мужество, безграничное самопожертвование, – все приобретало в его глазах черты милого, чуть рябоватого лица и серых веселых глаз капитана Скворцова…
Это он был Гастелло, горящим снарядом собственного тела сбивающий вражеский самолет. Это он был солдатом, бросающимся под танк со связкой гранат. Это он был защитником Одессы, и героем Севастополя, и воином-пограничником, отстреливающимся от врага за сто и двести километров за линией неприятельского фронта, не покидающим поста до самой смерти.
Это он был солдатом Красной Армии, который встал на защиту родины и оставался непоколебимым, непобедимым, – в нем воплощались все чувства, какие Стефек испытывал к Красной Армии.
С запада веял легкий, теплый ветерок, пахло черемухой. Веселые разговоры летчиков утихли. Повар, что-то ворча под нос, собирал посуду. Штурманы вертелись у командирской землянки. Наступили знакомые мгновения напряженного ожидания. Зазвенит телефон – и надо будет молниеносно отбросить маскирующие ветви, расчистить дорогу – один за другим выкатятся самолеты на темное, поросшее низкой травкой поле. Сверкнет фонарь, широким взмахом подавая сигнал, взревет мотор, волна воздуха ударит в лицо, взметнутся пыль, стебли травы, комки земли – и самолет поднимется во тьму звездной ночи.
Но пока никто еще не знает, куда придется лететь. В командирской землянке штурманы раскладывают карты. Бродят без дела техники. Медленно-медленно идут напряженные минуты. А может, нынче не будет вылета? Но нет, нет, должен быть вылет – ведь теперь они бывают каждую ночь. Ведь это не обычная, это прекрасная весна. После ненастной осени отступлений, после трескучих морозов трудной зимы она пришла, долгожданная, ожидаемая с дрожью в сердце, призываемая жгучим желанием миллионов сердец, – весна побед. В темной бездне звездного неба словно горят желанные, радостно заученные наизусть слова приказа, данного войскам Юго-Западного фронта:
«Мы вступили в новый период войны – период освобождения советских земель от гитлеровской нечисти… В решительный, беспощадный бой, товарищи!»
Нет, эта майская ночь не может пропасть зря! Ведь идет решительный бой. Нетерпеливые руки летчиков жаждут ухватиться за штурвал, нога хочет почувствовать педаль. Уже надел наушники стрелок-радист, уже единым биением бьются сердца троих людей, которые в эту ночь вызывают на поединок смерть. Они полны нетерпеливого ожидания, и вместе с ними волнуются все – командир, обслуживающий персонал и даже Волк, который, тихонько повизгивая, следует, как тень, за капитаном.
– Есть…
Шелестят карты. Штурманы прокладывают пути. Из землянки выскакивает капитан Скворцов.
Ревет мотор. Плывут во тьме белый и зеленый огоньки. Навстречу выходит солдат с фонарем.
Самолет разворачивается. Два раза вспыхивает зеленый огонек – капитан Скворцов просит разрешения на взлет. Фонарь описывает полукруг над землей. В облаке пыли, как-то неожиданно оторвавшись от земли, самолет поднимается в воздух. Плавный круг, и капитан Скворцов уже улетел на запад, к своей цели, выполнять боевое задание.
А с опушки уже доносится новый рев мотора – выкатывается следующий самолет. Каждые несколько минут взлетают самолеты, описывают круг, исчезают во тьме майской ночи.
И вот их уже нет. На аэродром опускается тишина, странная после кратких минут шума и оживления.
Командир полка уходит в свою землянку. Разбредаются техники. На аэродроме остается большой темно-серый, почти черный, пес. Насторожив уши, он смотрит вдаль, куда исчез его хозяин. Напрасно теперь звать Волка, напрасно прогонять его отсюда; он будет сидеть и ждать, пока капитан не вернется с боевого задания.
Стефек присел рядом с Волком. Ему не хотелось возвращаться к людям, ни с кем не хотелось разговаривать. Его охватила, околдовала эта майская ночь. Каждое дуновение теплого ветра приносило на аэродром крепкий запах черемухи. И снова, сперва робко, потом все уверенней, защелкал соловей. Раз, другой он попробовал голос и вдруг залился вибрирующей трелью, радостным щелканьем. Ему ответил второй, присоединился третий, пока, наконец, вся опушка, все заросли не охватила стоголосая соловьиная песнь. Их было здесь больше, чем в Ольшинах, и пели они как-то иначе, еще красивее. Правда, Стефек слышал от товарищей, что курские соловьи славятся на всю Россию, а отсюда недалеко до Курска.
Он почувствовал под руками прохладную росу. Какая чудесная ночь, полная запахов и соловьиного пения! И небо, как бархат, темное, все искрящееся звездами.
Но нет, небо не совсем темное. Отсюда виден свет, незаметный из леса, и это не тихий свет звезд, не последнее слабое сияние вечерней зари. Там, на западе, где небо сливалось с землей, вспыхивали внезапные, короткие отблески. Синеватые, желтые, почти белые. Горизонт не был неподвижен. Он вздрагивал, жил, дышал.
«Да ведь это линия фронта!» – вдруг понял Стефек, пораженный контрастом между звенящей от соловьиного пения черемуховой рощей и этим зловеще вздрагивающим горизонтом. Рыжее зарево медленно пробивалось сквозь густую тьму неба. И на фоне этого рыжего зарева вспыхивали и исчезали, вздрагивали, мерцали и снова разгорались взрывы далекого огня. Низом по земле катился едва уловимый глубокий гул, будто вздох, приподнимающий грудь земли.
Туда лежал путь капитана Скворцова. Он должен был перелететь этот вздрагивающий горизонт между ослепительными лучами прожекторов, сквозь кровавые четки брызжущих в небо трассирующих пуль и разрывы снарядов, над ними и между ними. Смотрят в темноту и свет внимательные серые глаза из-под сдвинутых бровей. Знакомое, милое, чуть рябое лицо застывает в зорком внимании, в напряжении воли. Горит внизу фронт. За фронтом – темень родной земли под пятой врага. Вражеские гарнизоны, вражеские аэродромы, вражеские колонны, движущиеся по десяткам дорог. Сбросить бомбы – и назад, еще раз над мерцающим, вздрагивающим горизонтом, над линией своего и чужого огня. Притаившиеся во тьме стволы зенитных орудий вращаются, отыскивая в ночном мраке воздушную цель. Обшаривают небо прожекторы, пытаясь поймать самолет в свои сверкающие лучи, заставить его беспомощно трепетать среди них, как маленького серебряного мотылька. В воздух поднимается вражеский истребитель, хищные глаза врага высматривают возвращающегося летчика.
Вздрагивает, мерцает, дышит далекий горизонт. А здесь пахнет черемухой и поют соловьи, как будто на земле не происходит ничего необычного. Холмы, поросшие лесом, рощи, озерцо в долине, как будто созданные для радости и счастья, для любовного разговора в эту майскую звездную ночь. Соловьи поют, щелкают, заливаются трелями даже в часы самых страшных бомбежек, когда небо сотрясается от гула, когда небо и земля гремят орудийной пальбой. Но стоит в далеких тучах прогреметь отдаленному грому, стоит сверкнуть молнии за линией холмов, как они умолкают, пока не пройдет гроза. Гроза – это природа, это явление, которое их касается. Война – дело человеческое.
Даже когда железным градом сыплющиеся осколки секли густую листву, даже когда снаряды срезали ольховые ветви, где ютились соловьиные гнезда, – это не мешало стоголосому любовному пению, звенящему над всей долиной, на склонах гор, над берегами неглубокой извилистой речки. Соловьи пели с раннего вечера до рассвета. Случалось иногда, будто перепутав время, они начинали петь и днем. То здесь, то там в ярком свете солнца раздавалась странно звучавшая в эти часы соловьиная песня.
В Ольшинах тоже были соловьи. Но их никогда не было там столько. В лугах пел один. Как-то весной в жасминовых кустах у дома каждый вечер показывал свое искусство другой. Но тут их были, видимо, сотни.
Можно бы закрыть глаза, отгородиться от далекого грохота орудий, погрузиться в соловьиное пение. Нет войны. Нет огня и крови. Нет смерти. Есть лишь благоуханная майская ночь.
Но нет, не закроешь глаз. Людям ни на мгновение не забыть о происходящем. Это не были соловьиные ночи, хотя пение соловьев неслось от земли до самого неба. Это были ночи борьбы, ночи огня и гнева.
Там, далеко, за мерцающим горизонтом, остались знакомые, родные сердцу города и деревни. Там Соня Кальчук. Жива ли она еще?
Но и о Соне думается теперь иначе, чем прежде. Собственная тревога, собственная скорбь – это сейчас тревога и скорбь миллионов, и какой-то стыд мешает тосковать и скорбеть о себе в то время, когда вихрь войны разметал все гнезда и ударил по всем сердцам. Стефек сдвигает брови. Нельзя унывать, нельзя думать только о Соне – ведь там остались все они, и близкие, родные, и те, кого он никогда в жизни не видел, все под одним обухом несчастья. Быть может, давно уже нет Ольшин. Быть может, весенние волны озера бьются о пустой берег, быть может в его водах отражаются лишь развалины и пепелища сожженных изб. Быть может, давно уж нет в живых Сони. Может быть… Но у него всегда останется уверенность, что, если ей суждено было умереть, она умерла, как должен умереть человек, его веселая черноглазая Соня. Не изменила, не сломилась, не испугалась врага.
О сестре он почти не думал. Она была в безопасности – вдали от рушащихся в развалины городов, от обращаемых в пепел деревень, она была недосягаема для захватчиков. То, что казалось катастрофой, вдруг оказалось величайшим счастьем – кто знает, что ожидало бы Ядвигу, если бы она осталась в Ольшинах? А мысли о Соне были противоречивы и сбивчивы. Страх, тревога о том, что могло с ней случиться. Но это беспокойство было как бы только логическим выводом из всего, что ему было известно о враге, что он читал и слышал о нем. А в глубине души таилось убеждение, что ничего дурного с Соней случиться не могло, что уж с ней-то во всяком случае все в порядке. Быть может, она в партизанском отряде, а может – кто знает! – ей даже удалось в последнюю минуту бежать, и она здесь, по эту сторону фронта, в полной безопасности. Да скорей всего так оно и есть.







