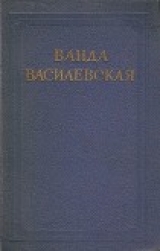
Текст книги "Том 4. Песнь над водами. Часть III. Реки горят"
Автор книги: Ванда Василевская
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 33 страниц)
Но и это миновало, как сон. Теперь он лежит у нее на руках, одеревеневший и бледный, и не узнает ее, будто отгороженный глухой стеной.
Глупая, глупая! Зачем она поверила тому человеку из посольства с прилизанными черными волосами? Ведь не может же быть, чтобы там где-нибудь не было врача. Ее сыну могли помочь в Куйбышеве…
А теперь Куйбышев остался позади. Поезд мчится сквозь необозримые, голые, затянутые туманом поля. И весь мир для нее сузился до размеров этой теплушки, где разговаривают, спорят, бранятся какие-то чужие, равнодушные люди. Она оставила своего ребенка без помощи – и теперь ребенок умирает.
Но мог ли тут вообще кто-нибудь помочь? Нет. Это судьба мстит ей за то, что она ненавидела своего ребенка, прежде чем он родился. За то, что там, в доме на пригорке, когда снег все занес кругом пышными сугробами, когда под ударами вихря трещали стены, когда уныло стонали ветки деревьев, она мечтала во тьме ночной, чтобы ребенок не родился. Чтобы он умер, пусть хоть вместе с ней, только бы его не было, только бы он не появился на свет.
Безумная, глупая, она не знала тогда, не верила, что на земле еще может быть счастье, еще могут быть радость и смех. Радость и смех ребенка, счастье, что этот ребенок живет на свете.
Вот потому-то он тогда и не умер. Ни в ее чреве, ни потом, во время трудных, тяжелых родов. Чтобы она узнала, что такое счастье. И чтобы узнала боль утраты за тот свой черный грех, которому нет прощения. Глупая, глупая, столько раз в жизни она видела, что ничто не проходит даром, что за человеком тянется каждый его поступок, и за каждый – рано или поздно – приходит возмездие. И не только за поступок – даже за мысль. Даже за то, что еще не успело стать мыслью, а лишь промелькнуло в голове и исчезло, о чем человек и не вспоминал больше. И все же наступал день, когда мысль, которая не облеклась не только в действие, но даже в точное слово, возвращалась, возникала в воспоминаниях и мстила за себя.
Сколько раз Ядвига в этом убеждалась! И вдруг наивно поверила, что ей удастся увернуться от ответа за те злые, темные мысли, что забытая ненависть минует бесследно, будет сброшена со счетов.
Нет, вычеркнуть из жизни ничего нельзя. И вот теперь придется нести кару за те темные мысли, за ту темную, боязливую ненависть.
Только в чем же тут виноват сыночек? Маленькое, беспомощное создание? Почему он должен отвечать за нее, за ее грех? Нет, не может быть, чтобы судьба была так мстительна. Пусть обрушится на нее все дурное, только бы он был жив, только бы он выздоровел.
Но что на нее может обрушиться, кроме этого, единственного? Какое ей дело до чего бы то ни было на свете, кроме этого маленького существа, с трудом ловящего воздух запекшимися губами?
Все страшное, что может случиться в жизни, она уже испытала. Уже привыкла, ее не удивишь никаким ударом. Значит, удар обрушится именно отсюда, поразит именно в то единственное место, которое еще может ответить живой болью сердца, ох какой болью.
Нет, не надо об этом думать! Дурные мысли накликают несчастье. Надо изо всех сил, изо всех сил думать, что малышу лучше. Что завтра ему будет еще лучше. А когда они приедут на юг, куда их везут, малыш уже снова будет ходить. Ядвига поведет его за ручку, и он засмеется от радости, увидев солнце и цветы. Ведь там, наверно, еще цветет что-нибудь, на этом юге; говорят, там настоящей зимы и не бывает… Маленькие ножки трудолюбиво, старательно затопочут, путаясь в мягкой траве…
Но, вопреки всем усилиям воли, к ней возвращался все тот же страх. Страх, что это именно кара. Мысль упорно стучалась в мозг, неотвязная, назойливая. «Но ведь так можно сойти с ума, – мысленно останавливала себя Ядвига. – Все одно и то же, одно и то же. А может, я и вправду помешалась?»
Вдруг она вздрогнула, почувствовав на плече осторожное прикосновение чьей-то руки.
– Выпейте чаю, – сказал тихий голос по-русски, и Ядвига увидела перед собой эмалированную кружку и ломоть темного хлеба. Проводница смотрела на нее добрыми, грустными глазами.
– Выпейте, выпейте, и поесть надо, я же вижу, что вы ничего не едите, а вам нужны силы.
Она присела на корточки возле Ядвиги и сочувственно рассматривала желтое личико ребенка.
– Что доктор-то говорит?
– Я не была у доктора, – со стыдом шепнула Ядвига. – В посольстве сказали, что в поезде есть доктор.
Проводница, уже немолодая женщина, пожала плечами.
– Какой тут доктор… Надо было в Куйбышеве пойти в поликлинику.
Правда! Только тут Ядвига с отчаянием вспомнила, что ведь здесь же повсюду есть поликлиники. Можно было просто-напросто разыскать одну из них, войти туда, показать ребенка, узнать, что с ним. И этого она не сделала. Не сделала, потому что ей казалось, что с того момента, как ее фамилию внесли в список едущих на юг, о ней должны заботиться не здешние, а польское посольство и что советская поликлиника, где она раньше лечила ребенка, теперь для нее недоступна.
– Спит, все спит, – шепнула она, отвечая на жалостливый взгляд проводницы. Жесткая загорелая рука полным материнской нежности движением отстранила от щеки ребенка край шерстяного платка, в который он был завернут.
– Если вам что понадобится, я на тормозной площадке буду. Да я и сама еще загляну к вам, – сказала проводница, осторожно ступая между грудами вещей и спящими вповалку людьми.
– Везет же некоторым! И из посольства записочки получают, и большевики их подкармливают, – ядовито бросил, ни к кому не обращаясь, верзила с рваным козырьком. – Видели эту кондукторшу? Далеко мы с такими уедем! Взяли бабу, ей бы навоз убирать, поставили к тормозу…
– У них всюду бабы. Еще полгода не прошло, как война началась, а уж мужчин не хватает, всюду бабы… А еще вздумали с немцами связываться!
– Мужчины, видно, на фронте! – резко вмешалась госпожа Роек.
– Э, сударыня, какой там фронт… Вот-вот все к чертям полетит…
У печки, в углу, то и дело завязывались ссоры.
– Куда вы лезете? Опять со своей кастрюлькой? Вы же только что жрали!
– У меня пеллагра, мне надо питаться.
– Ну да! Этакая толстая морда – и пеллагра! У всех пеллагра, да не все жрут, как свиньи…
– Что же, если кто гол как сокол, так и другие должны голодные сидеть?
– А воняет эта колбаса, как зараза… Не люди, а скоты какие-то, этакую гниль жрать!
– Прошу не ругаться! Что за выраженья?
– А это еще что? Еще и в угли чего-то набросали?
– Не трогайте, это моя картошка! – завопил господин с пеллагрой.
– Еще и здесь! Треснете от этой жратвы.
– Это уж моя забота, не ваша. Тресну, так за свои деньги.
– И откуда они только набрали всего? – удивлялся кто-то сидящий под окном.
– Не знаете откуда? В Куйбышеве на путях вагон с продуктами разбился, вот и натащили, кто что мог.
– Что вы брешете, милостивый государь? Какой еще вагон?
– Ишь, воров из людей делает!
– Раз плохо лежит, только дурак не возьмет, – сплюнул сквозь зубы молодой человек в рваной фуражке.
– Куда вы плюете? Чего вы плюетесь? Чуть ребенка не оплевал! – вскрикнула мамаша капризной Зоси. – Отодвинься, Зосенька, отодвинься, золотко. Такие невоспитанные люди, такое хамство кругом, Не плачь, не плачь, мое солнышко, мамочка тебя защитит, мамочка тебя не даст в обиду…
– Да что вы так причитаете над своей девчонкой? Никто ей ничего не сделал, а она орет…
– Я хочу конфетку, – использовала положение Зося.
– На, на, милочка, на конфетку, только не плачь, мамино золотко, мамино солнышко!
Печка была раскалена докрасна, из нее вырывался дым и чад, но сквозь щели старого вагона непрерывно несло холодом. Запах пригорелого жира назойливо лез в ноздри.
– Сударыня, – вдруг услышала Ядвига, – мама спрашивает, не удобнее ли будет маленькому на подушке?
Ядвига подняла на паренька удивленные глаза.
– У нас еще есть, мама набрала этого барахла столько, что…
– Возьмите, ребенку будет удобнее, – крикнула госпожа Роек, расположившаяся на узлах в другом конце вагона.
– Благодарю вас.
И правда, так малышу будет удобнее. Она положила на подушку неподвижное, вытянувшееся тельце. Попыталась поправить головку, но ребенок словно одеревенел – шея не гнулась, голова была упорно закинута назад. Что, если?.. Но нет, маленькие губы прерывисто, трудно шевелились, с усилием втягивая спертый воздух теплушки.
Ночью ребенок шевельнулся. Ядвига склонилась над ним. Значит, ему лучше, – прошла по крайней мере эта ужасная неподвижность.
Нет, лучше ему не было. Короткие мучительные судороги сгибали маленькое тело. Через минуту они прекратились. Но несколько мгновений спустя словно дрожь пробежала по всем членам руки судорожно сжались, судорога свела маленькие ножки и больше уже не отпускала их.
Под утро поезд, скрежеща тормозами, остановился на какой-то станции. За окном в сером тумане лились струи скатывающегося с крыши дождя. Двери раздвинули, несмотря на протесты некоторых пассажиров.
– Что вы, задохнуться хотите? Надо же впустить хоть немного воздуха в этот хлев.
– Глядите-ка, что это за поезд?
Прямо напротив, на соседнем пути, стояли вагоны.
– Раненые, – тихо сказал Марцысь, опираясь о косяк открытых дверей. В теплушке примолкли.
Вагоны были пассажирские. Сквозь окна виднелись подвесные койки.
– Тяжелораненые, – шепнул кто-то.
– Вот тебе и на, – буркнул верзила в рваной кепке. Он хотел сказать еще что-то, но воздержался.
Выскочившая из вагона санитарка побежала к станции. И вдруг в наступившей тишине, когда перестали грохотать колеса и затихли разговоры, где-то вблизи послышались неожиданные звуки:
О Танголита, одну лишь ночь…
– Что это?
– Патефон.
– Какой тут патефон? Откуда ему взяться?
– Боже, какая старая пластинка. Сколько же лет назад это было модно?
– Начальство развлекается.
– Какое начальство?
– Да наше, какое еще? Господин поручик Светликовский, комендант эшелона.
– Танцуют, что ли?
– Еще как! Доски ломятся!
– Весело едет господин начальник!
– А что ему? Набрал барышень, жратва есть, выпивка есть, патефон тоже, какого еще рожна ему надо?
– Как им не стыдно! Тут раненые, а они… – сурово сказала госпожа Роек.
– Что это, наши раненые, что ли? – вмешался верзила в рваной фуражке. – Уж кто-кто, а мы-то большевиков жалеть не станем.
– Скотина, – спокойно сказал пожилой человек в поношенном ватнике.
– Вы это кому? Кто скотина? – выпрямился верзила.
– Может, и вы, – все так же спокойно ответил тот. Молодой человек рванулся было к нему, но, взглянув в его глаза, отступил, что-то бормоча про себя.
Человек в ватнике немного подождал, потом спокойно вышел из вагона.
Женщина с изможденным серым лицом, прикорнувшая в углу, закутавшись в теплую шаль, шумно вздохнула:
– Какая разношерстная публика в этом эшелоне… – Это было сказано с явным намереньем завязать знакомство с молодым человеком в рваной фуражке.
Молодой человек в рваной фуражке немедленно откликнулся на это сочувствие:
– Да что ж, брали всякого, кто хотел… Вот и набился всякий сброд… Простите, с кем имею честь?
– Жулавская. Полковница.
– Малевский. Очень приятно.
– Большевиков жалеют. А взять меня, например?.. О своих небось никто не позаботится. Набили в теплушку, как сельдей в бочку, а в вагоне коменданта так свободно, что даже танцуют…
– Что ж, в конце концов потанцевать не грех… Было бы с кем.
Полковница пожала плечами.
– Не знаю, время ли и место сейчас для танцев. Впрочем, как кто хочет. Ну, вот они и утихли.
В вагон вернулся человек в ватнике.
– Что, успокоили их? – спросила госпожа Роек.
– Успокоил. Начальник эшелона пьян в дым.
– Ну и порядки…
– У одних и водки вдосталь, а для других хлеба не хватает, вот какие порядки!
– Какая там водка! Коньяк лакают.
– А что ж! И другие лакали бы, кабы у них был. У самих нет, вот и осуждают… – меланхолически заметил Малевский, обращаясь к Жулавской. Но та не поняла и обиделась.
– На кого это вы намекаете?
– Само собой разумеется, не на вас, сударыня.
Она опять завернулась в шаль.
– Когда же мы, наконец, двинемся? Стоим и стоим… Какой дождь!
– Не скоро еще. Бестолочь, видно, на станции.
– Почему вы считаете, что бестолочь? – неприязненно спросил кто-то.
– А где вы тут видели, чтобы обошлось без бестолочи? Всюду у них бестолочь. Суток трое могут здесь продержать, – мрачно предсказывал Малевский.
«Трое суток, трое суток… – думала Ядвига. – Не может быть. Зачем стоять здесь трое суток? Где же этот юг, который, может быть, спасет сыночка? Когда будет конец этому страшному пути, этому вагону, этим назойливым разговорам над самым ухом?» Невидящими глазами она смотрела из своего угла на квадрат неба в дверях, на струи дождя, льющиеся с крыш, на вагон напротив, где за окнами белели подвесные койки и неподвижные забинтованные фигуры.
К ней наклонилась, обхватив ее за плечи, проводница.
– Встань, встань, бедняжка…
Ядвига не поняла.
– Что? Что случилось?
– Надо похоронить ребенка. Время есть. Мы тут долго простоим, поезда с ранеными пропускаем, и паровоз будут менять.
– Какого ребенка? – ужаснулась она.
– Что ты, не видишь? Ведь умер твой сынок.
Ледяной холод с головы до ног охватил Ядвигу. Мелкая дрожь пробежала по телу. Она шумно ловила губами воздух, словно задыхаясь. Обезумевшими глазами взглянула на личико сына. Ведь он лежит все так же. Только веки широко раскрылись и круглые мутные глаза неподвижно смотрят вверх. Ядвига осторожно коснулась пальцами его щеки. Щека была холодна.
– Тихо, тихо… Вот несчастье… Крепись, крепись, моя бедняжка.
Ядвига встала, держа ребенка на руках.
– Что случилось? – забеспокоилась госпожа Роек, выкарабкиваясь из-за груды своих узлов. Ядвига не ответила.
– Ребенок умер, – шепотом объяснила проводница.
Госпожа Роек с силой отбросила последний узел.
– Умер? Боже мой… Марцысь, Владек!
– Что вы кричите, мама? Здесь мы.
– Что ж вы, не видите, что случилось? Надо помочь этой даме… Боже мой, что же делать, что делать? Умер… Боже ты мой!
– Надо к начальнику вокзала, – сказала проводница.
– Ну, значит, к начальнику… Голубушка, вы уж нас проводите, мы ведь ничего не знаем… Господи, что за люди! Хоть бы помог кто-нибудь.
– И чего вы кричите, мама? Мы с Владеком поможем, – хмуро пробормотал Марцысь.
– Мы с Владеком… Вот именно! Хороша от вас помощь…
– Сейчас сделаем все, что нужно, – тихо сказал человек в ватнике, выскакивая вместе с мальчиками из вагона и поддерживая Ядвигу под локоть.
– Ну, это я понимаю, – успокоилась госпожа Роек, – мужчина это другое дело. А то…
– Вы бы потише, мама, – шепотом сдерживал ее Марцысь, указывая глазами на Ядвигу. Мать хлопнула себя рукой по губам:
– И правда, что это я!
Они медленно брели по мокрому песку к зданию вокзала. Проводница вошла первой. Ядвигу, с ребенком на руках, усадили на стул у столика, на котором постукивал аппарат Морзе. Она послушно выполняла все, что ей говорили, но делала все бессознательно, не понимая, что в зачем делает.
– Вы, сударыня, останьтесь с ней, а мы вот с товарищем проводницей пройдем к начальнику станции, – сказал человек в ватнике госпоже Роек.
– С товарищем? – удивилась та, но тотчас решила, что все в порядке. – Ага, так, пожалуй, и в самом деле лучше, она здесь все знает… И вообще…
Оглянувшись на Ядвигу, она шепотом сообщила Марцысю свои соображения:
– Степенный человек, серьезный, он уж им растолкует все, что надо. Не знаешь, кто такой?
– Знаю.
– Ну? Почему же не говоришь?
– А что мне говорить? Слесарь из Варшавы. Фамилия Шувара.
– Ну скажите! Слесарь… Такой интеллигентный человек…
– И откуда вы, мама, знаете, что интеллигентный?
– Уж я знаю. Что у меня, глаз нет? Мне достаточно поглядеть на человека. Сразу видно, что не хулиган вроде остальных.
В комнату вошла молодая девушка, неся на тарелке стаканы с чаем.
– Может, чаю выпьете? – робко обратилась она к Ядвиге. – Начальник сейчас все устроит.
Ядвига глянула на нее невидящими глазами. Госпожа Роек взяла стакан.
– Тут и разговаривать нечего. Чаю вы выпьете, вы совсем застыли. Смотрите, вся дрожит, бедняжка. Пейте сейчас же, пока горячий.
Ядвига покорилась, не чувствуя, как горячая жидкость обжигает ей губы и гортань. Госпожа Роек поила ее, как маленькую, приговаривая:
– Вот так, ну еще глоток… Превосходный чай… Пейте-ка. Еще, еще…
Ядвига безвольно подчинялась всему, позволила взять у себя из рук ребенка.
– Начальник станции послал за гробиком, в гробике похороним, как полагается.
В углу камеры хранения Шувара помогал столяру укоротить гроб. Сдвинув брови, он сосредоточенно стучал молотком по плоским головкам гнувшихся гвоздей.
– Эх, дела, – вздохнул столяр. – У меня мальчонка, чуть побольше этого, тоже в прошлом году помер. Спасали, спасали, ничего не помогло. А у вас есть дети? – спросил он Шувару.
– Были.
– Много?
– Двое.
– А сейчас они где? С вами?
Шувара еще крепче сдвинул брови. Молоток скользнул по гвоздю и ударил в доску.
– Нет. У меня все семья погибла в тридцать девятом.
– В тридцать девятом, – вздохнул столяр. – Так, так. Вот она, война-то. Сколько горя…
Шувара и Марцысь подняли гроб. Он был легкий, будто тело ребенка ничего не весило. Откуда-то появились двое местных ребятишек и понесли впереди крышку.
– Почему не забили гробик? – волновалась госпожа Роек, видя, что Ядвига не сводит глаз с маленького, уже посиневшего лица.
– В России такой обычай. Гроб закрывают только на кладбище. Чтобы можно было попрощаться.
Моросил мелкий, едва заметный дождик. Дети, несущие крышку, то и дело одергивали друг друга:
– Не беги так, Санька, потише.
– Сам ты бежишь…
– Тише!
Ядвига не чувствовала, что проводница и госпожа Роек ведут ее под руки. Боже, какой дождь, как он льет, струится, низвергается со всех крыш… И она пыталась защитить от дождя личико сына.
Она не понимала, куда идет. Между нею и всем, что было вокруг, стояла непроницаемая серая стена тумана. Туман был повсюду, и из глубины его, словно из неведомой дали, доносились какие-то призрачные звуки. Ядвига помнила, что она высадилась из поезда. Но что было дальше? Она шла, когда ее вели, садилась, когда ей предлагали сесть, ждала, когда говорили, что надо подождать. Куда-то бегали Владек и Марцысь, с кем-то спорила госпожа Роек, проводница помогала Ядвиге встать, потом усаживала ее в какой-то комнате на скамью. Долго ее о чем-то расспрашивала, и она отвечала, глядя невидящими глазами в пространство.
Мокрый от дождя песок скрипел под ногами, и Ядвига вдруг удивленно огляделась: «Куда же девался поезд? Где мы?» Госпожа Роек тихо всхлипывала.
– Да успокойтесь вы, мама, – вполголоса бормотал Марцысь.
Ядвига чувствовала, что ее обнимает чья-то рука в ватном рукаве, – ах да, это проводница… Порывисто подул ветер, затрепетало, зашептало торопливую тихую жалобу чахлое деревцо. Кладбище раскинулось на песчаных холмах, голое и неприютное, лишь кое-где виднелись маленькие деревца. В песке выкопана яма, а на куче песка, рядом, стоит маленький, ах такой маленький гробик, и крышка его еще не закрыта. В гробике лежит сынок, дитятко, ее сыночек, что умер в вагоне. Ядвига со стоном упала на колени.
– Не надо, не надо, – всхлипывала госпожа Роек.
Еще раз взглянуть. Хоть раз еще коснуться холодной желтой руки. Боже мой, что же случилось, как это могло случиться?
Она стояла на коленях, когда гроб опускали в яму, и испугалась, что дождь все идет и идет, что ребенок промокнет там, в могиле. Зашуршал песок, сыплющийся на крышку. Вскоре яма исчезла – теперь на ее месте возвышался маленький желтый холмик. Кто-то положил на могилу охапку мокрых от дождя золотистых и красных осенних листьев. «И все? И ничего больше?» – удивилась Ядвига. Она шла, куда ее вели, как вдруг увидела, что желтый песок кладбища, его низкие покосившиеся кресты, каменные и деревянные обелиски с красной звездой на верхушке остались позади. Она споткнулась о булыжник мостовой и внезапно остановилась.
– Идемте, идемте, – уговаривала Роек.
– Куда?
– Как куда? К поезду, к поезду!
– Я туда не пойду, – тихо сказала Ядвига. – Не могу же я его здесь оставить. Такой дождь…
Госпожа Роек перекрестилась.
– Во имя отца и сына… Что вы говорите? При чем тут дождь?..
Рука в ватном рукаве крепче обхватила Ядвигу. Ядвига увидела, что по круглому загорелому лицу проводницы катятся слезы.
– Не надо, милая… Вот и у меня еще летом было двое сыновей… А сейчас никого нет. Надо жить… Надо свое делать…
– Как это? – не поняла Ядвига.
– Оба как соколы ясные… И погибли… А я даже не знаю, где их похоронили, кто похоронил. Ты хоть это знаешь… Ты еще молодая, вся жизнь впереди. Маленькому уже не поможешь. А теперь надо в вагон. Надо ехать, раз уж собралась.
– Разумеется, разумеется, – торопливо поддержала ее госпожа Роек. – Двое сыновей, боже мой… Молоденькие?
– Молоденькие, – как эхо, повторила проводница, отирая глаза рукавом ватника.
Дождь переставал, ветер разогнал тучи. Ядвига снова безвольно двинулась вперед. В вагоне госпожа Роек не дала ей забиться в прежний угол. Она устроила ее между своими узлами, положила под голову подушку.
– Вот так, здесь вы отдохнете. Вытяните-ка ноги, так будет удобнее. Владек, сбегай достань кипятку, надо чай заварить.
Поезд двинулся. Двери теплушки еще не были задвинуты, и Ядвига увидела какие-то заборы, грязную улицу и чахлое, гнущееся от ветра деревцо.
«Вот где я тебя оставляю, вот где оставляю одного, маленького, в такой дождь и холод. Не умела я тебя радостно ожидать до того, как ты родился, не умела спасти, когда ты жил на свете… Вот ты и ушел от меня, вот и ушел от меня…»
Но мысли эти скользили лишь по поверхности, словно не проникая в ее сознание. Они ничего не значили, текли сами собой, ленивые и сонные. «Сыночек умер», – шепнула она, но и эти слова ничего не означали. «Вот где я тебя покинула», – повторила она еще раз. Но и это казалось неправдой, потому что на самом деле покинутой была она, Ядвига. Одна во всем мире. Это уже было раз, что она осталась одна-одинешенька на свете. Но об этом она не должна думать. Это было там, в тот страшный день… Давно, так ужасно давно, что, кто знает, было ли вообще? Быть может, она просто слышала рассказ о чьей-то несчастной судьбе, о чьей-то горькой доле, но к ней это не имело никакого отношения. А сейчас она знает только, что едет на этот несчастный юг. Грохочут колеса, подрагивает, скрипит вагон. Назойливо лезет в уши гомон незнакомых, чужих голосов. Она ясно слышит это, значит это есть на самом деле. Только как она здесь очутилась? Зачем и куда едет? С неожиданной силой Ядвига загрустила по всему, что так недавно без размышлений покинула. Конечно, там было не легко. Только могло ли хоть где-нибудь быть легче?
Там днем и ночью шумели вековые деревья, неслась лесная песня, проникновенная, отдающаяся глубоко в сердце. Внизу визжали пилы, суетились люди, пылали костры на полянке, и все это казалось странно мелким, почти незаметным перед песнью леса, которая неслась вверху. Был ли ветер, или не было его, даже при самой тихой погоде, когда на лице и руках не чувствовалось ни малейшего дуновения, когда нижние ветви замирали в неподвижности, – там, высоко в вершинах, слышался шум, словно над головами людей ходили волны огромного моря. Прохладно, зелено было в глубине леса, а после дождя ноги погружались в густой бархатный мох, будто в мягкий ковер. Была какая-то особая прелесть в этом хождении босиком по мху. А ягод – сколько там было ягод!
Разумеется, жить там было нелегко. В зимние ночи потрескивали от мороза толстые стволы, сквозь стены барака свистал ветер, пока они не законопатили как следует все щели мягким зеленым и серым мхом.
Зябли руки, холод проникал сквозь плохую одежонку. Но от огромных костров веяло теплом, дров здесь не жалели. Их было столько, что хоть день и ночь жги, все равно не сожжешь и щепок, остающихся от рубки леса. Да, иной раз приходилось брести на работу по колено в снегу, но что это для нее значило? Ведь работать ей приходилось всегда, всю жизнь. А теперь она работала на сыночка, на своего маленького.
Конечно, ей, привыкшей к физическому труду, было легче, чем многим. Но ведь не она одна сразу взялась за работу! И как раз такие чувствовали себя здесь лучше других. Хуже всего жилось тем, которые забивались в угол барака, плакали горькими слезами, боялись холода, мороза, боялись всего на свете. Эти и не пытались работать. Они сразу объявили, что лучше умрут с голоду, но не пойдут разделывать на морозе поваленные стволы. Они на чем свет стоит проклинали свою горькую участь, злобно удивлялись тому, что еще живы. И вдруг оказалось, что, например, толстая госпожа Лясковокая, которую привезли сюда почти неподвижную, с отекшими, как колоды, ногами, теперь стала ходить, освободилась от душившего ее жира, помолодела лет на десять. Она не любила, когда ей говорили об этом, но что верно то верно – люди с сердечными болезнями чувствовали себя здесь лучше, несмотря на труд и тяжелые условия. Поправлялись и больные туберкулезом. «Север. Такой уж климат!» – объясняли им, и в конце концов пришлось этому поверить. Можно было избежать и цынги: нужно было только жевать свежую хвою или зеленые свечки, растущие на концах ветвей. «Не дождутся они, чтоб я эти иглы жевала!» – говорили некоторые женщины. Они хотели болеть, лежать в бараках, умирать. Но были и такие, что ожесточились, хотели наперекор всему выжить, продержаться, вернуться когда-нибудь домой. Работали, выполняли норму, перевыполняли ее, зарабатывая на себя и на детей.
А она, Ядвига? Нет, в ней этого не было. Просто судьба забросила ее сюда, и надо было жить. Дают работать, значит надо работать. В ней не было ни злобы, ни ненависти к этим людям. В конце концов разве ей было здесь хуже, чем там, в Ольшинах, когда она сидела в доме одна, как прокаженная, и захлебывалась в отчаянье, что придется рожать ребенка Хожиняка, что этот ребенок существует, растет в ней, развивается? Когда по ночам завывал в трубе ветер, издалека доносился заунывный волчий вой, а она – одинокая, беспомощная, отрезанная от деревни глухой стеной – умирала от страха одна в этом пустом доме. Когда по ночам трещал пол и казалось, что подкрадывается кто-то неведомый, что вот сейчас он подойдет к кровати и она увидит нечто несказанно страшное, нечто такое, чего даже представить себе нельзя… А дни в Ольшинах – разве они были лучше ночей? Безнадежность… безнадежность… Никому она там не была нужна и сама себе отвратительна. А северный лес радушно принял ее, дал покой и отдых душе. Здесь у нее был сыночек, была работа – нелегкая, но прогонявшая горькие мысли. Она давала ей удовлетворение, и за хорошую работу ее, Ядвигу, здесь уважали. Чего же еще?
Почему же она так сразу послушалась письма, почему даже не подумала, куда едет и зачем? Просто собралась вместе с другими и отправилась в эти долгие странствия, которые пока ничего, кроме гибели ребенка, не дали? Во имя чего? Потому что так велел Хожиняк? Но кто он такой, что она должна считаться с его волей, и откуда он опять взялся?
Тогда, в Ольшинах, его внезапное возвращение не принесло ничего, кроме несчастья. Да, да, он всегда приносил ей несчастье, с той первой минуты, когда мать стала изводить ее, уговаривая выйти замуж… Какое же несчастье принесет он еще? И возможно ли, что они встретятся?
У Ядвиги дрожь пробежала по спине. Ведь она даже не помнит его лица. Словно чья-то рука стерла в памяти его черты. А между тем он существует, имеет какие-то права на нее, приказывает. Он вырвал ее из зеленого бора, с шумящего лесами сурового севера, где она нашла все же свое место, свое собственное место, – и швырнул в эти скитания, которые неведомо когда и неведомо чем кончатся. Она опять не хозяйка своей судьбы, опять делает то, чего хочет этот чужой человек. Ей вдруг показалось, будто его глаза следили за ней все это время, будто его исчезновение было односторонним: она теряла его из виду, она ничего о нем не знала, но он всегда знал, где она, всегда готов был вмешаться в ее жизнь, приказывать, нарушить ее покой. Пусть этот покой был непрочный, построенный на хрупком льду, но все же это был покой…
И дико даже подумать об этом – но ведь там, в дремучем лесу, ее ребенок нашел бы помощь и спасение… Он не нашел их в городе, где его судьба была в руках соотечественников, своих. Да, так о них говорилось: «свои». Чужие, бессердечные люди, которые обманули ее! Они-то прекрасно знали, что в поезде нет врача… Знали и все-таки выпроводили ее с ребенком на руках, хотя видели, как он болен, не могли не видеть. Освободились от хлопот, а больше им ни до чего дела нет… И вдруг ее охватил ужас: «О чем я думаю, о чем я собственно думаю? Ведь он умер! Умер у меня на руках, и я даже не заметила, как это случилось. Его уже нет. Он лежит под слоем песка, на одиноком, унылом кладбище, и каждый поворот колес уносит меня от него… И вот уже ничего не слышно, кроме этого грохота колес, которые упрямо, однообразно, непрерывно повторяют какое-то слово». Что это за слово? Ядвига ясно слышала его, но понять, уловить, что оно значит, не могла.
Все вокруг подернулось зыбким туманом, сотканным из чьих-то голосов и лиц, из каких-то звуков и движений.
– Угомонили бы вы свою Зосю, – сердито сказал Шувара. – Пусть бы женщина хоть чуточку задремала… Поди сюда, Зося, я расскажу тебе сказку про верблюда.
– Разумеется, в несчастье сон – лучшее лекарство…
«О чем они говорят? – силилась понять Ядвига. – О каком несчастье? О каком сне? Кому надо уснуть?»
– Спит, – сказал кто-то шепотом. Это, кажется, Марцысь, старший. «Какой Марцысь?» – успела еще удивиться Ядвига и хотела открыть глаза, чтобы поглядеть. Но веки отяжелели, как каменные, туман перед глазами сгустился, его тяжелые клубы опустились ниже. «Засыпаю», – подумала она и погрузилась в мягкую темную тучу.



