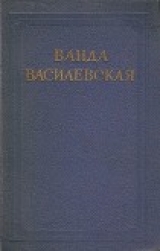
Текст книги "Том 4. Песнь над водами. Часть III. Реки горят"
Автор книги: Ванда Василевская
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 33 страниц)
– Это верный признак, что тебе становится лучше, – убеждал сосед. – Подожди, сегодня вечером будет концерт. Придут с завода, кружок самодеятельности.
– С завода? Почему с завода?
– О, над нами ведь шефствует автозавод. И еще школа. Приходят этакие клопы, читают вслух книжки, газеты. В соседней палате, где легкораненые лежат, там и радио есть и патефон. Но у нас не позволили пока.
– А там кто лежит? Советские?
– Нет, все наши. Весь госпиталь нам отдали.
Легкораненые из других палат приходили к ним в гости. На костылях, в белых госпитальных халатах, в пижамах, в шлепанцах на босу ногу.
– Только на койки не садитесь, – тщетно просила сестра Анна. – Я еще стульев принесу, только не на койки…
Но садились именно на койки. Так было удобнее. Уютнее… И начинались бесконечные разговоры. Еще и еще раз обсуждали первый бой. И не только бой. Делились планами на будущее, воспоминаниями. Чаще всего пускался в воспоминания сосед справа.
– Вот когда я был в Испании…
Забельский слушал. Ну да, ведь об этой Испании тогда столько говорили, писали… О львах Альказара, о героической борьбе с красными бандами… И было известно, что есть такие, что пробирались туда бороться на стороне красных. Потому что были и другие, – их посылали официально, хоть и в глубочайшей тайне. Как завидовал тогда Забельский, в то время еще подпоручик, тому майору, который в один прекрасный день исчез из полка, и только шепотом, щуря глаз, полковник намекнул по секрету, что тот находится именно там.
А теперь было иначе. По соседству с койкой Забельского лежал человек, из уст которого так и сыпались экзотические названия. Он так же просто упоминал Эбро, как Вислу, и смеялся тому, что за борьбу на стороне республиканцев его лишили польского гражданства.
– Гражданство… Где они теперь, сами-то? А я завоевал себе не только гражданство, но и орден… Вот каковы превратности судьбы. Но только когда теперь мы их лишим гражданства, так это уж будет раз навсегда…
До Варшавы было очень, очень далеко, но в солдатских разговорах беспрестанно повторялось:
– Вот когда начнется борьба за Варшаву…
«Испанец» тут же замечал:
– Борьба за Варшаву началась уже давно. Вот как раз тогда она и началась. Под Мадридом.
С ним соглашались. И поручик Забельский чувствовал, что так оно и есть. Почему же раньше, почему тогда они не знали об этом?
Не знали? Но ведь вот этот рядом, всегда такой веселый, несмотря на то, что, может быть, потеряет ноги, – ведь он-то знал! Перебирался через границы, прокрадывался через государства и города, чтобы драться под Мадридом за Варшаву. Не знал этого он, поручик Забельский. Будто ходил с тугой повязкой на глазах.
Что он тогда думал, как он думал, почему не мог понять этого? Скорей всего он просто не думал. Лишь теперь он с ужасом убеждался, что ведь и тогда всякий мог видеть, как Польша катится по наклонной плоскости, к неизбежной катастрофе. А они тогда насмехались еще над капитаном Польковским, у которого были самые черные предчувствия и который в последние дни августа тридцать девятого года ходил будто с креста снятый.
– Да что он дурит? Вы знаете, какие карты нам раздают? Карты Восточной Пруссии и дальше на запад, вплоть до Берлина… Если б были хоть какие-нибудь сомнения, то дали бы карты наших пограничных районов.
Да, да! У него самого, когда он пробирался в Полесье, тоже были в планшете карты Германии. Пригодились, нечего сказать!
Надо начинать жизнь сызнова. Впрочем, это и случилось в тот день, когда он, полный недоверия, так, на всякий случай, явился в лагерь Первой польской дивизии. Там нашелся ответ на все непонятное прежде, даже на тот ужасающий сентябрь, который до сих пор снился ему в кошмарах. Все было ясно и просто. И были люди, которые давно об этом знали и давно к этому готовились и сознательно боролись. И это были как раз коммунисты – те, кого Забельский считал врагами нации, агентами Москвы! Как легко он тогда верил клевете! Она не возбуждала ни малейших сомнений, хотя коммунистов он никогда и в глаза не видел. Первым был тот, встреченный в Полесье украинец. Но потом оказалось, что среди коммунистов немало и поляков и что именно эти люди в первых рядах шли в атаку, вели в бой других и чаще других гибли. Они же защищали до конца Варшаву в тридцать девятом.
Жизнь была непохожа на то, что вбивали в голову ему, Забельскому, чуть не с самого детства… И с этими «восточными окраинами» и с крестьянами и рабочими – все было не так, как ему внушали.
Значит, дело тогда, в тридцать девятом году, было не только в недостатке оружия. Правда, многие тогда говорили: лишь бы дали оружие, а до остального мне дела нет! Но это была та же ошибка, которую сделал и он сам. Нет, теперь поручик Забельский знал, что есть вопросы, быть может еще более важные, чем оружие. Теперь он узнавал о Польше, где родился, вырос и жил, тысячи вещей, о которых раньше знал не больше, чем любой иностранец. Он узнавал нужнейшие для жизни вещи не только из бесед и дискуссий, проводившихся в лагере политическими офицерами, – он многое узнавал также от товарищей, из любого разговора, из любых воспоминаний. И становилось все яснее, что дело не только в том, чтобы драться, главное – это знать, за что надо драться. Главное, чтобы никогда, никогда не могло повториться…
– Здравствуйте!
Свежий детский голосок неожиданно ворвался в его размышления. Девочка лет одиннадцати, в синем платьице и белом передничке, стояла в дверях палаты.
– A-а, Наташа! Добрый день, Наташа! Иди, иди сюда, мы уже давно тебя дожидаемся! Как поживаешь, Наташа? – раздались со всех сторон голоса. – Что ты принесла?
– Сегодняшние газеты.
Забельский невольно усмехнулся. Девочка была чрезвычайно серьезна. Вздернутый носишко и розовое, свежее, будто холодной водой умытое личико.
– С чего начать?
– Ну, разумеется, со сводки.
Она уселась поудобнее, с шуршанием развернула газету. Маленькие ножки не доставали до пола и покачивались в воздухе. Девочка вздохнула, как бы набирая в легкие побольше воздуха.
– Так я буду читать.
– Читай, читай.
Детский голосок зазвенел, как серебряный ручеек. Она стала читать, строго, внятно выговаривая каждое слово. Цифры, видимо, слегка затрудняли ее. Она на секунду приостанавливалась перед каждой и произносила ее с особой торжественностью. Кончив, она тяжко, как взрослая, вздохнула:
– Жаль, нет карты, я бы показала на карте.
– А ты откуда знаешь, где это на карте?
– Как – откуда? У нас в школе висит карта, мы каждый день отмечаем на ней такими флажками на булавочках. Теперь я прочту еще эпизоды.
– Ого! А что же это такое – эпизоды?
Девочка обиделась:
– Вы думаете, я не знаю? А вот и знаю!
– Ну так что же это такое – эпизоды?
– А вы не знаете? Вот прочту, будете знать…
– Как тебе не стыдно, Франек, дразнить ребенка!
– Я дразню? Скажи сама, Наташа, разве я тебя дразню?
– Да нет, вы только надо мной смеетесь.
– Ничего подобного. Разве я посмел бы?
– Вы думаете, что я еще маленькая и ничего не знаю. А я отличница, с самого начала отличница.
– Ого! С самого начала? Значит, очень давно.
– Конечно, давно. Ведь я уже в четвертом классе.
– Да не мешайте вы ей! Читай, Наташа, читай.
Голос, как серебряный ручеек. Забельский смотрел на круглое личико девочки, на торчащие косички, на то, как смешно поднимала она вверх светлые бровки, стараясь читать как можно внятнее.
– А передовую читать?
– Читай, все читай. Только не устала ли ты? Отдохни немножко и поди сюда на секундочку.
Она искоса глянула в сторону зовущего.
– А что?
– У меня тут для тебя что-то есть.
– Не хочу.
– Еще и не знаешь, а уже говоришь, что не хочешь?
– Знаю. Вам конфеты принесли, а вы, вместо того чтобы есть, мне оставили.
– Как в воду смотрела! Но, видишь ли, я не люблю конфет.
– Ну, уж это неправда! – быстро возразила она, крутя в пальцах косичку.
– Как так неправда? Взрослый человек тебе говорит, а ты – неправда!.. Что ж, ты думаешь, все должны любить конфеты?
– Все? – она задумалась на мгновенье. – Мой папа тоже не любит. Но он говорил: это потому, что он курит. А вы ведь не курите?
– А где твой папа?
Какая-то тень пробежала по детским глазам. Она вздохнула.
– Мой папа тоже в госпитале.
– Ранен? Здесь, в Москве?
– Ранен. Только мой папа лежит в Челябинске. Если бы у мамы не было столько работы, она могла бы взять отпуск с завода, а если бы это было в каникулы, я бы поехала к нему с мамой.
– Так мама работает на заводе?
– Ага. У меня мама стахановка.
– Вот оно что! Знаешь что, Наташа, – хочешь на концерт пойти? У нас сегодня концерт.
– Хорошо бы… А только я не могу остаться, времени нет.
– Уроков не приготовила?
– Нет, уроки я всегда раньше готовлю. А только мама сегодня задержится на заводе, так мне надо Сашу покормить и уложить спать.
– Это кто же – Саша?
– Мой братишка. Ему всего пять лет. Маленький. А этому дяде уже лучше? – вдруг обратила она внимание на Забельского.
– Лучше, лучше! А ты как узнала?
– Потому что, когда я раньше приходила, у него всегда глаза были закрыты. А сегодня он слушал.
– Вот видишь, теперь у тебя будет еще один знакомый.
– У меня много знакомых. И внизу тоже. Только туда ходит дежурить Соня из пятого класса. А из четвертого только одна я хожу. Марья Ивановна говорит – потому, что я хорошо читаю. А Флора просилась, так Марья Ивановна не пустила, потому что она всегда ошибается. Ну, я пошла.
Она исчезла в дверях. Забельский смотрел в потолок. На душе у него было как-то странно. Он и подсмеивался над собой и чувствовал себя до глупости растроганным, размягченным. Детский голос залетел в эту палату искоркой нечаянной радости.
Маленькая девочка. Отец лежит раненый в Челябинске, а она приходит сюда читать газеты польским солдатам.
И снова укол в сердце. Вспомнился тот украинский крестьянин, который бежал навстречу приближающимся частям Красной Армии. И перестрелка, когда они шли к литовской границе. И все их дела над Стырью. Ведь на месте крестьянина, которого он застрелил, мог быть отец этой Наташи. Этой или другой такой же девочки, которая в короткий перерыв между приготовлением уроков и укладыванием братишки бежит в госпиталь читать газеты польским солдатам.
На глазах Забельского выступают слезы. «Ох, до чего же я слаб, все время реву, как баба… Кому ты читаешь газеты, Наташа? Рядовому Новацкому, раненному в бою, бок о бок с твоими соотечественниками, или поручику Забельскому? Что сказала бы Наташа, если бы…»
Вздор! Что может понять маленькая девочка? Маленькая девочка с приветливым, доверчивым лицом.
«Я краду твое доверие, Наташа, скрываю свою вину перед тобой, маленькая девочка из города Москвы…»
И снова эта треклятая головная боль. Снова темные полосы теней на потолке сплетаются в узел, который не распутаешь.
«Нет, я не виновен, это все тот, поручик Забельский…»
«Не валяй дурака, – строго одергивает себя раненый. – Какой такой „тот“? Это и есть ты сам».
Но и эта беспощадная мысль не помогает. По какой-то неведомой, неясной дороге идет поручик Забельский, а рядовой Новацкий по-прежнему смотрит на него со стороны и не чувствует к нему ничего, кроме неприязненного любопытства.
«Кто ты, чужой человек, идущий по пыльной дороге?»
«Но это же я, я!»
Да, это так. Это он – Забельский. И, однако, ему никак не удается думать мыслями того, поручика Забельского.
«Что у меня с тобой общего? – холодно думает рядовой Новацкий. – Ничего. Совсем ничего. Я не знаю тебя».
Холодное прикосновение ко лбу. Ага, опять кладут лед… Это хорошо, от него всегда становится яснее в голове. Наверно, сестра Аня? Он осторожно нащупывает руку сестры, маленькую, немного загрубевшую руку, и притягивает ее к своим губам.
Испуганная сестра стремительно вырывает руку.
– Что ты, что ты!
Раненый улыбается. Ох, как хорошо с этим льдом на голове. Да, у его матери, наверно, были такие же ласковые серые глаза и такая улыбка, как у сестры Ани. И ясно, что, когда он вернется из госпиталя в часть, придется доложить о своем прошлом командиру. Для порядка. Потому что какое же еще значение все прошлое имеет сейчас?
Но снова перед ним лицо того крестьянина. И еще одно лицо – там, в плавнях Стыри. Неужели он никогда не сможет забыть этих лиц?
– Спи, спи, сынок, – тихо говорит сестра Аня.
Хорошо, что она тут. Теперь можно будет уснуть. «И ведь передо мной еще долгая жизнь, – думает раненый. – Вся жизнь. Я еще буду в Польше, буду в Варшаве».
Спесивое лицо полковника. Теперь Забельский видит, что это был просто надутый пузырь, и ничего больше. А тогда чувствовал уважение. К человеку? К чину?.. Нет, о полковнике и думать не стоит. Ирина. Главным в жизни была ведь она – Ирка. Но чуждо и безразлично звучит теперь и это имя. «Как же так? Я был влюблен в эту Ирку. Что же мне в ней нравилось? – спрашивает он себя. И ничего не находит. О ней думается, как о едва знакомом человеке. – Нет, это сделали не только годы разлуки. Я отошел от Ирки. Во мне теперь нет ничего, чему Ирка могла быть близкой. Как могло бы остаться хоть что-нибудь от прежней любви, если не осталось ничего от прежнего человека? Я приду в Варшаву таким, что меня никто не узнает. И в сущности сам увижу Варшаву впервые, новыми глазами, которыми никогда раньше не смотрел на мир. О чем же я смогу теперь говорить с Иркой? Что она поймет из всего, что произошло со мной?»
И вовсе не ее лицо возникает перед глазами, а лицо той смуглой, замкнутой женщины, которую он видел всего несколько раз, когда приходилось ездить по поручениям командира в правление Союза польских патриотов. Лицо Ядвиги Плонской. О чем он с ней говорил? Только о служебных делах – о детях солдат и офицеров дивизии. Через ее руки проходили все списки, именно она знала, где, в каком колхозе или совхозе остался ребенок. Она посылала людей, чтобы они перевезли ребят в детский дом, и проверяла, насколько они обеспечены там, на местах. Ей давали знать колхозы, что дочке такого-то солдата выдается литр молока в день, столько-то и столько-то хлеба, столько-то и столько-то других продуктов. Она получала и передавала в дивизию сведения, сколько пар ботинок, сколько свитеров и простынь выдали детям польских солдат местные организации. Вот и все темы их разговоров. «Почему же я думаю именно о ней, хотя видел ее всего несколько раз? И почему так хорошо ее помню? Черные брови, почти сросшиеся на переносице, и хмурые глаза, вдруг проясняющиеся неожиданно нежной, ясной улыбкой. И тихий голос. Может, ее я и люблю, эту почти незнакомую Ядвигу Плонскую? Но что я о ней знаю? Быть может, она совсем другая, чем кажется? Почему мне так приятно думать о ней?»
– Спишь?
Нет, он не спит, но глаз не открывает. Не хочется разговаривать. Хочется думать о ней. Или даже не думать, а просто представлять ее себе – как она смотрит, как встает, чтобы найти папку, как ее развязывает, как сдвигает брови, когда, справляясь с записями, диктует письма солдатам.
Рядом шепчутся. Это чтобы его не разбудить. Но он сам начинает с интересом вслушиваться в этот шепот.
– Ну, после забастовки мне уже в Польше жизни не было. Столько народу без работы, а я еще в черном списке! Подохну тут, думаю, да и все. Забрал жену и детей – и во Францию. Сколько мы намучились в пути, это уж я один знаю. Ни денег, ни вещей, ребятишки маленькие… Ну, ничего. Добрались, наконец, до какой-то дыры в северной Франции. Шахта, бараки для шахтеров. Ну, и жизнь была в этой Франции… эх! И опять забастовка, и опять тюрьма… Жена в шахте работала. Так и съел ее этот уголь, померла. Ребятишки скитались по знакомым, то у одного, то у другого. Ну, в конце концов удалось сюда приехать, в Донбассе работал, потом под Москвой.
Забельский не открывает глаз. Он и так знает – это тот, раненный в руку поручик, пришел из другой палаты.
И вдруг он впервые сопоставляет эти два понятия: поручика и шахтера. Он, поручик Забельский, сейчас просто рядовой. А тот, раньше простой шахтер, теперь поручик. Раньше он считал бы такое положение смешным и нелепым. Но сейчас он знает – это правильно. Так и должно быть.
– Французские шахты…
Забельский слушает. Но сон помаленьку смаривает его. «Видно, у меня уже нет жара», – думается ему. Сон, мягкий и спокойный, с непреодолимой силой смыкает ему глаза. Что там еще рассказывает этот поручик с черными пятнами навеки въевшегося угля на руках и на лице?
«Но ведь передо мной еще целая жизнь, целая жизнь!» – сверкает в мозгу Забельского радостная мысль, спокойная и уверенная, как истина.
Глава XIV– Хлопцы, а ведь завтра пасха! – вдруг вспомнил кто-то.
– И правда! А тут холод, как перед рождеством…
Стефек, свесив ноги, сидел на платформе. За его спиной товарищи вспоминают о том, как проводили, бывало, пасхальные дни, о каруселях, о гуляньях за городом, навсегда оставшихся в памяти. Он поднял воротник и сунул руки в рукава. Пасха… Сколько лет о ней и не вспоминал? В Ольшинах были две пасхи. Одна – дома, скучная и бессмысленная, против которой они с Ядвигой вечно бунтовали. Но мать требовала исполнения всех обычаев: пасха всегда пасха! И вот красили яйца, пекли какие-то бабки. Приходилось выслушивать длинные, скучные рассказы о мифических Луках, в существование которых им всегда как-то не верилось. Рассказы о том, как в Луках клали в тесто по двести, триста одних только желтков; какие там пекли мазурки и куличи; как готовили отдельно для господ и для «людей»; как ездили в коляске в костел. Впрочем, в костел можно было, если захочешь, отправиться и здесь. Мать не шла; видно, дело было не в костеле, а в парадном выезде, во всей барской обстановке праздника. И пасха потеряла для госпожи Плонской свое обаяние, сводясь к мрачному поеданию бабки, в которую не было положено двести желтков, к сердитым упрекам, что Ядвига и Стефек ничего не понимают.
А тринадцатью днями позже бывала другая пасха – деревенская, православная. Эта лучше запечатлелась в памяти Стефека – радостными песнопениями в церкви, угощением по избам, куда они с Ядвигой бегали, сперва тайком от матери, а потом открыто. Но и эта пасха, хотя и более торжественная и веселая, была скудна и убога – ведь, позже или раньше она наступала, все же это всегда было к весне, в ожидании новины, когда осенний хлеб уже съеден.
Вспоминается, как красили яйца для этой пасхи шелухой от лука, – тогда яйца получались золотисто-коричневые. Выкапывали корни терновника на пригорке за деревней – черные кусты кололи жесткими, острыми шипами, словно защищаясь; иногда они к пасхе были еще голые, черные, сухие, как скелет, иногда уже стояли в белоснежной дымке мелких цветочков. Сколько, бывало, намучаешься с выкапыванием этих корней! Но зато яйца, окрашенные их отваром, были желтенькие, веселые, как маленькие солнца. Девушки красили еще иначе – они заворачивали яйцо в пестрые тряпочки, в какие-то нитки, выдернутые из лоскутьев. Тут никогда нельзя было знать, что получится. Чаще всего – какие-то пятна неопределенного цвета. Но иногда удавалась светлая, веселая окраска с неожиданными жилками и крапинками, и ее приветствовали радостными возгласами.
Дома яйца красили краской, купленной в магазине. Тут уж не было никаких сюрпризов. Если на пакетике написано «красная» – получались красные, написано «голубая» – получались голубые. Может, они были и красивее, ярче, чем деревенские, но те нравились больше. И деревенский темный калач был вкуснее материнских бабок, испеченных из белой муки и с изюмом.
– Хамские вкусы! – говорила мать. – Стоит для вас стараться, мучиться? Все равно вы ничего не цените.
– А вы не старайтесь. Не нужна нам эта пасха. Сами вы захотели, а потом всё на нас!
– Ну да, дома она вам не нужна, а по избам рады с утра до ночи сидеть. И что вам там нравится, не понимаю? Черные лепешки?
И он и Ядвига молчали. Не стоило отвечать, мать все равно не поняла бы, даже если бы и постаралась понять. Но она и не старалась. Единственное, чего ей хотелось, – это быть несчастной и обиженной и размышлять вслух, откуда у ее детей эти хамские вкусы, эти плебейские наклонности, эта вечная неблагодарность.
Но все же пасха всегда соединялась в памяти с весной, с полыми водами, с шумом озера, с пением тысячи оживших ручьев…
За спиной Стефека кто-то сказал:
– А еще говорят Украина, теплый климат!
И правда, не верилось, что уже апрель. Тем более здесь, среди высоких сосен. На железнодорожных путях, правда, снега уже не было, а только темная, растоптанная и снова подмерзшая грязь. Но дальше, под деревьями, еще виднелись пятна закопченного, покрытого сажей снега, который как будто и не собирался таять.
– Долго нас тут будут держать? – ворчали артиллеристы, сидящие у своих орудий, на железнодорожных платформах. Но вот уже второй день как все словно замерло. Пути были забиты. Стояли длинные вереницы серых цистерн с бензином, в открытых дверях теплушек играли на гармошке советские пехотинцы, дальше темнели орудия, прикрытые серо-зеленым брезентом. Возле станционных зданий суетились какие-то люди, бегали взад и вперед железнодорожники, но никто не мог ничего толком сказать.
– Линия загружена. Киев не принимает. Все забито поездами, а тут еще этот злополучный мост.
– Ну, если немцы нас тут навестят, такой каши наделают, что только держись…
– Вокзал, видишь, разрушен… Наверно, недавно летали…
– Глупости! Его, может, еще в сорок первом развалили!
– Как бы не так! Ничего ты не понимаешь, еще даже балки дождями не обмыло, только что горели! А вчера разве этот урод не летал над нами? Небось уже все снимки сделал…
– Э, что там! Одна «рама» только и летала…
– Приведет за собой других, не беспокойся…
– И чего вы треплетесь? Не терпится вам бомбы увидеть, что ли? Начали с пасхи, а кончили налетами!
– А что с этой пасхи? Шиш.
– Неправда! Завтра выдадут водку и по два яйца.
– А ты откуда знаешь? Уже выпросил у повара?
– Даст он тебе, как раз…
– А все же клянчил?
– У него не выклянчишь. А только наверняка знаю: по два крутых яйца. Пасха!
– Я бы уж и эти пасхальные яйца отдал, лишь бы нас поскорее отсюда выпустили!
– Пробка, черт бы ее взял!
– Пробка. Я до самого моста дошел, все забито, пальца не просунешь.
День был пасмурный, но тумана не было, и ясно виднелся силуэт города на горе. Высоко к небу вздымались две башни.
– А это как раз их Киево-Печерская лавра, – объяснил один из солдат. – Вон там, видишь, такая высокая башня. Там еще и собор был, да немцы взорвали. Ох, какой собор был!
– А ты откуда знаешь?
– Как откуда? Да я в этой Дарнице почти два года работал в совхозе, тут недалечко. Было бы время, сбегал бы посмотреть – может, еще кто знакомый остался. Я сразу, в тридцать девятом, как только объявили запись добровольцев, так и записался на работу. И в лавру ходил, там музей устроили. Вот это дело, я вам скажу! Все как на ладони видно – матерь божья на иконе своими слезами плачет.
– Брешешь!
– Чего мне брехать? Слезами плачет, так ручьем по лицу и текут. А рядом дверца в стене, можно зайти и посмотреть, как это устроено. Шпагатики, проволочки, пузырьки такие с водой. Только раньше-то туда, конечно, не пускали, так что никто не знал. Такую чудотворную икону монахи оборудовали – всякий бы поверил. А под землей коридоры – идешь, идешь и конца им нет. И там святые лежат в гробах, все как есть видно.
– Так прямо снаружи и лежат? Не в могилах?
– Снаружи. Высохшие такие, руки как из дерева вырезаны и черные… Мумии называются, или там мощи. В музее показано, как таких святых делали. А глупый народ ходил и этим святым кланялся. Умели из людей деньгу выжимать, умели!
– А то нет! И у нас, бывало, как повалит народ на храмовой праздник в Ченстохов…
– Или в Тухов…
– А то еще в Кальварию. В Кальварии там такие корыта деревянные, и эти корыта, вот, ей-богу, не вру, бывало, доверху деньгами насыплют! Народ за сотни верст туда идет на храмовой праздник. А как пройдет девять месяцев – смотришь, девки кругом родить начинают. Как же, храмовой праздник!
– Постыдились бы вы под самую пасху богохульствовать, – сурово остановил их пожилой солдат.
– Ого, дядюшка Адам уже разворчался… А сами-то вы, отец, не из-под Кальварии случаем?
– Из-под Кальварии.
– Так что ж, я неправду говорю? Не бывает так?
– Что люди делают – это одно, а бог – другое! – рассердился старик.
– Ну, ладно уж, ладно… Подумать только, весь свет человек прошел, а ума ни на грош не прибыло! Отец, а на храмовой праздник в Кальварию пойдете?
– Приведет бог домой вернуться, так и пойду.
– Ну вот вам… Э, темная масса! Вот не взорвали бы фашисты здешнего собора, могли бы и вы пойти все ихние штучки посмотреть.
– Это православные…
– А католические лучше? Эх, отец, мало еще, видно, из вас ксендз крови выпил…
– Да оставь ты его в покое! Не видишь, старик утром и вечером молится, – отучишь ты его, что ли? Расскажи-ка лучше еще что-нибудь о Киевской лавре.
– О лавре? Ну что ж… Ходил я по этим пещерам, дальние есть и ближние. И всюду в нишах эти покойники, мощи, значит. А пещеры в каменных скалах – говорят, в старые времена люди там от татар прятались… И собор, уж такой красивый собор! Стены все в золоте, глазам больно…
Стефек не стал слушать, что дальше говорилось о лавре.
Киев… В скольких километрах за Киевом теперь советские войска? Сколько километров до Ольшин? Ведь это уже Украина…
Как помнился ему мрачный, серый октябрьский день. Они уходили из Харькова на рассвете. Несмотря на ранний час, на тротуарах стояли толпы понурых, окаменевших людей и безмолвно наблюдали этот марш на восток, медленно движущиеся машины, бредущую пехоту.
А потом – скопление машин у осклизлой дороги. Ее размесили тысячи ног, изрыли колеса орудий, гусеницы тракторов и танков. Артиллеристы топтались в глубокой грязи, подпирая плечами увязающие орудия. Саперы отчаянно кляли моросящий дождь и хлипкий мостик, который непрерывно приходилось укреплять.
И среди шума, грохота, крика люди становились на колени и целовали черную, раскисшую землю. Некоторые завертывали в платок горсть этой земли, прятали за пазуху. По лицам катились слезы. Эта грязная речушка, эта долинка, превратившаяся в сплошное болото, была границей Украины. Последний клочок Украины, который приходилось покидать…
Первая деревня, в которой они вечером остановились на ночлег, была уже в России. Украина кончилась. Но в избах, точно таких же, как по ту сторону речушки, так же висели на стене портреты Сталина и Шевченко и так же суетились хозяйки, спеша накормить, напоить солдат.
Теперь эта речушка была уже далеко позади, на востоке. Войска продвинулись далеко за Киев.
Где-то теперь капитан Скворцов? Кто заправляет его машину, кто проверяет мотор, кто ожидает его на рассвете? «Не печалься, – сказал он тогда Стефеку. – Встретимся, а в этом польском войске ты еще и генералом станешь». Он шутил и смеялся, но Стефек знал, что и ему грустно. Увидятся ли они когда? Каждый военный день разлучал людей, и неведомо было, куда ведут их дороги, скрестятся ли они еще когда-нибудь и где скрестятся. Сколько друзей, сколько милых сердцу потерял он уже на этих дорогах, сколько новых людей всем сердцем полюбил! Эти три года были длиннее всей его предыдущей жизни.
…Теперь уже недалеко. За туманной колокольней лавры, дальше туда, на запад, куда непрестанно устремлялись войска, – там были Ольшины. Быть может, счастливый случай устроит так, что они будут двигаться именно в этом направлении и можно будет увидеть знакомые дома у дороги, кудрявые ивы, озеро… Увидеть Соню.
Это были какие-то не совсем реальные мысли. Не верилось, что прошло только три года, не верилось и тому, что прошло уже целых три года. И ни один из этих дней не исчез бесследно, каждый имел свой смысл, свое значение. В армии была настоящая жизнь Стефека – ощутимая, простая военная жизнь. А что таилось за мглой, окутывающей Ольшины? Какими днями отмечались там человеческие жизни в эти три года, три года оккупации?
Линия фронта разделяла как бы два мира. Что же таил в себе тот, другой мир, отрезанный, раздавленный, окованный тяжелыми цепями? Каким лицом взглянут на него теперь Ольшины, каким словом его встретят? А может, и вовсе не придется их увидеть? Ведь его путь – к Бугу, за Буг, на Варшаву и Краков. Может, пройдем стороной…
Год-два назад об Ольшинах думалось так, словно они, далекие и недостижимые, оставались все теми же, какими были раньше. Теперь, когда они стремительно приближались, их очертания стирались, и он все яснее сознавал, что, как бы там ни было, тех Ольшин, которые запечатлелись в его памяти, уже нет. Придется заново встречать людей и заново узнавать новые Ольшины, которые возникли за эти три года неведомо как и неведомо какие.
– Летит!..
В бледном, будто вылинявшем небе дрожал слабый, как комариное жужжание, назойливый звук.
– Может, наш?
– Как бы не так! Не слышишь, что ли?
– Даже два, если хотите знать. Вон, вон – видно!
– Ты не заливай! Разве увидишь? Высоко летит.
– Смотри хорошенько. Увидишь, коли не слепой.
Задрав головы, они всматривались в бесцветное небо. Там действительно виднелись две едва заметные точки.
– Кружится, холера. Снимки делает.
– Может, так только пролетает?
– Еще чего! Стал бы он тогда кружить… Снимает!
– Хлопцы, сделайте приятное лицо! Вас снимают!
– Дурак! Вот они тебе покажут! Теперь только и жди, приведут бомбардировщиков.
Но два черные комарика давно исчезли, а бомбардировщики не летели. Солдаты зевали; на опушке, за железнодорожными путями, кто-то разжег огонек; там советские солдаты разогревали под вагонами консервы в жестянках. Часы тянулись медленно, скучно.
– Хоть бы походить разрешили, что ли…
– Ага, походить. А поезд двинется, и тогда лети за ним, лови его за хвост.
– Что-то не видно, чтобы он собирался двинуться.
– А помнишь, как на той станции? Стояли, стояли, вдруг – раз, и поехали. Сказал поручик – не расползаться.
– Холодина…
– Побегай вокруг платформы. Или винтовку почисть.
– Уже почищена. Блестит как…
– Ну так спи!
– Средь бела дня?
– Если нечего делать, то спи! Про запас.
Зенитчики дремали, опершись головами о закрепленные на платформах орудия.
Уже надвигались сумерки. На небо выплыл мрачный желтый месяц в туманной шапке. Холод становился все чувствительнее.
– До ночи, видно, не отправят.
– Чего захотел – до ночи! Хоть бы завтра пропихнули, и то бы слава богу!..
– Ну, что ж, выспимся – и все. Ночь быстрей проходит, чем день.
– Смотри, как бы она слишком быстро для тебя не прошла!
Вот такой же самый желтый месяц взошел теперь над Ольшинами. Его круглый сонный лик отражается в озере. Осенний какой-то месяц. Желтый, перечеркнутый черной полоской облака круг блестит в болотах, в реке, плывет по небу над темной уснувшей деревней, над землей, поросшей ольховыми рощами, над растрепанными верхушками верб. Быть может, и Соня как раз сейчас смотрит на месяц?







