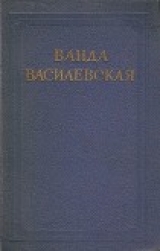
Текст книги "Том 4. Песнь над водами. Часть III. Реки горят"
Автор книги: Ванда Василевская
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 33 страниц)
Теперь можно бы поговорить с капитаном Скворцовым смелее, без того чувства, что по сути ты перед ним сопляк. Это чувство исчезло там, в Ольшинах, когда он стоял над могилой Сони. Там навсегда прошло, исчезло то, что было улыбающейся юностью. Хотя он уже однажды так думал, тогда, в тридцать девятом, в госпитале. Ох, то черное отчаяние в сердце – что все пропало, что уже нет спасения.
И все-таки после всего этого можно было подняться. Можно было вновь поверить в жизнь.
Теперь он шел вперед – как будто в той самой форме, которую тогда, в тридцать девятом, изорвал в клочья осколок. Это была как будто та же форма – и вместе с тем другая.
Теперь это форма победоносной армии, форма солдата, верящего в победу, форма армии, несущей народу новую жизнь. Но пришлось еще пережить и такое горе – когда там, на другом берегу, гремели выстрелы, и гибли люди, и умирал город, и ничем нельзя было помочь, нельзя было спасти. В этих днях был горький привкус сентябрьских воспоминаний: ведь и сейчас Варшаву предали на муки те же люди, что в сентябре тридцать девятого оставили ее без защиты и бросили солдата на гибель, одинокого, в безнадежном бою.
После непрерывного трехмесячного наступления армии пришли сюда, как смертельно усталый человек. Кровавый путь войны вел к берегу Вислы. От Люблина и до самой Праги – словно аллея огромного кладбища. Могилы справа и слева, справа и слева. Солдат из Сибири и солдат с Украины, казах и башкир, московский паренек и девушка из Ленинграда своею кровью платили за каждую пядь освобождаемой польской земли.
Ах, если бы позже, если бы немного позже началось это восстание…
Шестьдесят три дня гремели выстрелы на том берегу, в Варшаве Польские солдаты слышали их сквозь грохот орудий, атакуя Прагу, и долго слышали их потом, словно мучительное биение смертельно больного сердца.
Не вернулись те, что переправились на другую сторону, на черняковский плацдарм.
Не вышли сюда и те – с баррикад, из домов-крепостей, из города, охваченного огнем, безумием и отчаяньем.
В который же это раз предали варшавян? Вместо приказа пробиваться, переплывать на восточный берег Вислы «лондонцы» приказали им сдаться врагу. А ведь здесь все было подготовлено, чтобы артиллерийским огнем и самолетами прикрыть переправу повстанцев. Они могли спастись, могли с оружием в руках прийти сюда, к своим…
Но на левом берегу, в Варшаве, об этом знали только в штабе восстания, а там засели агенты «лондонцев» и, совершая свое черное предательство, тщательно скрывали все, что могло дать людям надежду, что могло быть путем к спасению.
Ведь пробилась же горсточка смельчаков вопреки приказам и запретам! Пробилась и принесла на пражский берег страшную повесть о героизме города и агонии города, о том, как торжествующие победу гитлеровцы с почестями принимали командующего восставших варшавян, в то время как его солдат гнали на запад, в лагери уничтожения.
Варшавян заставили еще раз пережить горечь поражения, крушения всех надежд. И снова и снова, как тогда, «вождь» уехал в лимузине, а солдаты, поникнув головой, побрели в свой крестный путь.
Но ведь теперь не тридцать девятый, а сорок четвертый год! Ведь изменился весь облик мира! Ведь между двумя сентябрями были и Москва, и Ленинград, и Сталинград, и Орел – великая эпопея героизма, какого не видывал свет!
Все это прошло мимо лондонских «руководителей Польши», они вели свою преемственность от сентября тридцать девятого, не желая знать ничего нового, – и они ценой крови тысяч людей, ценой развалин и пепелищ старались связать порванные раз навсегда нити этой преемственности.
Варшава пуста и все горит, горит, горит. И кажется, будто там, на том берегу, гибнет в пламени любимый человек.
Моросит октябрьский дождь. Горит на том берегу Варшава, как факел, окутанный черным дымом, втаптываемый в землю.
А в Варшаве, в первом доме…
Упрямо, однообразно звучит песенка. И в тон ее бесконечно повторяющимся словам бьется мучительная мысль, несказанная печаль, глухая тоска о городе, преданном на смерть.
Нет, не даст уснуть пылающий город на том берегу.
– Первый раз я в Варшаву с отцом приехал, – говорит какой-то солдат. – Отец работы искал. Да куда там! Как раз забастовка была. Отец-то у меня каменщик…
– А мы варшавяне. С дедов-прадедов. И всю жизнь в одном доме жили. Со двора, комната с кухней. Мать на окне герань выращивала – чудо, что за герань была!
– Крышка теперь твоей герани.
– Наверно, и дома-то нет. А сколько простоял! Мой прадед еще в этом доме жил, только в другой квартире. Все равно пойду искать, хоть на то место посмотрю, где он был…
– А народу, говорят, под развалинами осталось – страсть!
– Эти девчата, которые переплыли сюда, рассказывали, что людей на улицах, на скверах хоронили. А уж где дом рухнул, там ни времени, ни сил откапывать не было…
Из-под черной тучи дыма, окутывающей город, взвивались вдруг султаны пламени. И тогда в дыму виднелись развалины, похожие на очертания причудливых зданий. Но пламя меркло, все снова погружалось в черную тучу, подсвеченную снизу мрачным, рыжим светом.
Глаза силились рассмотреть в хаосе мрака и огня какие-нибудь знакомые силуэты.
– А там, направо, что видно?
– Да это же замок!
– Тю! замок… Замок левее. А вот справа?
– Цитадель, на самом берегу.
– Это что такое – цитадель?
– Эх ты, гужеед! И цитадели никогда не видал?
– Я и в Варшаве никогда не был. Мы из-за Седлеца. Над самым Бугом наша деревня.
– Да ведь это недалеко, сколько от вас до Варшавы?
– Не то сто двадцать, не то сто тридцать километров, говорили.
– И ты не поехал посмотреть?
– А откуда у меня деньги на билет? У нас деревня бедная, на песке. В Седлец и то, когда надо, пешком ходили, а там всего три остановки поездом. Куда уж нам было в Варшаву!
– А земли у тебя сколько было? – заинтересовался сосед.
– Земли-то? Какая у нас земля… Песок и песок… Еще картошки, бывало, уродится немного. А так – одна полынь растет.
– Теперь землю получишь.
– Говорят, получу… А земля у нас есть. У одного графа Руженского какое имение! Мы, бывало, на заработки к нему ходили – пятьдесят грошей в день платил.
– Крышка теперь твоему графу.
– Только бы наделили как следует… А то у меня баба там одна, недосмотрит, того и гляди дадут какой-нибудь огрызок…
– Мужик, он всегда мужиком и останется, – философски заметил худой солдат в длинной шинели. – Раньше у него ничего не было, а теперь, когда он знает, что ему дадут, – так боится, как бы его не обманули…
– Да уж оно так, всякий народ бывает. Конечно, он там, на месте сидя, лучший участок себе выберет.
– А я и гнаться не буду! Вот на западе, говорят, земли много, лучше уж я там участок возьму.
– Сперва немцев с этих западных земель выгони!
– Не беспокойся, без оглядки оттуда побегут.
– Побегут-то побегут, а пока вот Варшава горит…
Они притихли, глядя туда, где при внезапных вспышках пламени, как призрак, выступала черная громада цитадели.
– Ходили; мы как-то с экскурсией осматривать эту цитадель. На том месте, где при царе вешали, – могилки, плиты белые каменные. А виселица под стеклом.
– Под стеклом? – изумился крестьянин из-под Седлеца.
– Ну а как же? Дерево ведь, так чтоб не сгнило, на память… И венки на могилах лежали, и мраморные доски – все как следует.
– А по ту сторону цитадели ты был? – спросил сидящий на корточках коренастый пожилой солдат.
– Это по какую сторону?
– А вот от Жолибожа.
– А там что?
Тот не спеша крутил цыгарку, угощая табаком остальных.
– Холодно, дождик-то всерьез взялся… Закурить, что ли? Все теплей будет.
Они осторожно закурили, пряча в рукава огоньки цыгарок.
– А мы вот с другой стороны побывали, только не с экскурсией, туда экскурсий не водили. Ров этакий и лужок, вроде ничего особенного и нет. И даже козы на лужке паслись. А там в двадцатом году расстреливали.
– Кого расстреливали? – удивился молодой солдат.
– Разных… Коммунистов расстреливали… И тех, которые не хотели воевать против большевиков… И тех, которые с большевиками на Варшаву шли.
– Наших?
– Наших. «Красный полк Варшавы». Был такой. Так вот, если из этого полка кто в плен попадался, на этом лужке расстреливали у крепостного вала. Да и потом моего товарища одного – токарь был, с Воли, – в двадцать пятом году тоже тут расстреляли. Троих тогда расстреляли.
– За что?
– В провокатора стреляли. Я вот теперь смотрю на левый берег и думаю: не дождался Владек!.. С нами бы теперь был.
– Смотри-ка! Кто с большевиками шел, тех расстреливали! А мы теперь все с ними… Сколько их тут за Польшу погибало… – вздохнул молодой солдат.
– Не бойся, попался бы ты им сейчас в руки, тоже бы расстреляли, не задумались бы!..
– Это кто же?
– Да все те же! А кто в Люблине капитана убил? Еще не раз придется нам с ними дело иметь. Не так-то легко они свое отдадут. Вот хоть и твой граф – легко ему имения лишиться? Небось захочет опять тебя за пятьдесят грошей нанимать, как прежде…
– О, смотри! Слева вроде еще что-то загорелось!.. И когда только мы туда пойдем?
– Прикажут – пойдем. Начальство лучше знает, куда и как идти.
– Это-то конечно. А только тоска… У тебя, Янек, есть кто в Варшаве?
Молодой солдат медленно, неохотно ответил:
– Откуда мне знать? Был отец, мать была, братья…
– Э, что там, не всех же убили! – искусственно оживленным тоном отозвался кто-то из его товарищей.
– Кто знает? И как можно уцелеть в этих развалинах, в этом огне?
– Эх ты! Говорили же летчики, сами видели, как их по дороге из города гнали.
– Куда?
– Ну, это покамест неизвестно.
Разговор снова затих. Но сразу же рядом зазвучали голоса.
– Мы тогда остались на Лильпопе…
– В котором это было году?
– В котором? Постой, я тогда работал второй год, значит…
Моросило. Сырость оседала на шапках, на шинелях, лица солдат были мокры. Они поглубже засовывали руки в рукава.
– Холодно.
– Что ж ты хочешь? Октябрь…
– Помню, раз в октябре такая теплынь стояла, пошли мы в Лазенки…
В разговорах, воспоминаниях, во всех мыслях то и дело возникала она – горящая на той стороне столица. Никому не хотелось спать. Взгляд, как околдованный, устремлялся туда, где виднелся во мраке догорающий город. Он вырастал перед глазами ярким светом шумных улиц, вздымался стенами домов, глядел стеклами окон. Важные события и пустячные случаи четко рисовались на фоне именно той, а не иной улицы, того, а не иного закоулка. Варшава оживала в памяти. Казалось, что она стоит там, за едва поблескивающей во тьме Вислой, все та же, неразрушенная, живая, цветущая зеленью парков, шумная, позванивающая трамвайными звонками.
– Бывало, подъезжаешь к ней вечером – все небо светлое от огней…
– Да ведь и сейчас светлое… – вмешался солдат из-под Седлеца.
– Эх, парень… Сейчас сразу видно, что это от пожара. А тогда был веселый свет, сияние такое. А уж на Маршалковской вечером – как днем. И фонари, и витрины, и рекламы, и неоны…
– Неоны?
– Правда, ты ведь и неона не видел, темная масса… Ну, свет такой, в стеклянных трубках, понимаешь? Красный, зеленый, всякий… аж глазам больно смотреть!
– Да, светло, ничего не скажешь. А вот как до Маримонта, бывало, дойдешь – хоть караул кричи: у самого своего дома в такое болото залезешь, что дай бог выбраться…
– Не о том речь. Я о Маршалковской говорю, о Новом Свете…
– Теперь, брат, как отстроим, и на Маримонте неон будет.
– Ишь какой скорый! Ты ее сперва возьми!
– И возьмем. Только бы нам позволили брать!
– Как же нам могут не позволить?
– А вдруг пошлют на другой участок…
– Ну, этого быть не может. У нас половина солдат варшавяне, нам по праву полагается!
– Может, советские сами пойдут?..
– Ну уж – это нет! Ты что? Не слышал, просветительный говорил? Сам Сталин сказал: Варшаву, мол, будут брать польские полки.
– Ну, раз сам Сталин, тогда конечно…
…Медленно, тихо, как тень, проходил генерал вдоль окопов, задерживался возле разговаривающих. Время от времени кто-нибудь замечал его и кричал:
– Смирно!
– Вольно, вольно, – махал рукой генерал. – Сидите себе. Почему не спите?
– Не хочется спать. Сидим вот, о Варшаве разговариваем.
– О Варшаве…
Он медленно отошел. Солдаты с минуту вглядывались сквозь тьму в удаляющуюся фигуру.
– Бродит старик.
– И ему не спится.
– Теперь уж не поспишь. А я только вздремну – как будто уколет в сердце… Почти ничего не видно, но хочется смотреть. Сколько же я ее не видел?.. Двадцать восьмого августа меня мобилизовали в Силезию…
– И доехал ты до этой самой Силезии?
– Как бы не так… Так я ее с того двадцать восьмого августа и не видел. Целая была, целехонькая…
– Первые два дома на Охоте разбило. Первого же утром… Народ, как в кино, бегал смотреть. Потом уже никуда не надо было ходить – везде можно было насмотреться… Но когда мы уходили – и замок был цел, и здесь, с этой стороны, все в порядке было. А теперь…
Генерал прислонился к разбитой стенке.
Упрямо, однообразно звучала где-то поблизости все та же песня:
А в Варшаве, в первом доме…
Солдаты помнят Варшаву такой, какой она была двадцать восьмого августа, какой она была в сентябре тридцать девятого года. Но он ее помнил другой – какой была она тридцать лет назад. Жолибож… Каким был тогда Жолибож? Поля над Вислой, отмели, ивняки, и только цитадель и красные стены старых фортов… Выросли на протяжении этих тридцати лет новые районы, Варшава изменилась, выросла, стала другой. Нет, она не могла стать другой. Она оставалась та же, навсегда такой же в его сердце. Только уж не увидеть ее такой… Как разыскать среди этих черных развалин знакомые закоулки? Как найти прежние, навеки запомнившиеся места?
«Тридцать лет… Узнаешь ли ты меня, примешь ли ты меня, родной город, любимейший из всех городов?
Сквозь пламя Великой русской революции, сквозь вьюгу гражданской войны шел я к тебе, вырастившая меня Варшава. Вислинской волной сверкала мне Волга, вислинской волной шумели мне могучие реки советской земли. К тебе я шел сквозь виноградники испанских холмов, сквозь грозные ущелья, так не похожие на польскую землю…
И наконец – Ока, „как Висла глубокая, как Висла широкая“. Боже мой, ведь плакал, как дитя, старый, лысый дурак, когда увидел Вислу – ярко-голубую, какой она почти никогда не бывает, – на театральной декорации в дивизионном театре в лагере. Плакал, как дитя, слушая девушек в военной форме, поющих песню о Висле-реке… Это было в лагере Первой дивизии».
А теперь Висла перед ним, и исчезли тридцать лет.
Мрачное красное зарево стояло на другом берегу. Генерал вздохнул. Солдаты притихли, плотнее кутаясь в шинели. Уже повеяло предрассветным холодом. Умолкла песенка, упорно звучавшая почти всю ночь. Напевавший ее молодой солдат спал, упав головой на выщербленные кирпичи.
Из широкой расщелины, – быть может, это была воронка от бомбы, быть может подвал взорванного дома, – сочился слабый красноватый свет. Там тоже напевали. Тихонько, вполголоса. Генерал подошел. Внизу тлел огонек. В его свете дым был почти розовым, и розовый отсвет падал на лица. Их было трое советских солдат. Огонек притухал, и их лица заволакивались тенью. Кто-нибудь из сидящих поправлял дрова, помогая борющемуся с изморосью огоньку, – и три склонившихся к нему лица снова появлялись из мрака, красные, как отлитые из меди. Вздернутый нос, слегка выдающиеся скулы, непослушный вихор из-под шапки. Все трое смотрели в огонь, в красные угольки, и тихо напевали. Двое – глубокими, низкими голосами, третий – звучным, мягким тенором.
Они пели словно во сне, словно зачарованные мелькающими язычками пламени.
Эх, сторонка моя золотая…
Сердце сжала внезапная печаль.
Мягко лился чистый ласковый голос:
Эх, дорожка моя фронтовая,
Далеко ты меня завела…
Комок земли вдруг покатился из-под ног генерала, послышался шорох осыпающегося в яму песка. Сидящий лицом к генералу солдат вздрогнул и поднял глаза. Тот сделал шаг вперед.
– Ну как, ребята, холодно? Греетесь?
– Какой там холодно! Просто так, тянется ночь, приятно на огонек посмотреть…
Он спустился к ним, скользя ногами в осыпающемся песке, который стекал на дно ямы, шелестя, как вода.
– Откуда, ребята?
Молодой солдат с вздернутым носом поднял голову. Звучным тенором, который генерал тотчас узнал, он ответил, разгребая угольки щепкой:
– Сибиряки. Все трое.
– А откуда?
– Издалека, из тайги. Охотники мы. Милости просим к огоньку, сейчас и сало поджарится.
– Нет, спасибо, не хочется есть.
Солдат с выбивающимся из-под шапки кудрявым чубом спросил:
– Ну, как там? Все еще горит?
– Горит.
– Эх, жаль города… Красивый был город, говорят! Аж сердце болит смотреть.
Они тоскливыми глазами смотрели в огонек, в слабо мерцающие, заволакивающиеся дымом язычки пламени. Генерал тихо отошел. А они, словно только и дожидаясь этого, снова затянули:
Эх, сторонка моя золотая…
Генерал медленно ступал дальше, ноги его вдруг отяжелели. А за ним, как шепот, как жалоба, доверяемая сердцем сердцу, повторялись слова припева:
Эх, дорожка моя фронтовая,
Далеко ты меня завела…
Сибиряки. Где-то в тайге пылает ночью костер из смолистых бревен. Взвивается вверх красное, желтое, рыжее пламя. Потрескивает, шипит в огне сырое дерево. Черной стеной стоит вокруг лес, глухой, бескрайный, беспредельный бор. В темноте загадочно потрескивают ветви, не то от ветра, не то от крадущихся шагов хищника, кружащего вдали, сверкающими глазами высматривающего отблески огня на кустах, на мощных, косматых от хвои ветвях. У костра сидят охотники. Пахнет дымом, смолой. Высоко над головами, как море, шумит тайга, дремучий древний бор.
Что навевает грусть на этих троих, засмотревшихся в огонь, здесь, над рекой, не похожей на мощные, грозные реки Сибири? Воспоминание о костре в лесу, о дорогах, известных только охотникам, о лесных тропах, о суровой, величавой сибирской земле, воспоминание о тех днях – или этот город догорающий на той стороне, – город, на тысячи километров отстоящий от их бревенчатых смолистых домов в дремучих лесах?
Как далекое эхо отзывается в памяти песня, услышанная в детстве песня русских солдат:
Застонала матушка Варшава,
Заплакали, эх, да все ее места,
Да и пропала вся польская слава…
Кто сложил ее, эту песню, такую простую, такую человечную? Солдат в серой шинели, которого пригнали сюда когда-то в качестве орудия царского гнета, неведомый солдат из неведомого угла России? Он пришел сюда, как орудие насилия, как враг к врагам, и нашел в своем сердце сочувствие поруганной польской столице и печаль о ней, вылившуюся в простую, наивную, глубоко человечную песню.
Кто и когда пел эту песню? В каких ее пели казармах? Наверно, в тех, на которые в то время с ненавистью смотрели глаза польских прохожих, исподлобья косящихся на мрачные стены.
Кто из тысяч русских крестьянских сыновей, пригнанных сюда по царскому приказу, нашел для этой чужой ему столицы самое ласковое в мире слово «матушка»? Кто пожалел о польской славе, рассыпавшейся в прах под царским сапогом? Когда родились этот простой мотив и эти безыскусственные слова? Может быть, это было, когда окровавленный упал на поле боя польский предводитель Костюшко или когда догорало восстание тридцать первого года. А может быть, и тогда, когда закачались на виселицах тела членов «Национального Правительства» шестьдесят четвертого года?
Застонала матушка Варшава…
И кто расслышал в этой простой солдатской песне биение сердца простого русского человека? Кто вспоминал о ней в Польше во все эти годы ненависти и обид? А ведь русский солдат пел эту песню на польской земле, пел еще годы, годы назад… Кто же ее услышал, кто понял, кто бережно принял, как бесценный дар народа – народу?
Мрачным пламенем догорает столица на той стороне Вислы. И не одни польские солдаты – сибиряки тоже не могут уснуть. Им тоже не дает спать город, о красоте которого они говорят, как о давней, но не вызывающей сомнений легенде.
Быть может, завтра они погибнут в бою за этот город – певец со вздернутым носом, рябоватый брюнет с чубом из-под шапки, скуластый паренек с добродушным лицом.
Быть может, завтра им придется идти по сожженным, разбитым улицам, по развалинам, идти победителями – и вместе с теми, у кого белый орел на шапках, горевать о разрушенном городе.
До боли сжимается сердце генерала во внезапном порыве любви к этим, с белыми орлами, и к тем, с красной звездой на шапке. Носил и он красноармейскую форму – не один год носил ее на своем долгом и трудном тридцатилетием пути в Польшу…
«Эх, дорожка моя фронтовая…» – с нежной улыбкой думает генерал, и глаза его увлажняются.
«Сентиментальный старый дурак», – иронизирует он над собой. Но это не помогает. Чувства не настраиваются на обыденный лад. И кажется, что жизнь не может быть полнее и осмысленнее, чем сейчас.
Только бы еще пройти по улицам Варшавы. Только бы найти среди развалин ту улицу, по которой бегал ребенком. Увидеть знамена, народные знамена на улицах Варшавы, польские и советские знамена, колеблемые ветром свободы!
Увидеть ее живой, с бьющимся сердцем.
Потому что по сути никто не думает о ней, как о городе. А как о самом близком, самом дорогом, самом любимом человеке, который лежит в ознобе ужасной лихорадки. Но он встанет, будет смеяться, посмотрит в глаза всепонимающим, глубоким взглядом.
Нет, неправда – захотелось большего, много большего.
Лежит во мраке Прага, погруженная в сонную, дождливую, октябрьскую ночь. Советские и польские части ждут приказа.
Кому и когда выпадало на долю такое счастье, чтобы исполнилась мечта всей жизни? На твоих глазах, твоими руками свершается долгожданная справедливость. И тебе дано вернуться в места своего детства, неся им в дар осуществленные стремления, которые тридцать лет жгли сердце.
Мгновение назад он мечтал об одном: взглянуть хоть раз на ее свободные улицы. Но сразу же этого показалось мало. Захотелось увидеть ее воскресающей из пепла, зацветающей белизной домов и зеленью парков, растущей, развивающейся. И не только, не только Варшаву.
«Я же еще не так стар, – думает генерал. – Еще могу все увидеть и во всем принять участие. Могу еще работать, ого!»
Что такое старость? Какое значение имеют годы? Ведь по сути лишь теперь начинается жизнь. Нет, никакого значения не имеет то, что на голове нет уже буйной шевелюры, которую когда-то трепал веющий с Вислы ветер. Не имеет значения, что он часто задыхается, поднимаясь по лестнице. Старость – это, пожалуй, тогда, когда уже ничего не видишь перед собой. А он видит. Видит величественную бурную жизнь, которая ждет впереди. Тысячи дел, и тысячи боев, которые надо будет выиграть. Нет, это не старость! И в сущности сколько же ему лет?
Глаза генерала устремлены на противоположную сторону, в темноту и кровавое зарево горящего города. Но они не видят ни темноты, ни пламени. Там, за рекой, встает день новой жизни…
Захотелось самому строить ее с фундамента и до крыши – новую Варшаву, такую счастливую, какой она никогда не была, без покосившихся рабочих бараков, без каморок с гниющим полом, где ютятся многочисленные семьи, без темных переулочков и тупиков…
– Теперь уже скоро! – тихонько поговаривают в потемках солдаты. Но генерал знает: еще не сейчас. Еще выгорят дотла дома на том берегу. Дождь смоет кровь и сажу с развалин. Еще сто раз придется сдерживать нетерпеливые сердца.
Долог был путь от Волги к берегам Вислы. Долог путь от места, где советский солдат победил смерть в развалинах сталинградских домов.
Ни одна пядь земли не досталась даром. Ни один комок ее не дался легко в руки. Реками крови была окуплена свобода каждого клочка земли.
Как бы ни был могуч героический порыв, каким быстрым вихрем ни несла бы волна энтузиазма, – существует суровая военная необходимость.
Орудия, которые необходимо подтянуть. Танки, которые днями и ночами, без отдыха, без сна производят рабочие – там, за тысячи километров отсюда. Солдат, который сейчас еще только пришел в армию и учится владеть винтовкой. Офицер, еще только заканчивающий училище. Недостающие вагоны, разбитые бомбами склады, сорванные и искореженные рельсы. И вражеские дивизии, притаившиеся там, на левом берегу Вислы.
Мелкий снег сыпал с неба, дул морозный ветер, когда они, наконец, вступили в Варшаву.
Солдаты молчат.
Ты ли это, родной город, где были знакомы каждый камень, каждый бугорок на мостовой?
Куда-то вдаль открывается перспектива. Где-то далеко, будто голубоватая тучка, видны какие-то деревья. Что же это за лесок, о котором раньше никто не знал и на который теперь можно смотреть сквозь город? Глаз не натыкается ни на одну стену, ни на одну крышу, ни на одну трубу, заслонявшие прежде этот вид…
Что это за улица? Ее не узнаешь, глядя на груды битого кирпича и больших обломков, через которые приходится перебираться, как через горные хребты.
В мрачном молчании идут солдаты. Сапоги скользят по обледенелым камням.
В прах и пепел обратила тебя рука иноземного врага, Варшава!
В прах и пепел обратила тебя рука тех поляков, которые в сто раз хуже иноземных захватчиков.
Где ты, далекий город, звучавший тысячами голосов, переливавшийся красками, город, как путеводная звезда светивший все эти годы скорбному сердцу? Где ты, Варшава?
Цепь каменных холмов, обрывающихся пропастями, – вот во что превратился родной город…
Но в глухих руинах уже начинают появляться люди.
Женщина толкает перед собой тележку. В тележке – ребенок. Мужчина тащит на спине узел. Идут женщины, неся на плечах или волоча за собой жалкие пожитки.
Солдаты настораживаются: что сейчас будет! Эти слезы, этот плач, эти горькие бабьи причитания над руинами города…
– Говорю тебе, Зоська, это здесь. Наверняка здесь!
– Вздор, это же восьмой номер, – ясно, что восьмой.
– Ну, смотри, решетка от ограды, не видишь?
– И правда! – радуется другая.
И повозка уже остановлена у груды опознанных развалин. Сложена кирпичная стенка, чтобы заслонить от ветра разведенный огонек. Около него суетится закутанная в шаль женщина.
– Смотри! – кричит в это время другая. – Вон там уцелел кусок стены. Здесь можно прекрасно устроиться!
– И даже кровельные листы валяются…
– Вот видишь! Превосходно!
Люди разыскивают места, где были когда-то их дома. Разбивают бивуак на грудах кирпича, под защитой уцелевшего куска стены. Хлопотливо устраивают, укрепляют и утепляют что-то.
– Подвал, вход в подвал, честное слово!
– Эх, если бы еще крыша – почти готовая комната.
– Только не ошибаешься ли ты? Мне все кажется, что наш дом должен быть немного левее.
– Ничего подобного! Ты никогда не умела ориентироваться. Вот я так с завязанными глазами узнала бы!
Между отгоревшими пожарищами, по проселкам и трактам из дальних деревень стекаются обитатели Варшавы. Весело перекликаются:
– Ах, и вы уже дома?
– Разумеется. Чего же еще ждать?
– Видишь, Генек? – толкает солдат своего товарища. – Говорил я тебе! Варшава!..
– Да, такой уже народ варшавяне.
В солдатских рядах выше поднимаются поникшие было головы. Прохожих все больше, они машут руками, приветствуют свое польское войско и русских освободителей. Веселые возгласы с обеих сторон. Штатское пальто в объятиях грубой шинели. Морщинистое лицо старушки, прильнувшее к солдатскому лицу. И лишь теперь – слезы. Слезы радости.
– Люди добрые, да куда же вы идете? Тут же ничего нет… Как будете жить?
– Как это, ничего нет? Станем мы невесть где шататься, когда Варшава свободна!
– Много ли надо? Кирпича, того-сего наберем, уберем немного, подправим – вот тебе и квартира… На прежнем месте!
Все нарастающим потоком спешат по всем дорогам варшавяне к себе домой.
Развалины заселяются. Всюду волокут камни, тащат доски, выкопанные из-под развалин, поломанные железные кровати.
Но наблюдать картину этого оживания солдатам некогда. Ускоренным маршем, стремительным броском – на запад, на запад! Пока враг не опомнился, пока не остановился в своем задыхающемся беге.
Навстречу – толпы людей, стекающихся к городу, – к городу, от которого ничего не осталось.
Сравненные с землей кварталы. Как бритвой срезанные дома. Вырванные из недр земли фундаменты. Бездонные провалы, куда рухнули этажи. Черные пожарища. Засыпанные кирпичным ломом площадки на месте шестиэтажных домов.
Уцелели лишь Висла да бледное небо, сыплющее мелким снегом.
Мелкий снег засыпает покрытые бессмертной славой руины, бесчисленные могилы между ними. Но смеющиеся дети уже бегают по развалинам, разыскивая между грудами кирпича обломки утвари, игрушки.
Вдруг радостный крик:
– Мама, мама, моя лошадка!
Краска облезла, отклеился пушистый хвост, голова куда-то пропала – но это несомненно та самая лошадка, подаренная когда-то давно к рождеству, а потом брошенная и забытая. Сейчас она вдруг вынырнула из развалин, будто привет из прошлого.
– Помню, когда я ее покупала, тогда…
Все вспоминается, все. Какие-нибудь незаметные мелочи, незначительные события, какой-нибудь рождественский вечер и елка, сверкающая свечами.
Некогда долго заниматься старой игрушкой. Отец семейства, сосредоточенно насупив брови, похаживает вокруг груды кирпичей, которая была когда-то домиком в саду – одним из целого ряда других таких же. Теперь все они обратились в сплошной кирпичный вал.
– Часть кирпича можно использовать, есть совсем целые штуки. Впрочем, кто знает? Когда начнем копать, может оказаться, что и фундамент цел. А если цел фундамент…
И так всякий решает судьбы столицы на свой лад, на свой образец, хотя по улицам уже бродят инженеры, измеряют, рассчитывают, а в архитектурно-строительном бюро уже ведутся долгие совещания. Расчеты точны. То есть постольку, поскольку возможно установить в таких условиях. И выводы ясны. Расчистка руин, нивелировка почвы – все это будет труднее, чем постройки города на новом месте. Лучше отступить вдоль берега Вислы на север или на юг. И тут начать строительство… так считают инженеры… А не инженеры? Разумеется, многие не хотят согласиться, но цифры…
Да, город можно передвинуть на север или на юг, где, по мнению инженеров, будет удобнее. Но тогда нечего говорить о восстановлении – будет строиться новый город. Ни северней, ни южней по течению реки – это уже не будет Варшава.
Нет, польский народ должен дать отповедь не только тем, кто разрушал Варшаву теперь, но и всем, кому в будущем вздумалось бы ее разрушить – ее или другую столицу. Не на юг и не на север по реке, нет – Варшава должна быть там, где была! Как живое свидетельство, как вечное напоминание, что нельзя уничтожить того, что строилось веками, создавалось трудом, творческими усилиями народа. И его любовью. Цифры… Есть вещи посильнее цифр, счетов, расчетов!
Народ будет восстанавливать Варшаву, ту Варшаву, которую хотели уничтожить. И каковы бы ни были цифры и расчеты, станет строить – и построит. Только не на новом месте. Потому что то уже не было бы Варшава – Варшава девятьсот пятого года, Варшава тридцать девятого и сорок пятого годов. В этих местах боролись и гибли люди. И эта Варшава будет отстроена.



