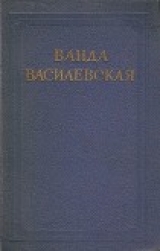
Текст книги "Том 4. Песнь над водами. Часть III. Реки горят"
Автор книги: Ванда Василевская
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 33 страниц)
– Если бы мне, дитя мое, кто-нибудь предсказал, что я буду ходить за свиньями где-то на краю света, я бы ни за что не поверила. Еще, может, и обиделась бы, – говорила госпожа Роек. – Хотя, не знаю, этому еще, может, и поверила бы – никогда не знаешь, что тебе суждено, ни от чего не надо зарекаться. Но если бы мне сказали, что поросят купают в теплой воде, как детей, этому я уж наверняка не поверила бы. Этому – ни за что! У отца были поросята, – известно, огород, отходы там всякие; словом, выгодно. Ну, сидели они себе в хлеву, только и всего. Но если бы мне тогда сказали, что я буду мыть поросят да еще выводить на прогулку, – это уж нет, ни за что не поверила бы!..
Ядвига смеялась, упираясь лбом в лоснящийся коричневый коровий бок. Корова шумно пережевывала жвачку и время от времени оглядывалась на доярку большими доверчивыми глазами. Молоко тонкими струйками брызгало в цинковый подойник, поднималось пушистой пеной. Резкий запах коровника, знакомый домашний запах врывался в ноздри Ядвиги.
– Стой, стой, Калина!
Корову звали не Калина. Рядом на столбе было четко написано ее имя – «Тюльпанка», а также имена ее матери и отца, срок ее отела. Но она была коричневая, как и та, в Ольшинках, и, если глядеть только на ее бок, опершись о него лбом, можно вообразить, что это коровник на материнском хуторе в Ольшинках и доит Калину Ядвига – девушка, которая еще ничего не знает о своей судьбе, еще чего-то ожидает от нее. Там, за дверьми, наполняя воздух густым ароматом, цветет жасмин, Стефек куда-то ушел, мать сидит в своей комнате, и кругом тихо, спокойно. Калина пережевывает траву. Скоро придет Ольга, можно будет поплыть на лодке на калиновый островок, куда прилетают купаться горлицы. Трава еще покрыта росой, и следы идущего прокладывают на ее синеватой поверхности темно-зеленую тропинку. Вдали шумит озеро…
Но нет, это не Ольшинки. Чтобы убедиться в этом, достаточно поднять голову. Коровник огромный, с цементным полом, с большими, как в барском доме, окнами. По обе стороны рядами стоят коровы и тычутся мордами в автоматические поилки, где непрестанно бежит чистая проточная вода. Навозная жижа стекает по пологим канавкам в глубокий, выложенный цементом ров, идущий вдоль прохода, и только за коровником собирается в цементированную, наглухо закрытую яму. Молоко не процеживается на скамье сквозь тряпочку – его сливают в большие оцинкованные бидоны. Проверяют процент жира, измеряют количество. Затем удой Тюльпанки и других коров записывается в толстую прошнурованную книгу.
Ядвиге надо торопиться, чтобы поспеть на свою постоянную работу, к овцам. Потому что Тюльпанка – это только так, для удовольствия. Ядвига выпросила позволенье доить ее.
– Так хочется доить, ну хоть одну эту… – просила она доярку Матрену.
– Так, может, ты бы лучше взяла вон ту, бурую? Та легче доится.
– Нет, я эту!
Матрена улыбается, глядя, как рука Ядвиги нежно гладит мягкий бок животного, гладкую, шелковистую шерсть.
– Что ж так? – И, не дожидаясь ответа, тихо говорит: – Наверно, своя корова вспомнилась, домашняя… Была корова-то?
Ядвига поднимает на нее влажные глаза. Боже мой, как это смешно! Корова – только и всего, а в сердце такая нежность, будто к родному человеку, столько тепла, словно вдруг неведомо откуда донесся тихий привет, шепотом сказанное слово, воскрешающее давно минувшие мгновения.
– Наша была поменьше. И не так хорошо доилась. Но похожая.
– Ну, тогда дои уж ее, раз тебе так хочется… Известно – скотина, а привыкаешь к ней, будто к человеку. И умная ведь какая… Другой, не понимающий, скажет: что, мол, корова? – глупая скотина. А нешто она глупая? Все понимает, вон как смотрит! Глаза, как у человека… Только что не говорит. И ведь все тут такие.
Но Ядвиге пришлась по сердцу именно эта, похожая на ее Калину. Правда, она и ростом больше, да и молока дает в четыре раза против Калины. Нет, тому, что поросят купают, не поверили бы не только там, где жила госпожа Роек, но тем более в Ольшинках, – не поверили бы также и тому, что одна корова может дать так много молока. И сколько она даст – это зависит как раз от Ядвиги.
В открытые двери коровника сиял прозрачный, лазурный день. С гор неслись теплые ветры, и уже несколько дней назад Олесь нашел в зазеленевшей траве маленький белый цветок. Шла весна. Она чувствовалась в воздухе, в запахе ветра, в молодых, зеленых иголках травы, неудержимо пробивающихся из земли, в движениях людей, более живых и быстрых, с тех пор как тела их освободились от ватников, полушубков, теплых платков. Там, в Ольшинах, теперь все еще спит под снежным покровом, синий лед еще сковывает озеро и лишь кое-где над незамерзающими трясинами, среди убеленного снегом кустарника, поднимаются клубы пара. А здесь уже весна.
Ядвига вышла из коровника и, заслонив рукой глаза от яркого, крепко пригревающего солнца, глянула вдаль.
Словно прозрачное, парящее в воздухе видение, переливалась вдали полоса лилово-розовых гор. Трудно было представить себе, что там тоже есть земля, и трава, и скалы. Горы казались полосой мглы, насыщенной сиянием, чудом, которое исчезнет при первом дыхании ветра.
– Тянь-Шань, – Ядвига выговорила это слово полушепотом, для самой себя. В нем тоже был отзвук далеких сказаний, и оно казалось таким же призрачным, как и сам этот горный хребет, ежеминутно меняющий окраску и, наверно, никогда не похожий на настоящие горы. Хотя разве видела она когда-нибудь другие горы?
На высоких стройных тополях, идущих вдоль дороги, уже виднелись набухающие клейкие почки. Еще несколько дней солнечной погоды – и они лопнут, выпустив из темницы молодые зеленые листки, живые и радостные. «Как здесь будет летом?» – думала Ядвига, глядя на тонкие линии арыков, перерезающие территорию совхоза, на слегка волнистую равнину, тянущуюся до самого горизонта, до таинственных гор Тянь-Шаня.
– Тут все будет красно от тюльпанов, – сказала Матрена. И Ядвига нетерпеливо ожидала тюльпанов. Изумляло, что цветы, которые там, дома, тщательно взращивали в садах и оранжереях, здесь росли под открытым небом, сами собой, без труда и без помощи человека. Тюльпаны появятся скоро. Ядвига уже видела их острые, свернутые в трубочку ростки, скрывающие под зеленым покровом тайну цветка, который вот-вот выглянет, пламенем сверкнет на солнце, заколышется на теплом ветру…
– А за коровником есть и желтые. Только тех меньше, – сказала Матрена. И Ядвига нашла это место. Но сейчас еще нельзя было распознать, вправду ли они желтые. Ростки были все одинаковые и ревниво скрывали то, что в них заключалось.
«Чему я так радуюсь?» – вдруг удивилась Ядвига. И тотчас ответила себе: «Ну да, это же весна. Это потому, что весна».
Окна в доме открыты настежь, – ведь уже совсем тепло. Но домой идти не хочется, невольно замедляешь шаг, чтобы успеть порадоваться солнцу, теплому, мягкому ветерку, ласково касающемуся лица. Это ощущают все, никому не хочется лишнюю минуту пробыть в помещении, и на всех дорожках, на всех тропинках совхоза полно женщин.
– Бабье царство, – смеялся Шувара, когда они приехали сюда. И правда, в канцелярии правления, в поле, в конюшнях и коровниках – повсюду работали только женщины. Исключением был один директор. Директор уже успел потерять на войне правую руку и только потому был здесь, а не в армии. И все-таки Наталья Андреевна, его жена, как будто даже стеснялась перед всеми этими женщинами, чьи мужья, отцы, сыновья и братья были на войне, что ее муж находится при ней. Странно выглядели здесь в первые дни Шувара, Шклярек, Сковронский и даже мальчики госпожи Роек. Но и эти мужчины быстро исчезли из совхоза, ушли работать в МТС, расположенную за несколько километров. В совхозе они теперь появлялись только по праздникам, и то не всегда. Времени было в обрез, шел ремонт машин, надвигались вспашка и сев. Госпожа Роек сперва возражала против работы в МТС – «как же отпустить сопляков одних, особенно Владека?» – но делала она это скорее для порядка; за ними обещал присматривать Шувара, а к нему она питала полное доверие.
– Слесарь, дитя мое, а какой интеллигентный человек! И не скажешь, что слесарь. И ребята больше его слушаются, чем меня. Ну как же, мужчина все-таки. Покойник, царствие ему небесное, хороший человек был, но уж ребят совсем не умел в руках держать. Да, по правде сказать, и не слишком ими интересовался. Все в этих разъездах, а уж если дома, то, не тем будь помянут, редко когда в трезвом виде. А тут другое дело – человек степенный, не даст им распуститься.
– Да они и сами хорошие дети, – заметила Ядвига, хотя ей смешно было говорить «дети» об этих почти взрослых юношах.
– Хорошие-то хорошие, да ведь все-таки мальчишки, ну и конечно… Никогда не знаешь, что им может на ум взбрести! Но на работе их вроде хвалят. Марцысь уже на этом самом, на тракторе ездит… Может, это опасно? – вдруг встревожилась она.
– Да что ж там опасного? Здесь даже девушки управляют тракторами, – успокаивала ее Ядвига.
– Знаю, дитя мое, знаю, только тут и девушки тоже какие-то не такие, как у нас. Залезет на машину, и хоть бы что… Я бы, наверно, умерла, если бы меня заставили трактор водить.
Ядвига подавила усмешку, но сама госпожа Роек, подумав мгновение, со вздохом прибавила:
– Хотя – кто знает? Если бы уж непременно надо было, я бы, пожалуй, и полезла на трактор… Муж, покойник, наверно, в гробу бы перевернулся, если бы меня на тракторе увидел…
Но Ядвиге думалось, что и покойник, вероятно, не сомневался в неисчерпаемых способностях своей супруги и вряд ли чему удивился бы, если бы и восстал из гроба.
Когда мальчики приходили по праздникам в гости, мать считала необходимым читать им наставления:
– Марцысь, ты только будь осторожен, дитя мое! Не дай бог, упадешь под эти самые гусеницы, ведь они в лепешку человека раздавят.
– Сто раз я вам, мама, объяснял, что там нельзя упасть.
– Что ты мне рассказываешь, дорогой мой? Какая-нибудь случайность всегда возможна. Ты лучше слушай, когда мать говорит, мать тебе плохого не посоветует. И ради всего святого, дитя мое, не испорть машины… Ты понимаешь, какая это ответственность? Такая дорогая вещь, подумать страшно… Что-нибудь не так повернешь, не так крутнешь – и несчастье готово. Что мы тогда будем делать?
– Уж вы, мама, выдумаете!
– А что, разве не случается?
– Случается, если кто не умеет.
– А ты так уж все и умеешь?
– Не умел бы, так мне бы трактора не дали. Проверили небось сначала, умею ли.
Тут госпожу Роек вдруг охватила материнская гордость.
– Ну, подумай, Ядзя, какой все-таки способный мальчишка… В два счета кончил эти курсы – и уже тракторист! Можно ли было подумать… Ведь сколько же ему лет?
– Вы бы хоть годов моих не считали, – хмуро пробормотал он, но внимание госпожи Роек уже отвлеклось на младшего.
– А ты что еще выдумал с этими шоферскими курсами? Куда тебе быть шофером? Ты знаешь, что это за работа, да еще на здешних дорогах? Разве тебе выдержать?
– Вы за меня уж, мама, не беспокойтесь.
– А за кого же мне беспокоиться, если не за родных детей? От горшка три вершка, а уже невесть что о себе воображает… И никакого уважения к матери, никакого! Был бы жив покойник, он бы вам показал…
– Действительно! – иронически пробормотал Владек.
– Нечего ворчать себе под нос! Хотя, по правде сказать, покойник тоже не умел с ними, нет, не умел… Потому они так и распустились, что не дай бог… Иной раз, говорю тебе, Ядвиня, никакого терпения с ними не хватает…
– Маме обязательно надо поворчать.
– А конечно, надо. Кабы я не ворчала, вы бы вообразили, что вы чистое золото. Совсем у парней головы вскружились. Когда же это ты собираешься стать шофером?
– Скоро.
– Скоро! Ну, подумай, Ядзя, дитя мое, какие все-таки способные ребята!.. Только что начал учиться, а уже скоро шофером будет.
– Теперь сокращенные курсы.
– Ясно, что сокращенные. А все-таки не всякий бы справился. Ведь тебе еще только…
Не успев сосчитать, сколько лет сыну, она вдруг бросилась в угол, где стояли потрепанные чемоданы.
– Постой, постой, пуговица висит, надо пришить, а то потеряешь. И что бы вы без матери делали!..
Владек беспокойно переступил с ноги на ногу, но госпожа Роек упорно шила, не переставая ворчать:
– Уже не терпится? Уже надо бежать? Марцысь! Куда этот мальчик девался? Боже ты мой, две недели матери не видели, и полчаса дома выдержать не могут. Знаю я, куда вы торопитесь! Знаю! Только смотрите у меня, чтобы вести себя прилично, чтобы мне за вас стыда не натерпеться…
Она откусила зубами нитку и хотела взглянуть на свою работу, но Владек успел исчезнуть за дверью.
– Ну, на что это похоже? Сопляку пятнадцать лет, а бежит на танцульку, как взрослый…
– Что вам мешает? Пусть себе потанцует. Девушки так ждали этого воскресенья, – заступилась Ядвига.
– И правда, дитя мое, – переменила фронт госпожа Роек. – Пусть себе потанцуют. Надо и о девушках подумать. Ведь только и кавалеров, что наши. Почему бы тебе и самой не сходить? Пойдем, пойдем посмотрим, что там за вечер.
Они шли по тополевой аллее. Из клуба урывками доносились звуки гармони. Солнце уже клонилось к западу, и Тянь-Шань стоял вдали, словно огромный сверкающий сапфир, по граням которого вздрагивали розовые отблески. Кроткая тишина окутала всю равнину, простершуюся в беспредельную даль. И в эту сияющую тишину вдруг ворвалась донесшаяся из клуба песня:
Ой на горi вогонь горить,
А у долинi козак лежить…
Порубаний, пострiляний,
Китайкою покриваний.
Ядвига остановилась. Задержалась и госпожа Роек. Ясно слышались слова:
Що у головах ворон кряче,
А у нiженьках коник плаче…
– Что случилось? – встревожилась госпожа Роек, увидев, как вдруг побледнела Ядвига.
Не плачь, мати, не журися,
Бо вже ж твiй син оженився,
Та узяв coбi паняночку,
У чистiм полi земляночку…
– Нет, нет, ничего не случилось…
Ой, на горi вогонь горить,
А у долинi козак лежить…
Как мучительно вздрогнуло сердце… Знакомый, знакомый мотив, навеки запомнившиеся слова. Песенка Ольги. Одна из немногих старых казацких песен, какие пели там, над Стырью. Как далеко несся по росе голос Ольги, – и Ядвига, слыша жгучую тоску, безутешное рыдание в этом голосе, знала, что Ольга думает о Сашке, который умер в тюрьме. Быть может, он умер «порубаный, постреляный», а быть может, и просто так, на тюремной койке… Никто ведь не знал, как умер Сашка, никто его смерти не видел, никто не знал, где он похоронен. Но Ядвига сейчас думала не о нем. Она и сама хорошенько не знала, о ком думает, отчего так дрогнуло сердце. Не о сыночке ли, лежащем в песках далекого кладбища? Нет, и не о нем она сейчас вспомнила. Это был страх за Стефека. Ведь и он мог, «порубаный, постреляный», найти себе «в чистом поле земляночку».
Госпожа Роек спросила тихонько:
– По-украински поют?
– Да.
Пели девушки, пришедшие сюда с Украины. Они прошли пешком тысячи километров, спасая от врага колхозный скот. Шли по пыльным дорогам под грохот взрывающихся бомб, брели по раскисшей осенней грязи, по трактам, изрытым тысячами колес. В приволжских степях их захватил снег, режущий острыми иголками лицо. Но они все шли, в дождь и ненастье, ночевали иной раз в открытом поле, отмеривали тысячи километров ногами, с которых сваливалась разбитая обувь. Они шли полгода, пока пришли сюда и поставили спасенных колхозных коров в коровники совхоза. Худые, с взъерошенной, слипшейся шерстью, со впалыми боками, коровы не давали молока и грустно мычали, переступая с ноги на ногу. Сперва они и ели неохотно, но потом стали быстро поправляться. Вот эти приведшие их девушки и принесли сюда свои песни, и временами казалось, что вся степь до самого Тянь-Шаня звучит, звенит, полнится украинской мелодией.
Но сейчас песня раздалась не вовремя. Умолкли звуки гармоники. Утих шум в клубе. Опустились глаза. Стиснулись бессильные пальцы. И все эти женщины, молодые и старые, думали сейчас об одном – о близких, которые либо уже нашли «в чистом поле земляночку», либо могли найти ее в любую минуту. Может, уже лежит порубанный, пострелянный муж доярки Матрены, которая как раз ожидает третьего ребенка, и брат Натальи Андреевны, и мужья, сыновья, братья всех этих женщин, работающих здесь, на совхозных полях. В любой день почтальон мог быть вестником несчастья. Ни одна из этих женщин не была свободна от страха, постоянного страха за близких людей. Заведующая фермой Анастасия Петровна, у которой не было ни мужа, ни сыновей, трепетала за жизнь дочери – ее Фрося работала на фронте санитаркой.
Отсюда было далеко до полей битв. В ясные дни сияло золотое солнце над степью и, как огромный опал, переливался на горизонте Тянь-Шань. Хотелось верить, что всюду пробиваются из земли зеленые ростки весны, встают лазурные рассветы и опускаются на поля благоуханные вечера с золотисто-розовыми зорями, всюду плывет над землей сладостная, кроткая тишина.
Казалось, чего еще надо человеческому сердцу? Позабыть бы здесь обо всем. Поля битв далеки, за тысячи километров. Там, поближе к фронту, города и села утопают во мраке, машины ездят с затемненными фарами и люди по ночам передвигаются ощупью. Но здесь свет горит напролет все ночи, яркие огни освещают работу тракторов. И можно бы вообразить, что войны нет на свете. Среди этих восходов и закатов, среди звезд и росы, облаков и высоких трав война могла казаться страшной сказкой, черным ночным бредом, от которого можно освободиться одним усилием воли.
Но все сердца здесь были связаны с далекой стороной, где земля гудела от грохота пальбы, где небо горело не зарей, а пламенем пожаров, где кровью омывалась родная земля.
Девичья песня неосторожно пробудила то, что таилось в душе каждого, – и не стало цветущей степи, померкло золото заката, не стало ничего, что окружало здесь людей. Прямо в глаза смотрела жестокая правда войны, и словно холодная рука смерти стиснула сердца. Девушки пели. Вновь и вновь взвивалась песня, вновь и вновь повторялись упрямые, дышащие скорбью слова:
А у долинi козак лежить…
Ой, на горi вогонь горить.
Матрена, сложив руки, сидела в углу на скамье, и слезы лились по ее лицу, ручьями струились по щекам, капали на юбку. Губы Анастасии Петровны болезненно искривились, и голова в развязавшемся платке мерно покачивалась в такт песне.
Вечеринка расстроилась. Напрасно зоотехник Анюта неожиданно ворвалась в песню залихватским перебором гармошки. Песня умолкла, но сразу же, будто застыдившись, умолкла и гармонь. Нет, никто уже, безусловно, не будет танцевать. И никому уже не хотелось смеяться и разговаривать. Женщины постарше первые двинулись к выходу, за ними стали расходиться и другие. Заглянувший сюда на минуту директор, опустив голову, медленно зашагал к дому. Его правый рукав заложен был за ремень, стягивающий гимнастерку. Он, видимо, не привык еще к этому и всякий раз, как приходилось подать кому-нибудь руку, смущался и робко, неуклюже протягивал левую.
По аллее навстречу директору не спеша трусил казах на ослике. Его ноги свисали чуть не до земли, на голове косматилась огромная папаха, от которой он казался еще выше на своем крохотном ослике.
– Здорово, Канабек. Что случилось?
Казах медленно слезал с ослика.
– Ничего не случилось. Я к тебе, Павел Алексеевич.
– Пойдем, пойдем в дом.
– В дом не надо. Я только так. Скажи, Павел Алексеевич, у тебя поляк есть?
– Поляки? Ну, разумеется, есть.
– Работают?
– Работают.
– А в МТС?
– Да и в МТС то же самое.
– Не убежали?
Директор удивился:
– С чего им бежать? Все здесь работают, и хорошо работают.
Казах качал головой в папахе, которая торчала на его голове, как старое, поврежденное дождями и ненастьем воронье гнездо. Солнечный свет золотился на его широких скулах, обтянутых смуглой кожей.
– А мой сбежал.
– Как?
– Пришел осенью, ел, пил. Полушубок получал. Валенки получал. Всю зиму сидел. Я говорю: «Ешь, пей, отдыхай. Полушубок есть, полушубок бери. Весна придет, отработаешь». А весной сбежал. Все шесть. Еще сапоги забрал. Мои сапоги, новые сапоги.
Вокруг собеседников собралась группа слушателей.
– Что он говорит? – заинтересовался Шувара.
– Ничего, ничего, – смущенно бормотал директор.
– Какой ничего? Я говорю, мой поляк сбежал. Всю зиму ел, пил, полушубок взял, валенки взял, теперь сбежал.
Лицо слесаря покраснело.
– Кто такой?
– Поляк. Все шесть, – объяснял казах. – Из колхоза «Красная звезда».
– Неужели нельзя найти? – вмешался Марцысь.
– Где найти? Зачем найти? Не хочет работать, пускай идет. А только всю зиму ел, пил, теперь еще мои новые сапоги взял…
– Кто это у вас был?
– Поляк был.
– А как их фамилии, не знаете?
– Откуда знать? Трудный фамилия, польский. Пришел, зимой работы в колхозе нет, весной есть. Жди весна, ешь, пей, отдыхай. А весной – сбежал.
– Что ж, мошенники среди всякого народа случаются, – сказал директор. – А ты, давай в дом пойдем.
Ему, видимо, хотелось положить конец разговору на улице, где вокруг них собиралось все больше народу, и было неприятно за «своих» поляков, которые стояли тут же. Марцысь был красен, как свекла.
– Зачем в дом? Время нет в дом ходить. Самому домой надо. Хотел спросить, как твой поляк. Твой работает, а мой сбежал… И в МТС работает?
– Все работают. Прошли курсы, тракторами управляют. Вон те двое, – директор указал уцелевшей рукой на Шувару и Марцыся, – стахановцы.
– Стахановцы… – бормотал казах, карабкаясь на ослика, который присел к земле под его тяжестью. – Стахановцы… А мой сбежал.
Он попрощался и уехал. Ослик медленно зашлепал по тополевой аллее, длинные ноги казаха качались по обе стороны его туловища, как два маятника.
– Скоты этакие! – горячился Шувара, который вместе с мальчиками зашел к госпоже Роек и Ядвиге. – Еще, наверно, и хвастают – ловко надули, мол, азиатов!
– А если дать знать в милицию?
– Как раз им сейчас время этим заниматься! И главное, можете быть уверены, что это не единственный случай. Рассчитывали негодяи наверняка: рабочих рук не хватает, колхозы с удовольствием будут до весны даром кормить, лишь бы обеспечить себя к весне рабочими. А весной они – фюить! И поминай как звали.
Владек с трудом сдерживал слезы.
– Ты-то чего? – прикрикнула на него мать. – Мы ведь работаем как следует! С осени, с первого же дня работаем…
– Что с того? Вы же слышали, он сказал: поляки.
– Не можем же мы отвечать за всякого жулика, каждый отвечает за себя, – все слабее настаивала на своем госпожа Роек. Но все чувствовали, что это не совсем так, что это мошенничество бросает тень и на них. Казалось, им не в чем упрекнуть себя, и все же, слушая на улице жалобы казаха, они краснели и опускали глаза, будто сами сбежали, обокрав и обманув колхоз.
– Надо бы узнать, что это за прохвосты там были.
– Мало ли прохвостов? Вы что, уже забыли о нашем эшелоне? Хотя бы этот Светликовский, который нас обокрал?
– Не станешь же оправдываться, что нас, мол, тоже поляки обокрали.
– Да в чем же нам оправдываться? Вот и директор сразу сказал, что среди нас даже стахановцы есть.
– Да. Только казах крепче запомнит тех, которые объедали целую зиму его колхоз, а потом сбежали, чем тех, которые работали не у него, а у соседа.
– Да, хорошую память мы тут по себе оставим, нечего сказать… – вздохнула госпожа Роек.
Они разошлись в угнетенном состоянии. Но госпожа Роек не могла успокоиться:
– Надо ехать в город. Может, узнаю, кто там был, в этой «Красной звезде»… Ну и этот уполномоченный посольства. Должны они нам помогать или нет? Все время об этом разговор идет… А тут Олесь совсем оборвался. С тебя, Ядвига, дитя мое, тоже скоро туфли свалятся…
– Мне не надо, уже тепло, буду босиком ходить.
– Выдумаешь тоже!
– А я люблю. Я и дома часто босиком ходила.
– Вот еще! Хочешь босиком, так ходи, а туфли пусть будут. Они там со всего света выжимают помощь для нас, а много ты от них видела? Раз полагается, пусть дают, вот и все.
В первый же выходной день госпожа Роек попросилась на грузовик, отправлявшийся в город за запасными частями, и уехала.
Вернулась она поздно вечером, красная и разъяренная.
– Вообрази, дитя мое…
– Садитесь пейте чай, пока горячий.
– Какой там чай! Не до чаю мне сейчас. Говорю тебе, дитя мое…
– Да вы хоть шаль снимите!
– Шаль? Ну конечно, конечно… Уф, жарко… Говорю тебе, дитя мое, Содом и Гоморра, подлинный Содом и Гоморра! Ты знаешь, кто там у них уполномоченный? Полицейский Лужняк!
– Не может быть! – удивилась Ядвига.
– Как так не может быть? Он, собственной персоной. А какой тон задает! Попасть к нему – все равно как к президенту! Я уж думала и не доберусь…
– Ну, вы-то? – улыбнулась Ядвига.
– Что, «вы-то»! Ты это можешь себе представить? Швейцар, секретарша, машинистки, целый штаб кругом. Сидит, развалившись, как турецкий паша, и привстать не соизволит. Разумеется, кто я такая? Какая-то свинопаска из совхоза. А тут такой барин! Папиросы курит, дым прямо в лицо тебе пускает – и никаких! А как одет! И все эти барышнешки вокруг, скажу тебе, дитя мое! Разряжены, намазаны, ты и представить себе не можешь. Но я-то уж знаю, откуда это все берется! Уж я там поговорила с людьми! Целый вагон пришел, можешь себе представить, целый вагон вещей! И знаешь, что они с ним сделали? Что получше – себе отобрали, а остальное на базар пошло! Никто ни одной тряпки не получил… А белья там, говорят, была целая уйма, так эти его бабищи, свиньи такие, поносят сорочку, пока не загрязнится, а потом стирать неохота, так она бросит в угол и новое тащит, а то, что сняла, так и сопреет без пользы… А нам ничего не полагается, слышишь? Ничего! На большевиков, говорит, работаете, пусть вам большевики и дают. Так и сказал!
– А вы что?
– Я-то? Не беспокойся, язык у меня хорошо подвешен! Что ж, говорю ему, по-вашему, значит, лучше шататься по городу, чем работать? Хватит и того, говорю, что эти большевики предоставили нам на время войны крышу над головой, да еще кормят, последним куском хлеба с нами делятся… От большевиков, говорю, мы достаточно получаем, даже стыдно иной раз, потому что сами ведь понимаем, война… А вот от этого посольства, от дорогих соотечественников, спрашиваю, что мы получили? Эшелон, говорю, Светликовский обокрал, а теперь этих уполномоченных насажали, так они бедных людей обкрадывают…
В разных там Америках, говорю, кричите о наших несчастьях, – может, некоторые тамошние поляки последнее отдают, чтобы нам помочь, а куда это все идет? На этих девок, говорю ему, что вас тут, как саранча, обсели? Где продукты? Где одежда? Дети зимой без сапог ходили, а ты бы посмотрела на ихние туфельки да на чулочки… Воры вы все, говорю ему…
– Не может быть! Так и сказали?
– А что ты думаешь? Не веришь? Да чтоб мне святых даров при кончине не дождаться! Так и сказала: «Вор вы, говорю, и только, стыдно, говорю, становится, на вас глядя, что и я тоже полька… Хотя какой вы, говорю, поляк? Вы вор, только и всего! Стыд и срам, говорю, чтобы этакий здоровый бугай сидел здесь с девками, вместо того чтобы в армию идти…»
– Ну, а он?
– Он? Что ж он? Выставил меня за дверь, и все. Что ему, бугаю, стоит пожилую женщину за дверь, на улицу вышвырнуть? Еще пригрозил, что найдет на меня управу. Как бы не так! Очень его испугалась… Ну, я еще и на улице отвела душу, высказала, что о нем думаю. Народу собралась уйма, слушали. Еще бы! И знаешь, дитя мое, что я тебе скажу? Стыд и срам, что там делается. Поляков полно, по всему городу шатаются, по базару, и вот, богом тебе клянусь, сама своими ушами слышала, одна женщина говорит другой на улице: «Держи, говорит, сумочку покрепче, а то поляки по базару ходят…» Вот до чего мы дошли! А на столбах, на заборах объявления висят, рабочие везде нужны – и в совхозы и в колхозы. Так, думаешь, идут? Не-ет, работать, видишь ли, им стыдно, а клянчить, спекулировать, красть и объедать этих большевиков, которые за весь мир с немцами воюют, это им не стыдно… Да еще пугают, что будто бы, кто на большевиков работает, они в Польшу не впустят… Слышишь? Лужняк меня в Груец не впустит!
Она уже забыла, что не хотела пить, порывисто схватила со стола налитую чашку и залпом выпила.
– Уф… Как только меня удар не хватил, дитя мое! Видно, уж особая милость господня ко мне была… Ноги моей там больше не будет, ноги! Да, а этот-то чего не идет? Куда это он девался?
– Кто такой?
– Ну, этот, как его? Хобот! Помнишь?
– Откуда же он тут возьмется?
– Забрала я парня с собой из города. Что ему там делать? Тут он еще человеком стать может. Уж так просил, возьми и возьми с собой, чуть не заплакал. Где вы там? – крикнула она, открывая дверь.
– А я здесь дожидаюсь, – отозвался из темноты мужской голос.
– Чего дожидаться? Входите сюда, чай на столе. Уж простите, что я о вас совсем и позабыла… От этого Лужняка и всего там прочего у меня прямо голова закружилась… Садитесь, садитесь, – подтолкнула она смущенного парня к столу.
«Ах, вот кто это! Это тот взломщик», – вспомнила Ядвига, наливая ему чай.
Госпожа Роек передохнула и залпом выпила еще чашку.
– Да, а в «Красной звезде» знаешь кто был?
– Нет, а вы узнали?
– Конечно, узнала. Знаешь, тот в фиолетовых штанах, что вечно около Малевского терся, помнишь? Понабирал таких же, как сам, прохвостов. На это охотники нашлись, это ведь не то, что «на большевиков работать». И оказывается, целое предприятие организовали. Сама подумай, всю зиму казахи их кормили, поили – весной, мол, отработают… А весной – ищи ветра в поле! Этих Лужняк небось впустит в Польшу. Что там делается, дитя мое, это и рассказать невозможно… А эта их армия, говорят, уже за границу собирается.
– Как это?
– Да вот так. За границу, и все.
– За какую границу?
– За какую? За иранскую. В Иране их еще не видали!
– А на фронт?
– Какой там фронт! Ты в это веришь, дитя мое? Вот и оказывается, что я была права, что своих ребят туда не пустила. Хотя, по правде сказать, что мы тогда знали? Вот Антон может тебе сказать, он там был.
– В армии Андерса?
– В армию его не приняли, потому он сюда и вернулся. Но рассказать, что это за армия, может… Ты думаешь, они будут воевать? Как бы не так! Когда рак свистнет, а рыба пискнет! Говорили, что в октябре пойдут, даже договор такой подписали. А теперь с октября почти полгода прошло, а они и не чешутся… Еще бы! Большевики их кормят, одевают, триста миллионов рублей дали, чего же им еще? Не бойся, не пойдут, будут сидеть и ждать, когда большевики немцев побьют… И знаешь, что я тебе скажу, дитя мое? Оно, пожалуй, и лучше, что они уберутся за границу, а то тут они еще, не дай бог, такого наделают… Фронтовой паек им давали, давали, наконец сказали – хватит! Раз сидите в тылу, получайте тыловой паек. Вот и подумай, где у них стыд: под Куйбышевом сидеть да фронтовой паек жрать, у детей кусок хлеба отнимать… И как меня там от злости на куски не разорвало, так это уж, видно, только милость божья ко мне, чтобы я еще могла в Польше с этим Лужняком встретиться и уж там, на суде, о его негодяйстве рассказать… Девушки, почти дети, идут на войну, а эти бугаи сидели там и жрали фронтовой паек. А как зашла речь о тыловом пайке – так айда за границу… Скатертью дорожка! Сраму только с ними наберешься. И что только на божьем свете делается…







