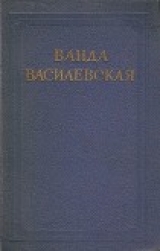
Текст книги "Том 4. Песнь над водами. Часть III. Реки горят"
Автор книги: Ванда Василевская
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 33 страниц)
Почки на деревьях набухли, и сквозь их клейкую коричневую кожуру местами уже видна нежная зелень; березы стояли в легкой зеленоватой дымке. Из-под прошлогодних пожелтевших стеблей пробивались острые иглы молодой травы.
То была уже шестая весна – если считать на весны время, прошедшее с того года, когда небо разверзлось над головами людей черной бездной смерти.
Те весны были похожи одна на другую и вместе с тем различны. Почти для каждого человека они отличались друг от друга силой пережитого. Но было нечто, что их объединяло и роднило: это были весны отчаяния и надежд. Только шестая весна была другой, совсем непохожей на прежние.
Уже освободились от фашистов и Быдгощ и Колобжег, – в далеком тылу воскресала, наполнялась шумом и говором Варшава. Уже дымились фабричные трубы Лодзи, и польские крестьяне работали ранними утрами на собственной, на крестьянской земле.
В тихий апрельский день полки подошли к реке.
Песни звучали над марширующими колоннами. И среди них одна, принесенная издалека, с берегов Оки:
Много рек мы прошли…
И правда – сколько их было, пройденных рек! Рек, которые сперва ложились преградой на пути, потом превращались в ленту, связывающую берег с берегом, один этап войны с другим.
И вот – еще одна река.
Это уже не Ока – «широкая, как Висла, глубокая, как Висла», река – колыбель, река – лозунг, река – начало нового польского войска. Река братской, ласковой земли, катящая свои могучие воды по зеленым лугам, по просторам бескрайных полей.
Это и не Буг, отражающий в светлых волнах корявые вербы, – пограничная река, с правого берега которой видна была уже близкая – рукой падать! – та Польша, которая все эти годы звала к себе, в долгие ночи дурманила снами о своей красе, в трудные дни давала суровый наказ бороться. Польша, которая всегда была жгучей раной, ядовитой тоской, единственной радостью сердца и неописуемой болью сердца. Это не Буг, откуда начинается польская земля и где хотелось, как в старых чувствительных романах, упасть на колени в песок, целовать его, почувствовать на губах единственный, неповторимый вкус этой земли…
Это и не Висла – желтовато-серая, а не голубая, как о ней поют, и все же самая прекрасная в мире река. Это не плацдарм в Чернякове, откуда текла в вислинскую воду кровь Восьмого и Девятого полков. Не Висла под крепостью Модлин и под Варкой, где так упорно оборонялись фашисты. И не радостная, свободная Висла, соединяющая Варшаву с Прагой, та река Висла, которую ты помнил всегда и повсюду.
Далеко осталась Висла. Теперь, прямо перед глазами, тихо катит свои воды к вольному морю Одер.
Никто из них не видел его раньше. И каждый знал о нем с детства. В памяти шелестят страницы учебника. Мешко Первый? Болеслав Храбрый? Нет, еще более древние времена. Славянские поселения в дремучих лесах, пчелиные колоды и белый пшеничный калач да изваяние Световида в дубовой роще.
Шелестят в памяти страницы школьного учебника. Возникают какие-то отрывочные факты, туманные, ничем не скрепленные. Странно, как много уже позабыто со школьных лет! Как перепутались, стерлись даты! История осталась в памяти лишь как общее впечатление от шума непрестанных битв. Ведь где-то здесь нападал на славян маркграф Геро, жег поселения в лесах, рубил изваяния языческих божеств, воздвигнутые в недрах таинственных пущ. Где-то здесь, над рекой Одером, было городище Ополье, гнездо силезских Пястов, где-то здесь был Глогов, с которым связывалась полузабытая легенда о неслыханном героизме. Где-то здесь было и Песье Поле, место памятной победы. И где-то тут же неподалеку – Лигница, где поляки сражались с монголами.
Сколько важных моментов из истории Польши связано с этой землей! И как жаль, что так мало помнишь… Чему же учили в школе, если как раз теперь, когда понадобилось, мы не знаем самого важного?
Но о чем бы ты ни думал, что бы ни старался вспомнить, в памяти все время мелькают названия здешних городов и земель – польские названия. Имена королей и князей – польских королей и князей. Почему в школе столько говорилось о королях, о князьях и так мало говорилось о том, как жил и работал здесь, на этих землях, польский народ? Народ в деревнях, сжигаемых соседними хищниками, народ, подпадавший под чужеземное иго и снова освобождавшийся. Каковы были вера и песня этого народа, каков был тяжкий труд его трудолюбивых рук?
В школе зубрили что-то об онемечившихся силезских Пястах, о князьях, которые переняли язык, обычаи и веру захватчиков. Но как жил под властью этих онемеченных князей народ? Ведь он не онемечился – даже теперь, века спустя, здесь можно дотолковаться с человеком, найти в его крестьянском диалекте основу родного польского языка. С каких же пор исчезла из официальной и школьной польской истории река Одер?
И вот эта река вновь возникла в истории в этот апрельский день тысяча девятьсот сорок пятого года.
Давно затихло эхо приказа, отданного, выслушанного и выполненного там, над Бугом, – приказ о переходе восточной польской границы.
От края до края свободна польская земля. Из конца в конец промерена усталыми ногами советских и польских солдат польская земля – от Буга и до этой новой и такой древней западной границы на реке Одер.
Своими глазами видели солдаты сожженные деревни и обращенные в прах города. Могилы на кладбищах, могилы на улицах и целые поселки, превращенные в одну братскую могилу.
Видели и всем сердцем почуяли горькую польскую долю этих долгих годов, более черных, более мрачных, чем она рисовалась воображению в самые худшие, самые тоскливые минуты.
Видели солдаты кровавые раны Польши и нищету ее лохмотьев.
Но видели они также и неотразимую ее красоту, ее вечно юную силу. Почувствовали живую струю, которая не иссякла в царстве смерти и смывает теперь тень смерти, как смывают буйные вешние воды грязные крошащиеся льдины.
Увидели материнское, улыбающееся лицо Польши.
И собственными глазами заглянули в бездну мрака, в гноящиеся раны предательства, услышали звон сребреников, уплачиваемых наемному убийце.
Видели лицо брата, омытое слезами радости. Но видели и предательские удары ножом и выстрелы из-за угла.
В эти дни на пути от Буга до Одера многим пришлось проверить свою мечту. Навсегда распрощаться с созданной себе вдали верой, что от Буга до Одера будут встречаться лишь братские лица и пожатия братских рук. Пришлось убедиться, что за освобожденную от немецких фашистов землю придется еще тяжко бороться.
И вот теперь, на берегу Одера, можно сказать себе:
Осуществились мечты, сложившиеся и взлелеянные там, над Окой. Осуществились до конца.
Польша будет свободной, независимой, владеющей издревле польскими землями, польским морем.
Она будет новой, великой и справедливой страной, которая наделит крестьянина землей и навеки вычеркнет из жизни позор батрацкого труда на барских землях. Она уничтожит насилие человека над человеком и будет страной трудящихся.
Осуществилось сказанное над Окой: это была правда, что именно оттуда, от Оки, вела прямая и ясная дорога в Польшу.
Не напрасно умирали поляки под Ленино и в Дарнице, за Бугом и в Праге, на Поморском Валу и под Колобжегом, запечатлевая кровью высшую правду, несокрушимую твердость воли, запечатлевая кровью документ, возвещающий существование новой, свободной, справедливой Польши.
Как далеки были те дни, когда приходилось преодолевать столько преград, взглянуть в глаза стольким новым истинам. Два года миновало с той поры… Два года или два века?
Уже возникла она – новая, свободная, справедливая Польша. С ее именем на устах, с ее именем в сердце пробиваются они к волнам Одера, реки, которая отныне будет границей, – нет, которая стала границей еще в тот день, когда далеко, в лагере над Окой, они услышали эхо слов, произнесенных в Кремле:
«Граница Польши на Одере».
Два года они шли, пробивались к этой реке сквозь кровь и смерть.
Последний приказ прост и ясен: форсировать реку Одер и выбить неприятеля из укреплений на левом берегу. Но за этим приказом скрывается нечто, о чем не говорят, но что знает и чувствует всякий.
Стремительным шагом близится победа. Стремительным шагом близится день, когда артиллерийский салют возвестит не об освобождении города, не о взятии крепости, а об окончательной победе над врагом.
Сколько раз назначали срок победы жаждущие сердца! Сколько раз называли год, времена года, месяцы, даже дни и числа! Но теперь это было последнее, решающее наступление, победоносный марш, который без передышек, без перерывов приведет к конечной цели.
И хотя сейчас срок был непреложен, именно теперь-то и страшно было в него поверить.
Нет, лучше не думать, не говорить об этом, хотя на этот раз – это не просто надежда, которую боишься спугнуть словами, не пустая мечта, рассеивающаяся, едва ее выскажешь…
И все же лучше не говорить теперь, когда марш подобен полету и победа несомненна, когда она приближается гигантскими шагами, когда километры тают, как снег на апрельском солнце.
Победа придет. Не минует. Но не надо ослаблять ошеломляющую радость преждевременным предвкушением ее.
Теперь они собственными руками берут победу. И знают, что от каждого, от каждого из них зависит, наступит ли этот день раньше или позже.
Это уже не вера, не надежда, не мечта, – это просто боевое задание!
Никто не сомневается, что задание будет выполнено. Справа и слева глухо грохочут советские орудия, а здесь, в этой двадцатикилометровой полосе, гремит польская артиллерия. Позади уже долгий боевой путь. Уже испытаны в боях воля и мужество польских воинов, и сердца их полны уверенности и солдатской гордости. Уже нет преувеличений, нет прикрас, когда говорят высокие слова о полковых знаменах: они покрыли себя боевой славой.
Здесь находится также и то знамя, вышитое руками московских женщин в весенние дни сорок третьего года, знамя, тяжелое от серебра и золота. Но это серебро и золото сегодня сияет славой живых и памятью павших.
Заботливые руки пронесли овеянное славой знамя от большой поляны над Окой сюда, на берег пограничной реки Одер. Сквозь грохот боев, сквозь пожары и кровь прошло окрыленное славой знамя по всей польской земле, от края и до края.
Выполнена присяга, принятая в лесах над Окой. Польские сосны зашумели в ответ своим русским сестрам.
Тот же ветер, что в радостном упоении бил крылами тогда, овевает лица и сейчас. Но нет сейчас слез на солдатских глазах, пусть даже слез радости. Окрепли, закалились сердца победителей. В них сознание своей проверенной в боях силы, гордость выполненной присяги, гордость «доблестных солдат Польши», гордость родиной, которая стала такой, какой должна быть, стала той родиной, за которую пали под Ленино первые солдаты Первой дивизии.
Здесь, на берегу Одера, можно сказать себе: вот наступил час, и вот пришло свершение.
…Скрипели в ночном мраке колеса повозок, тяжело катились тягачи, топот и говор оглашали воздух. Лихорадочной жизнью жил в эту ночь клочок земли, еще отделяющий польских солдат от реки. Перекликались саперы, таща материалы для моста. Торопливо сколачивали плоты. Ночь была полна движения и огней. Артиллерия гремела с обеих сторон, красные, зеленые, белые ракеты прорезывали небо. Клубился дым, рыже-красные зарева пылали вдали, по обе стороны реки. Но ни пожары, ни выстрелы, ни взрывы не могли победить тяжелую, плотную тьму.
Никто не спал, как ни тяжки были последние дни, как ни устали люди от стремительного марша и упорных боев. Казалось, враг, вопреки очевидности, не хочет признать свое поражение, еще питает надежду на какое-то чудо; он цеплялся когтями, зубами за каждый дом, за каждый ничтожный пригорок.
В потемках, слабо освещенных далекими пожарами, капитан Забельский прошел мимо группки солдат, дремлющих прямо на голой земле.
Так уж оно, видно, и будет до конца, до последнего дня. До последнего дня не придется солдату выпускать из рук винтовки, до последнего дня придется гореть в боевом напряжении.
Забельский всмотрелся в даль за рекой. Но в густой тьме, насколько хватал глаз, виднелись лишь вспышки выстрелов и очаги отдельных пожаров. А еще дальше был уже сплошной мрак.
Сжималась, исчезала территория, на которой еще держался враг. Что происходит теперь там, за двести, триста километров западнее, где наступают «союзники»? Праздный вопрос! Забельский прекрасно знал, что там-то не кипят бои, там не приходится платить кровью за каждый сантиметр освобожденной земли. Стремительно, с лихорадочной поспешностью гитлеровская «раса господ» сдавалась западным армиям, вывешивая белые флаги прежде, чем покажутся головные колонны наступающих. Гитлеровцы выходили им навстречу, горя одним желанием: чтобы войска капиталистических государств как можно скорее, как можно дальше продвинулись на восток.
Забельский насмешливо усмехнулся. Ему вспомнилась болтовня в лагере над Окой о втором фронте. Ну, вот он и открыт, наконец, этот «второй фронт». Любопытно, двинулся ли бы он вперед, сделали ли бы эти «союзники» хоть один шаг, если бы не страх, который внушил им натиск Советской Армии на запад, если б их не испугали эти сотни километров, тающие, как снег, под ногами советского солдата?
Где вы были, когда стояли насмерть герои Сталинграда? Где вы были, когда тысячи и тысячи советских солдат окупали своей смертью свободу Москвы, когда решались судьбы всего мира? Где вы были, когда черная пелена мрака простерлась над Европой, когда проливались моря крови ни в чем не повинных людей?
И снова Забельскому вспомнились дурацкие радостные возгласы у западных посольств – тогда, в сентябре тридцать девятого…
Кто из них хоть пальцем пошевелил в защиту Польши, попираемой сапогом захватчика? Кто принимал всерьез собственные обязательства и собственные договоры? Что было бы сейчас не только с нами, поляками, но и со всеми вами, если бы там, на востоке, не было страны, которую вы ненавидите, если бы не было людей, которых вы боитесь безудержным страхом своей мелкой, торгашеской душонки? Спешите же теперь, спешите, кричите о своих победах, занимайте города, где белым-бело от вывешенных флагов. Что бы вы ни делали, вам не успеть! Что бы вы ни делали, наша земля уже свободна от края и до края. Что бы вы ни делали, она стала такой, какой хотим ее видеть мы. Вам уже не захватить в руки концессии, не выжимать пот и кровь из работающего на вас польского раба. Где-где, а здесь вам не придется заводить ваши порядки! Не удастся сделать из Польши игрушку, мячик, перебрасываемый из рук в руки. И никогда не сделать вам из этой страны плацдарм для нападений на народ, который ценой своей крови вызволил нас из рук врага.
Взвилась ракета и меркнущей дугой упала вниз, рассыпалась белыми искрами, которые тотчас, как вода в песок, впитались в мрак. И этому свету, внезапно вспыхнувшему во мраке, капитан Забельский доверил свои самые заветные мысли:
«Я выполнил свою присягу».
Как сейчас, помнится и этот день, когда они присягали, и вся злоба, весь гнев, которым горело тогда его сердце. Ведь он в сущности и не понимал тогда, что такое эта присяга. Не понимал, что ее можно было приносить в радостном порыве, с окрыляющим счастьем в сердце, с высоким сердечным подъемом, что уже тогда можно было чувствовать то, что чувствует он сейчас. Кому назло приносил он тогда эту присягу? Этим призракам, которые, кажется, и по сей день влачат еще существование в Лондоне, потеряв уже малейшую краску жизни, призракам, уже только смешным и жалким в своей кичливой спеси… Кому хотел он поступить назло? Дезертирам, не стоящим плевка? Изменникам, лакеям иностранцев? Или же самим этим иностранцам, которые годами умели равнодушно смотреть, как гибнет, обливается кровью, пропадает пропадом весь мир, и зашевелились лишь тогда, когда перепугались, как бы не ускользнула из их рук добыча.
Пришло время, когда и ему, Забельскому, можно подвести некоторые итоги. И это неплохие итоги.
«Из-за чего же я так мучился, так терзал себя тогда, в госпитале? Оказывается, есть вина, которую можно искупить кровью».
Крови вытекло из него немало, начиная с битвы под Ленино. И он теперь не глупый, как сапог, франтоватый поручик Забельский и не призрак Новацкого, а капитан польского войска Забельский. Он получил не просто звездочки на погонах, а нечто гораздо большее: это отметка долгого, кровавого пути до Польши, сквозь всю Польшу и сюда, на Одер, к новой польской границе, возвращенной Польше через сотни лет.
И вдруг ему стало жутко. С чего он сейчас погрузился в воспоминания? Солдаты говорят, что перед боем не надо вспоминать прошлую жизнь, – это дурное предзнаменование.
Он усмехнулся. Какие дурные предзнаменования могут быть здесь, на реке Одер, в час великих свершений? Видно, суеверными бывают не одни старые бабы…
Так уж сложились обстоятельства, что за эти два года ему приходилось много раз вспоминать свою жизнь, чтобы как-то разобраться в ней. Но это – в последний раз. Все уже ясно. Все, что было, должно было быть. Одно лишь хотелось вычеркнуть из жизни, сделать небывшим – смерть того крестьянина в Полесье и пожары подожженных им украинских деревень. Но больше – ничего, ничего! Именно этим путем надо было идти поручику Забельскому, чтобы прийти сюда, на берег Одера, таким человеком, каким он стал теперь.
Невыясненными в его жизни остались только отношения с Ядвигой. Минутами она была так близка, что, казалось, не о чем и говорить, не о чем спрашивать, все попятно само собой. Но приходили другие мгновения – и ома ускользала от него, далекая, недоступная. «Это ничего, – утешал он себя. – Ведь еще война. После войны все выяснится и, в зависимости от этого, так или иначе сложится жизнь».
Сердце его дрогнуло. Подумать только! Он собственными глазами видит, как заканчивается война, как она умирает в жестоких предсмертных судорогах. Пусть защищаются гитлеровцы, как хотят, пусть палят из всех орудий, все равно – им конец. И вовсе не потому, что там, на западе, сдаются без выстрела дивизии и падают на колени города. Нет – потому, что отсюда, с востока, обливаясь кровью, напирает советский солдат. И бок о бок с ним, в братстве оружия, как было сказано в присяге над Окой, идет польский солдат, пробиваясь сквозь стену врагов к новой польской границе.
И к чему ему вспомнились его личные дела? Это еще успеется после войны. О чем это он раньше думал? Ах да, старался вспомнить какие-то факты из школьного учебника истории.
«Забельский, история – это учитель жизни, – слышатся ему слова его старого учителя, – а ты опять не приготовил урока».
Думал ли этот старый сухарь, что придет время, когда ленивый ученик Забельский сам вместе с другими будет создавать историю, будет писать ее своей кровью, завоевывать собственными руками! И это не будет история минувших веков, а новая, пульсирующая, как сердце, живая, близкая, не загроможденная анекдотами из жизни королей, история свободного народа. Нет, старик и не подозревал, что учителем жизни может быть лишь история, которую сам переживаешь, в которой сам принимаешь участие не как зритель, а как творец.
– Ну и палят, сволочи! – флегматично сказал Вонсик, отирая рукавом вспотевшее лицо.
– Все равно не поможет, – пробормотал Стефек.
– И верно, что не поможет. Напоследок весь порох израсходовать хотят, что ли?
Левый берег гремел от выстрелов. По нему пробегали змейки огня. Как неприступный, грозный вал, дымились позиции на левом берегу.
– До этого ихнего Берлина – сколько еще осталось?
– До Берлина? Сто километров.
– С гаком.
– А то и без гака… Эх, там у них уж небось поджилки трясутся, ох и трясутся!
– Неизвестно еще, кто первый туда войдет – мы или союзники? – вмешался молодой солдат, возясь над ящиком со снарядами.
– Как бы не так! Так мы им и дали войти первыми… Пораньше надо было начинать. Всю работу советские сделали, а теперь они на готовенькое влезут в Берлин!
– А все же, как говорится, союзники, – упирался тот.
Вонсик выпрямился:
– Плевать мне на то, как оно там говорится!.. Давно ли ты в армии, сопляк?
– Уже четыре месяца.
– Уже четыре месяца, – передразнил Вонсик. – Повоевал бы ты, как, к примеру сказать, мы с гражданином поручиком, знал бы, какие такие они союзники… Верно я говорю?
Стефек не ответил. Разговор как-то не доходил до его сознания. Кажется, уже пора бы привыкнуть, но нет, он волнуется. Всякий раз перед боем его нервы напрягались до крайности в нетерпеливом ожидании. Он торопливо проверял в уме: всё ли на батарее в порядке? Эта мысль – всё ли в порядке? – назойливо вертелась в голове. Все уже было проверено десятки раз, но легче станет лишь тогда, когда будет получен приказ, когда первый снаряд метко накроет цель, когда следующие снаряды подавят огневые точки на той стороне, когда он ощутит, что его батарея – это четко действующее звено в цепи других батарей, непосредственно прикрывающих переправу.
Противоположный берег извергал огонь. Нелегкая будет переправа, что и говорить! Хотелось бы поскорей очутиться на той стороне. Но им придется переправляться последними, когда части уже завяжут бой на захваченном плацдарме и артиллерийский огонь прекратится, чтобы не поражать своих. Артиллеристы начнут переправу, когда первые этапы боя уже будут закончены, – да и то, если выдержит мост и не придется еще дожидаться, пока саперы наведут новый… Стефек позавидовал пехотинцам, которым достаточно какой-нибудь доски, охапки хвороста, наскоро сколоченного плотика.
И вдруг Стефек вспомнил: на той стороне уже не Польша. Вон там, неподалеку, протекает река Одер – новая польская граница. На том берегу начинается чужая земля.
Он это знал давно, но только сейчас он почувствовал так живо. И еще живее, чем раньше, ему подумалось: вот если бы увидеть теперь капитана Скворцова и сказать ему… Где находится капитан Скворцов? Почему за столько лет он никогда не встретил его фамилии? Он ведь столько раз спрашивал о нем! И никто не мог ничего ответить. А хотелось бы отрапортовать капитану так, как рапортовал там, на аэродроме, что машина готова к вылету, – отрапортовать, что он дошел до польской границы. Что прошел с боями всю польскую землю, что капитан может не стыдиться за своего бывшего солдата. Есть уже у Стефека и благодарности в приказах. И ордена. И повышения в звании. Но больше всего ему хочется, чтобы капитан Скворцов положил ему руку на плечо и со своей милой улыбкой, весело светящейся в глазах, сказал, как часто говаривал прежде: «Молодец, Степа…»
Но тут у самой земли раздается стремительный телефонный звонок.
– Слушаю. Есть. Есть.
Вонсик уже у орудия.
Весь правый берег расцвечивается огнями. Там, пониже, мчатся к реке стрелковые части; отсюда их не видно. В сознании Стефека – только батарея. В поле зрения – только цели на левом берегу. Окопы противника. Укрепления противника. Огневые позиции противника. Прикрыть, заслонить реку! Прикрыть, заслонить лодки, плоты, саперов, с лихорадочной поспешностью заканчивающих мост!.. Вонсик что-то кричит, но ни одного слова не слышно.
На обоих берегах сущий ад. Стоит столбом пыль. В носу раздражающий запах гари. С грохотом откатывается, подпрыгивает при выстреле орудие. Солдаты широко открывают рты.
– Выше.
– Перелет.
Но уже все в порядке.
Встреляться, вгрызться огненным зубом смерти в левый берег, в бетонированные, будто навек укрепленные неприятельские позиции! Подавить неприятельский огонь, заткнуть смертоносные дула орудий, засыпающих переправу железным ливнем!
Смешались черные клубы дыма с правой и левой стороны. Оба берега изрыгают огонь и смерть.
Стефек очнулся. Прямо над собой он увидел низко нависшее, небывалое небо, рыжее, в черных полосах медленно ползущего дыма. С минуту он пытался собраться с мыслями, понять, что случилось.
«Попало. Прямое попадание в нашу батарею», – вдруг осознал он.
Да, так было. Как он только мог хоть на мгновение забыть об этом? Фонтаны земли, чудовищные, рваные лохмотья, летящие в воздух. Орудие подпрыгнуло и запрокинулось, устремив в небо ствол. Эта картина запечатлелась в мозгу, словно на фотографической пластинке.
«А я, видно, ранен. Опять ранен, – со злостью подумал он. – Как раз теперь…»
Он хотел шевельнуться, но тело было точно парализовано.
– Ничего, – сказал Стефек вслух. – Отдохну, потом еще попробую.
Где-то справа слышны крики, они приближаются и быстро затихают. «Это пехота бежит к берегу, часть за частью переправляется на ту сторону. А я…»
Лихорадочный стук топоров. Саперы сколачивают под обстрелом мост. Но над всем этим шумом господствует гром артиллерийской пальбы, где-то неподалеку с воем проносятся снаряды.
Гитлеровцы все еще стреляют. Но это ничего не может изменить. Был ведь приказ – форсировать реку и прорвать линию укреплений на той стороне. А там – недалеко и до Берлина. Это знают все.
Стефек еще раз безуспешно попробовал шевельнуться.
– Засыпало меня, что ли?
Но, глядя вниз, он видел носки собственных сапог. Значит, не засыпан. А шевельнуться не может. Стало страшно. Вспомнился взводный – где это было? Да, под Дарницей! У него был перебит позвоночник. Но тот ведь вскоре умер…
«Впрочем, может и я умираю?»
Растрепанные, извилистые струи дыма блуждают по рыжему небу. Ровно год назад они были под Дарницей. Но тогда было холодно, снег, а сейчас – апрель как апрель, ясная погода…
«О чем я думаю? – удивился Стефек. – Надо же в конце концов что-то сделать с собой, нельзя же так лежать».
Куда девались санитары? Если бы кто-нибудь помог встать, он уж пошел бы как-нибудь, наверняка пошел бы. Санитары, вероятно, тоже кинулись на ту сторону. Конечно, всякому охота! Но ведь их обязанность быть и тут, ведь и кроме меня здесь есть раненые.
Справа раздался гул мотора, и тотчас за ним протяжный всплеск. «Амфибии, – подумал Стефек с завистью. – Если бы можно было хоть что-нибудь увидеть…»
Но он видел только чудовищное небо. Попытавшись глянуть в сторону, он увидел у самого своего лица какие-то железные обломки, заслонявшие решительно все. По доносящимся звукам было понятно, что переправа идет вовсю. Хлюпала вода, скрипели весла, на берегу и на реке раздавались крики, стучали топоры. И со все нарастающей силой гремела канонада.
«Защищаются… Недоставало еще, чтобы какой-нибудь шальной снаряд разорвал меня в клочья», – подумал он с гневом. Но снаряды, видимо, падали дальше, в воду и на переправы, или перелетали вглубь, на позиции тяжелой артиллерии.
Невероятным усилием воли ему удалось, наконец, приподнять голову. Но тут он почувствовал такую усталость, словно выполнил непосильную работу.
«Все-таки я приподнялся, – подумал он, – а раньше не мог».
Он уже не прислушивался к тому, что делается на берегу. Не прикидывал в уме, как идет переправа, не завязались ли бои на той стороне. Холодно, расчетливо он собрал свои силы. Ему удалось еще раз поднять голову. Теперь он мысленно поискал пальцы рук. Есть у него руки или нет их? И вдруг почувствовал, что пальцы сжались в кулак. Которая же это рука? Правая, конечно. Он нащупал землю, какие-то жесткие комки, почувствовал холод железа. И снова ослабел, закрыл глаза. Надо отдохнуть, набраться сил и опять попробовать – как там с ногами? Он видит носки своих сапог, – надо пошевелить стопой.
Но, несмотря на все его усилия, носок сапога не дрогнул, он мертво торчал вверх, как чужой.
«Куда я собственно ранен? Нигде не больно. Мозг работает нормально… И ведь дошел до самой границы… – подумалось ему вопреки воле, как бы без его участия. – А дальше уж, видно, не пойду…»
И стало страшно жаль. Не себя, а так – просто жаль, что нельзя пойти дальше. Он снова рассердился на санитаров. Почему никого из них нет поблизости? Не могли же они не видеть, как грохнуло в батарею!
«Вонсика, верно, уже нет в живых, – вдруг осознал он. Черное от крови лицо как на фотографической пластинке возникло перед его глазами. – Вонсика нет в живых. А я? Может, и меня уже нет в живых».
Он открыл глаза. Черные тучи дыма клубились, тянулись полосами, расплывались по мрачному рыжему небу.
«Вздор, я жив. Но…»
Откуда-то изнутри поднималось тяжелое, сосущее ощущение. Будто коварный, ядовитый шепот:
«Но, может, я просто умираю? Может, это конец? Может, я уже не только за Одер, но уж вообще никогда никуда не пойду? Может, это смерть?»
И как раз сейчас, когда он и не пытался это сделать, ему нечаянно удалось слегка повернуться на бок. Стефек даже вспотел от радости. Осторожно попробовал приподняться на локте. Увидел свои грязные, закопченные, но целые пальцы и кисть руки.
– Ура! – Теперь он видел уже перед собой клочок земли, усыпанный какими-то разбитыми, ни на что не похожими предметами. Он хотел подобрать под себя ноги и сесть, но ноги были неподвижны, как деревянные.
«Значит, что-то с ногами», – осознал он и, опершись на другой локоть, внимательно осмотрел свои неподвижные ноги. Никаких ран незаметно, все как будто цело, а ноги словно чужие, не слушаются, не поддаются никаким усилиям. Он подтянулся на локтях и почувствовал ноги как волочащуюся тяжесть.
Приходилось мириться с этим. «Но ведь можно ползти!» Он обрадовался этой мысли, как большому открытию. Отвратительнее всего было лежать здесь, на этих обломках, как в мусорной яме.
«Если уж мне суждено умереть, – ответил он голосу, нашептывающему ему ядовитую мысль о смерти, – то я хочу умереть на границе. Над самым берегом. Раз уж так вышло, что мне не перейти на ту сторону».
Но ползти оказалось нелегко. Он повернулся на живот, и даже это стоило немалых усилий. Рывок вперед – и силы покинули его. Придя в сознание, он понял, что лежит, уткнувшись лицом в землю, весь в поту, борясь с ужасающей слабостью.
«Тут недалеко, всего несколько десятков шагов», – уговаривал он себя, с трудом удерживая на локтях свое тяжелое, как мешок, тело.
А ведь приходилось еще преодолевать препятствия. Через попавшееся на дороге бревно он переползал добрых десять минут. Оползти кругом? Нет, это слишком далеко. Он навалился на него животом, перевесился на другую сторону. Ноги ничего не чувствовали, и это было так мучительно, что боль в руке, пораненной о какие-то железки, показалась ему облегчением. Во рту пересохло, душил запах гари. Упав, наконец, за бревно, он долго тяжело дышал. Отдохнуть, отдохнуть немножко!
Над самой головой с протяжным воем пролетел снаряд. Стефек инстинктивно прижался к земле. Орудийный обстрел с той стороны все усиливался. Но здесь, на правом берегу, стало как будто тише.
«Верно, большинство уже переправилось», – подумал он, ловя сухими, потрескавшимися губами воздух.
«Теперь я доползу вон до той щепки», – решил он, но, видимо, переоценил свои силы. Эти полтора метра пришлось преодолеть в три приема. К тому же он с ужасом заметил, что мысли его уже не так ясны. Что-то путалось, забывалось, припоминалось вновь. Мысли расплывались, гасли, прежде чем удавалось додумать их до конца.







