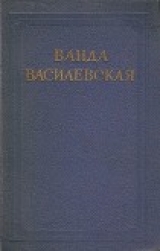
Текст книги "Том 4. Песнь над водами. Часть III. Реки горят"
Автор книги: Ванда Василевская
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 33 страниц)
Нет, положение было отнюдь не из приятных. Его одолевала тоска и одни и те же заботы. И когда все это, наконец, кончится? Сорок третий год, от которого все они столько ожидали, явно не оправдывал надежд. В Лондоне всё грызутся, Сикорский с Андерсом, видимо, никак не могут прийти к соглашению. А кому за это приходится расплачиваться? В сущности говоря, – ему, Лужняку. Попробуй, разберись, кто в посольстве сторонник Сикорского, а кто – Андерса, и как с кем говорить. Того и гляди, сам того не зная, восстановишь против себя кого-нибудь из начальства. Малевский – ну, того как пить дать поддерживает второй отдел штаба, да и не так, как его, Лужняка, а по-настоящему, вовсю! Потому-то он и ведет себя так уверенно. А Лужняк что? Ну, набрал немножко золота на всякий случай, да ведь много ли? И говорить не стоит.
Теперь он непрестанно упрекал себя за то, что согласился быть уполномоченным посольства. Раньше, когда ему предложили этот пост, он и минуты не колебался. Еще бы! Оно хлопотливо, конечно, но ведь и местечко выгодное. Кроме того, ему импонировало, что выбрали именно его, Лужняка, хотя были здесь люди повыше чином и из армии и из полиции. Но предложили именно ему. Многие ему завидовали: все продовольственные транспорты, все вещи, все деньги шли через него. В сущности здесь, на месте, он был всемогущим хозяином. Если кто и жаловался на него в посольстве, так на это не обращали внимания. Да и то сказать, разве он был так уж плох? В конце концов надо же и совесть иметь! Всех, конечно, не накормишь, не оденешь. Но теми, кто этого заслуживал, он занимался, и очень заботливо. Мало ли их устроилось при нем весьма прилично? Теперь оказывается, что он, пожалуй, сглупил. Не стоило быть добрым. Вздор, что печень у него болит от водки, – это от непрестанного волнения. А как не волноваться, когда что ни день то неприятность? И совершенно не знаешь, на кого рассчитывать. Взять хоть Малевского – кто он собственно такой? Какими полномочиями и кто его наделил? Даже этим бабенкам в канцелярии нельзя верить – ведь вот подбросил же ему кто-то на письменный стол газетенку этих изменников, подлизывающихся к большевикам. А в газетенке была напечатана наглая корреспонденция, явно написанная кем-то, кто хорошо знал здешнюю обстановку. Нет, никого из своих работников он в такой подлости подозревать не мог. Это сделал кто-то «из города». Но хватит и того, что нашелся сотрудник, который подбросил ему этот номер! А у него и так уже бессонница. Раньше, бывало, положишь голову на подушку и готов! А теперь?
И вот за все эти мучения его же поливают помоями! Нет, не надо было браться за эту работу, не надо было. Что там Малевский ни говори, а дела идут все хуже. Англичане… На кого же в таком случае можно рассчитывать, если уж и англичане предают? Там, в Куйбышеве, в посольстве, видно тоже нервничают, ни на один запрос невозможно добиться толкового ответа.
В одну из тех ночей, когда Лужняк долго ворочался на постели, страдая от мучительной тянущей боли в печени, и уснул лишь за полночь, его внезапно разбудил Малевский.
– Что случилось?
– Слушай, было сообщение: под Смоленском нашли перебитых польских офицеров.
Лужняк протирал запухшие глаза.
– Каких еще офицеров?
– Наших, польских, понимаешь? Тысячи офицеров… Большевики поубивали в сороковом году…
Лужняк спустил ноги с кровати, и первое, что он увидел, был рыжий столб копоти, который валил, как из трубы, из лампового стекла. «Черт! Забыл потушить лампу, теперь весь стол в саже…»
– Чье сообщение, что ты болтаешь?
– Да проснись ты! Ясно тебе говорю: немцы передают, что в Катыни под Смоленском найдены могилы убитых польских офицеров. Сикорский обратился в Международный Красный Крест с просьбой расследовать дело…
– Как, в Красный Крест?
– А куда же? В дирекцию трамвайного общества, что ли, надо было, по-твоему, обращаться? Интересно, как теперь американцы и англичане распутаются со своим союзом!
– С каким союзом?
Малевский пренебрежительно пожал плечами.
– О господи! Спишь ты еще, что ли? Ведь это не баран начихал! Тут уж так называемое мировое общественное мнение должно будет сказать свое слово.
Лужняк медленно собирался с мыслями.
– Послушай-ка, так ведь это значит…
– Это значит, что нашему правительству придется порвать с большевиками, понятно? Наконец-то Сикорскому дадут по шапке! Теперь-то уж кончатся эти нежности с Советами. Положение вещей совершенно меняется. Ведь это уж не турусы на колесах, которые Гавлина разводил, нет, тут уж другое, хо-хо!
– Слушай, ты это к чему о Гавлине? – пытливо взглянул вдруг на него Лужняк.
Малевский смутился.
– Как, к чему? Я просто так… что, мол, это совсем другое…
– Ты полагаешь…
– Ничего я не полагаю! С ума ты сошел, что ли? Тут совсем другое дело… Были у тебя в руках имена и адреса вывезенных детей? Мог ты их показать кому-нибудь? Мог доказать, что четыреста тысяч детей умерло? Нет! А тут – комиссии, трупы, все как полагается.
Но Лужняк все еще подозрительно всматривался в лицо гостя.
– Чему же ты так радуешься?
– Как это – чему? Эх, Лужняк, Лужняк, далеко с твоим умом не уйдешь! Да ведь это же козырь, и какой козырь! Тут уж большевики не выкрутятся.
– Ладно. Положим, что так. – Лужняк мрачно жевал погасшую папиросу. – Но все это, как ты называешь, большая политика, политика дальнего прицела. А с нами что будет, я тебя спрошу?
– То есть с кем – с нами?
– Ну, со мной, с тобой, со всеми нами тут, на месте?
– Ах, какое это теперь имеет значение! Как-нибудь да устроимся.
– Ты думаешь?
– Думаю. И послушай, в политике ты всегда был дубом, но теперь и ты поймешь, в каком положении оказались англичане и американцы. Ведь им придется выбирать: мы или они?
– Какие – они?
– Господи Исусе Христе, как говорила моя покойная тетушка! И ты еще обижаешься, когда я говорю, что в политике ты настоящий дуб. Ведь ясно, как апельсин, союзникам придется выбирать – Польша или большевики, понимаешь? Такая каша заварится! Просто любо! До сих пор они еще могли вилять, но теперь им придется считаться с тем, что скажет широкое общественное мнение о таком союзе. Это можно было с самого начала предвидеть, а твой Сикорский дал обмануть себя, поверил в большевистскую дружбу…
– Генерал Сикорский всегда…
– Знаю, знаю, пусть будет так. Сейчас уже не о чем спорить. Теперь – капут.
Но Лужняка опять словно кольнуло что-то.
– Слушай, а откуда ты это знаешь?
– Я же говорю тебе, по радио передавали.
– Большевистское сообщение?
– Немецкое. И польское из Лондона.
Ну, конечно, Малевский всегда узнает обо всем раньше его. Есть какая-то секретная радиосвязь, тут, поблизости, но его, Лужняка, не допускают до этой тайны. Такие сообщения всегда идут через Малевского…
– Ладно. Но только вызовет ли это и вправду такие последствия, как ты говоришь?
– Черт тебя знает, до чего ты несообразителен! Да пойми же ты, что теперь начнется совсем другое, увидишь!
Лужняк действительно увидел. Через Малевского же, или через кого другого, новость распространилась с молниеносной быстротой. Утром сотрудники явились на работу с небывалой точностью. О работе никто и не думал, барышни пугливо перешептывались. Приходили все новые люди, известие уже распространилось повсюду.
– Одного только я не понимаю, – робко спрашивала панна Станислава, – зачем они их собственно поубивали? Ведь все другие наши офицеры после амнистии вышли на свободу?
– Зачем? Это уж вы большевиков спросите – зачем!
– Может, это еще неправда? – усомнился кто-то.
Но сообщали всё новые подробности. В Катыни уже побывала по приглашению немецких фашистских властей какая-то польская комиссия. Уже публиковались фамилии убитых. Уже на место преступления приезжали корреспонденты, приглашенные ведомством Геббельса, и заверяли, что они убеждены в правильности обвинения против большевиков.
Никто не задумывался, как эти сведения могут так быстро доходить сюда – из-за границы и через фронт. Как бы то ни было, они быстро распространялись.
– Увидите, что еще будет! – торжествовал Малевский.
Двадцать пятого апреля по радио и в печати опубликовано было советское сообщение. Вокруг уличных репродукторов в городке стояли группки людей. У черной тарелки, висящей на стене канцелярии, собрались все сотрудники. На этот раз это была ведь не военная сводка, – сводки Советского Информбюро они перестали слушать с тех пор, как радио стало передавать сообщения о советских победах. Нет, это была советская нота польскому правительству в Лондоне, уведомляющая о разрыве дипломатических отношений и обвиняющая эмигрантское правительство в том, что оно подхватило немецкую провокацию, предпринятую для того, чтобы вызвать раскол между союзниками.
Работники канцелярии уполномоченного выслушали ноту в мрачном молчании.
– Что же теперь будет с нами? – робко спросил, наконец, кто-то, но ответа не получил.
Оживление внес подошедший Малевский.
– С нами? Никто нас не тронет, не беспокойтесь! Наше положение сейчас лучше, чем когда бы то ни было…
Но и веселое настроение Малевского вскоре стало портиться. Во-первых, было получено известие о сроке выезда из Советского Союза польского посольства и о ликвидации всех его отделений на местах. Во-вторых, ни англичане, ни американцы не присоединились официально к обвинениям, выдвинутым эмигрантским лондонским правительством.
– Скоты! – сердился Малевский. – Впрочем, это можно было предвидеть.
– Что можно было предвидеть?
– Подлизываются к большевикам.
– Кто? – удивился Лужняк.
– Ну, эти… союзники… Буквально под большевистскую диктовку – что правительство играет на руку немцам, что дало себя надуть Геббельсу… Черти!
– Ты же сам говорил…
– Говорил, говорил, мало ли что я говорил! Струсили наши союзнички, вот и все. Большевиков испугались, герои! Да и чего от них можно было ожидать? Не первый и не последний раз нас надувают. С ними всегда так… Возмущаются… Им легко возмущаться. Только вместо большевиков они негодуют на наше правительство. Конечно, что для них десять или двенадцать тысяч офицеров! Это ведь не их офицеры…
Впрочем, и персонал уполномоченного оказался не на высоте. Сотрудники охали, вздыхали, но меньше всего их интересовало катынское дело – люди беспокоились о собственной судьбе.
– Что теперь будет? – мрачно спрашивала госпожа Пшиходская. – Они там затевают авантюры, а расплачиваться придется нам.
– Вы это считаете авантюрой? – тотчас прицепилась к ней Владя.
Но та лишь поджала губы и не ответила, красноречиво передернув костлявыми плечами.
– Теперь уж без неприятностей не обойдется! – мрачно предсказывал высокий блондин, тайный поклонник панны Влади, тщательно скрывающий, однако, от Лужняка свои поползновения. Впрочем, и избранница «самого уполномоченного» отвечала блондину лишь подчеркнутым презрением.
– Что ж, вы-то должны бы радоваться.
– Я? Почему именно я?
– А мало вы ругали Сикорского за договор с большевиками.
– Это другое дело. Вам этого не понять.
– Разумеется, где мне понять вашу мудрость… Вчера было, по-вашему, плохо, что завязали отношения с большевиками, сегодня плохо, что отношения порывают…
– Не Сикорский порывает, а большевики.
– Одно на одно получается.
– О чем тут спорить? – снова вмешалась Пшиходская. – Так или иначе, а кончится тем, что все мы подохнем в тюрьме, а заступиться некому будет.
– Много за нас раньше заступались!
– Если вам не нравится наше правительство, так есть ведь еще эти большевистские прихвостни в Москве. Может, они за вас заступятся!
– Орала ведь вчера по радио из Москвы эта баба, – как ее там? – что никому ничего не будет, чтобы поляки сохраняли спокойствие и работали. Они и воспользуются случаем, чтобы погнать нас всех на работу.
– Ну, я-то уж на них работать не буду!
– Будете, если поприжмут как следует.
– Уже нашлись прохвосты в нашем городе, которые говорят, что это к лучшему, что теперь хоть большевики нами займутся по-настоящему.
– Ну вот, то же и эта баба кричала по радио!
– Позаботятся они! Так позаботятся, что и своих не узнаешь…
А в городе действительно заговорили. И меньше всего о Катыни. Обсуждали, что теперь будет, как сложится обстановка. Некоторые рассчитывали на группу, издающую газету в Москве. И среди них даже такие, которые раньше и слышать о московской газете не хотели.
– А что касается этой Катыни, то просто повторяется история с поджогом рейхстага.
– Какого еще рейхстага? – удивлялись дамы.
– Новая немецкая провокация, вот и все!
– Кажется, знаем, что в Польше творится.
– Русских пленных фашисты убивают, с чего же наших станут щадить?
– Два года уже сидят гитлеровцы в Смоленске, а теперь, когда их стали лупить, вдруг отыскались эти могилы…
– Что там могилы! Тут надо думать, что с нами самими будет? Как бы нам всем не пришлось отвечать за эти лондонские штуки…
Малевский ходил от группы к группе, прислушивался к разговорам и все мрачнел.
– Скоты, а не люди… – бормотал он сквозь зубы, убеждаясь, что происходит нечто, совершенно для него неожиданное.
Ответы Сталина – четвертого мая – на вопросы английского корреспондента относительно Польши с быстротой молнии облетели все углы и закоулки, где только находилось хоть несколько поляков.
Тут и самые подозрительные вздыхали.
– Да ведь и англичане, даже англичане, утверждают, что это немцы…
Малевский ожесточенно грыз ногти.
– Что там англичане… На них никогда нельзя рассчитывать.
– А на кого же рассчитывать в таком случае? – спрашивали перепуганные интеллигентики.
Малевский махнул рукой.
Вдобавок ко всему его очень беспокоило еще одно обстоятельство. Связной, который должен был ожидать его в условленном месте, не явился. Нельзя было понять, провал ли это, или просто начавшаяся дезорганизация. Но во всяком случае Малевский чувствовал, что земля начинает накаляться под его ногами. Высокий блондин, который знал о нем кое-что, явно старался его избегать… Боится, разумеется, – но как узнать, до какой степени он напуган? Еще побежит к большевикам и расскажет все, что знает! Правда, знает он далеко не все, но для начала и этого достаточно, а там уж по ниточке дойдут и до клубка. Проще всего, конечно, было бы смыться; но тогда еще труднее будет восстановить потерянную связь. В сущности совершенно неизвестно, что делать. И посоветоваться не с кем.
Лужняк окончательно опротивел Малевскому, но все же он решил поговорить с ним еще раз. Панна Владя сперва не хотела впускать его.
– Занят. Сказал, чтобы ему не мешали.
– Ого! А ну-ка посторонитесь, барышня, свои штуки можете разыгрывать перед дураками. Я тоже занят, однако вот пришел же.
И, грубо оттолкнув ее локтем, он вошел в кабинет. Лужняк торопливо жег какие-то бумаги, откладывал в сторону другие. Малевский посвистел сквозь зубы и стал молча наблюдать за ним.
– Ну что? – спросил, наконец, тот. – Где твои великие перемены, весь этот международный переворот?
– Что поделаешь, политика… Англичане и американцы нас еще раз предали, не хотят портить отношений с большевиками, когда те идут вперед… Но это еще не конец, время еще покажет…
– Опять дальний прицел?
– Да, так и знай! Увидишь сам, что все это еще боком большевикам вылезет.
Лужняк махнул рукой.
– Э, то же самое ты и тогда ночью говорил. Пока что это нам боком вылезает. Опять же возьми и то в расчет: посольство преспокойно укладывает чемоданы и уезжает, ну, а мы? Что мне, например, делать? Идти работать в колхоз, как призывают эти польские большевики из Москвы?
– Поступай, как считаешь лучше.
– Разумеется, так. Сперва лезь из кожи, рискуй собой из-за вас, а потом поступай, как знаешь! А ты что думаешь делать?
– Я? Исчезнуть на некоторое время.
– Легко сказать – исчезнуть! Куда ты здесь исчезнешь?
– Страна большая, места много.
Лужняк с ненавистью поглядел на него.
– Легче всего, кажется, тебе найти место в тюрьме.
– Зачем же? Что они могут доказать, какие обвинения мне предъявят? Кто я тут был, за что могу отвечать? Мелкий служащий… Ты – дело другое, уполномоченный посольства, как-никак фигура.
– Я уже не уполномоченный.
– Разумеется. Но ведь дел-то ты еще не сдал.
– А вот и сдал. Фиалковскому сдал.
– Это еще что?
– Да, знаешь, так будет лучше. Я тут работал два года, а он человек новый. Ему легче будет сдать дела, если потребуется.
– Вон что вы придумали! Что ж, пожалуй, это правильно. Черт его знает только, кто будет принимать? Большевики или эти польские сволочи из Москвы?
– Понятия не имею, никто мне ничего не говорил. Но это уж дело Фиалковского. А я вот только приведу в порядок свои бумаги – и что они мне могут сделать?
– Лучше вовсе не иметь бумаг, вот как я… Раньше говорилось: ничто так не пятнает репутацию женщины, как чернила. Это, брат, не только к женщинам относится! Особенно при неряшливости нашего посольства. Мой принцип – ни одной строчки, ни одной буквы… Слушай, а может, и ты драпанешь?
– Куда?
– Куда-нибудь. Здесь тебя все знают… На всякий бы случай? А? Черт их знает, что им тут известно. А в каком-нибудь новом месте…
Лужняк колебался.
– Нет, – сказал он, наконец. – Как раз, если я попытаюсь уехать, они могут меня сцапать. Да и с Владей как мне быть?
– Как, с Владей? Этого только не хватало! Бабу за собой таскать… И что ты в ней нашел, не понимаю. Самая обыкновенная дрянь.
– Да брось ты, охота в такой момент бог знает о чем говорить…
– В такой момент… Видишь ли, в любой момент прежде всего не следует терять головы. Это главное. Спокойно, без истерик! Тогда как-нибудь да вывернешься.
– Если бы я хоть знал, что им известно…
– Ишь чего захотел! Если бы ты знал… За тобой следили, это не подлежит сомнению. Но что им известно?.. Поди угадай!
– Так что же мне делать?! – завопил, наконец, Лужняк. Лицо его налилось кровью, руки сжались в кулаки. Малевский вынул изо рта папиросу. В голове его ни с того ни с сего промелькнула мысль: а что, если Лужняк его выдаст? Что, если, почувствовав себя припертым к стене, он пойдет и расскажет все, что знает, чтобы за его, Малевского, счет спасти собственную шкуру?
Он сразу успокоился, мозг его заработал холодно и ясно, мысли были отчетливы. Он внимательно рассматривал собеседника. «Не лучше ли подобру-поздорову убрать его, пока не поздно? Сомнительно, чтобы кто-нибудь заинтересовался его исчезновением. Подумают, что сбежал, – и ищи ветра в поле. Устроить это не трудно, он достаточно глуп, чтобы явиться на свидание, хотя бы в тот лесок за городом. Труп закопать в песок – когда еще его найдут! Пожалуй, это будет умнее всего, Лужняк знает вполне достаточно, чтобы подвести под расстрел».
Лужняк вдруг побледнел и приподнялся на стуле.
– Ты что на меня так смотришь?
– Я? – холодно и спокойно переспросил Малевский. – И не думал!
– Слушай, ты не лги! Что тебе сейчас пришло в голову? Не воображай, что тебе удастся сыграть со мной штуку!
– С ума ты сошел? Какую еще штуку?
– Уж я тебя знаю, – бормотал Лужняк, тяжело опускаясь на стул. – Я знаю, что тебе может в голову прийти…
– Например?
– Лучше не тяни меня за язык. Знаю я ваши штучки.
Малевский вдруг наклонился к нему почти вплотную, лицом к лицу.
– А может, это ты вздумал со мной штуку выкинуть? Смотри, брат!
– Что – я? – отшатнулся Лужняк и слегка выдвинул ящик стола. Малевский заметил это движение и быстро овладел собой.
– Э! – махнул он рукой. – Все это вздор. Время ли сейчас ссориться? Нужно решить, что и как.
– Да я ведь в десятый раз спрашиваю тебя, что мне в конце концов делать…
– Поступай, как знаешь. Не маленький. Подумай только хорошенько.
Но времени раздумывать не было. В тот же вечер Лужняк был арестован.
Разумеется, это не способствовало успокоению и без того перепуганных служащих миссии. Адвокат Фиалковский рвал бы на себе волосы, если бы на его лысом черепе осталось их хоть сколько-нибудь.
– Что я наделал, что я наделал! И зачем я впутался во все это…
– Конечно, лучше всего сидеть за печкой и ни во что не вмешиваться, – язвительно заметила панна Владя. Она была полна горечи. По упакованным вещам и сожженной бумаге видно было, что Лужняк собирался уехать, и уехать без нее. Так что, если бы его и не арестовали, она все равно осталась бы на бобах. Это преисполнило ее горечью и недоверием к мужчинам – соблазнить девушку, а потом бросить ее на произвол судьбы!
– Уж и соблазнить! – ядовито вставил кто-то из мужчин.
Владя приняла выражение оскорбленной королевы и яростно набросилась на павшего духом адвоката Фиалковского.
– Надо же что-нибудь делать, что-нибудь предпринимать!
– Но что, что? – стонал тот. – Хоть бы этот Малевский пришел, он все же ориентируется в положении!
– Ну да, Малевский! Ищите ветра в поле, – злорадно ответила Владя.
– Что такое? Что вы говорите? Разве он не приходил сегодня?
– И не думал.
– Так, может, послать к нему на квартиру?
– Незачем. Его там нет.
– Видно, и его арестовали, – предположила одна из барышень. Госпожа Пшиходская всхлипнула:
– Всех нас, всех переарестуют, всех перебьют!
– А вы бы лучше держали язык за зубами. Из-за такой вот болтовни все несчастье. Ну, кто вас тут убивает?
– А пусть, пусть бы нас всех вырезали!.. По крайней мере мир бы узнал…
– Очень мир интересуется нами! Так как же, панна Владя, с этим Малевским, нет его?
– Я вам говорю: не все так глупы, чтобы ждать, пока их посадят.
– Правда, правда… Но в таком случае мы-то чего здесь ждем?
– А куда нам идти?
Идти было действительно некуда. За два года они привыкли ежедневно приходить сюда, будто в клуб или в кафе. Куда же теперь деваться? К тому же в канцелярию ежеминутно являлись взволнованные посетители с вопросами и претензиями.
– Что теперь с нами будет? Что нам теперь делать? Вот до чего нас довели!
– Прошу оставить меня в покое! – кричал Фиалковский. – Я ничего не знаю, ничего не хочу знать, ничему не могу помочь! Оставьте меня в покое! Через час, самое большее – через два, я сдам эти, прости господи, дела, и точка.
– Кому вы их сдадите?
– Все равно кому! Милиции, пожарной охране, энкаведе, – мне совершенно безразлично… Хорошо этому Лужняку, свалил все на меня…
– Тоже мне хорошо! Вы забываете, что его арестовали.
– Ну и что? Может, я тоже хотел бы спокойно сидеть в тюрьме и ни о чем не заботиться. Может, я тоже хотел бы сложить руки и ни за что не отвечать… Может…
– Глупости вы говорите! – резко прервала Владя.
Он удивленно взглянул на нее.
– Как вы со мной разговариваете, барышня? Что за ужасный персонал, распущенный, недисциплинированный!
– Я вам не персонал. Если не нравлюсь, могу хоть сейчас уйти.
– Идите, куда хотите, только оставьте меня в покое! С ума сойти можно! А вам что угодно? – обратился он ко вновь вошедшей посетительнице.
– Мы хотели узнать, к кому нам теперь обращаться по поводу…
– Ничего не знаю. Панна Владислава, вывесьте объявление, что сегодня приема нет.
– Вы это мне говорите?
– А кому же еще?
– Меня вы только что уволили.
– Я вас уволил? Когда? Господи, хоть бы уж скорей кто-нибудь пришел и все забрал…
– Говорят, будто эти, из Москвы, должны приехать.
– Кто еще?
– Ну, эти – из Союза польских патриотов.
– Вы с ума сошли? Сколько их всего-то? Неужели им все передадут?
– Да что передавать-то? Склад давно пуст.
– Будет пуст, когда все на базар перетаскали.
Начались бесконечные взаимные попреки, вспоминались все обиды. И крепдешиновое платье с хризантемами, которое Лужняк отдал Владе, и туфли крокодиловой кожи, которые исчезли неведомо куда, и ящик ананасов, который как сквозь землю провалился. Никто уже не стеснялся, женщины чуть не дрались, не обращая внимания на то, что в комнатах полно было «непосвященных» – поляков и полек, пришедших из города за разъяснениями. Выбалтывали все, что до сих пор хранили в секрете, не желая выносить сор из избы.
Новый уполномоченный слег в постель и прикладывал к сердцу холодные компрессы, оглашая квартиру жалобными стонами.
– Очень это тебе нужно было, – ворчала жена, заваривая какие-то травы. – Сто раз тебе говорила…
– Говорила! Этот Лужняк просто обманул меня!
– Сам хорош. Адвокат, юрист, а дал себя обмануть простому унтеру.
– Перестань, Зузя, ну что ты знаешь? Положение было такое, что я не мог отказаться, – понимаешь, не мог. Кто мог предположить, что его арестуют? И потом он как-то так это представил, что мне показалось, будто так будет лучше. Да и за что же я тут могу отвечать? Ведь я только что приступил к исполнению обязанностей, ни в чем еще не разобрался, ничего не знаю…
– Ну, между нами говоря, все эти два года вы работали вместе и неплохо зарабатывали. Найдутся приятели, которые донесут, что ты вел дела с Лужняком…
– И это ты мне говоришь? Да если бы не ты…
– Не кричи. На Лужняка надо было кричать, а не на меня!
В сенях раздался стук, и Фиалковская вышла.
– Что там еще? – простонал муж.
– Ничего. За тобой приходили.
– Кто? Что? Как это, за мной?
– Да успокойся ты, ради бога! Сотрудники твои приходили. Спрашивают, почему тебя нет на работе.
– А-а, – облегченно вздохнул он. – И что ты им сказала?
– Сказала, что ты болен и не можешь прийти. Пусть сами решают.
– Хорошо, хорошо… только не поверят, что я болен… А я действительно болен. Зузя, где эти травы?
– Сейчас, сейчас. Поверят или не поверят, какое тебе дело? А я тебя больше не пущу туда. Хватит.
– Ох, Зузя, это ведь все равно… Пойду или не пойду, те, если захотят, найдут меня и здесь. Из кровати вытащат.
– Сам во всем виноват, – сухо прервала его жена. – Если бы ты слушал меня…
– Перестань, – простонал Фиалковский. – Если бы я слушал тебя… Если бы я не слушал тебя, было бы лучше! – неожиданно крикнул он с яростью.
Фиалковская всплеснула руками.
– Вот тебе и на! Так это я виновата? Ну, конечно! А куда же ты смотрел – юрист, адвокат? Ты ведь должен был лучше знать. Но, понятно, самое простое на меня свалить.
Он прикрыл глаза и застонал. Жена испугалась.
– Что, хуже тебе?
Он не ответил. Конечно, когда земля горит под ногами, собственная жена, вместо того чтобы помочь, поддержать, кровь еще из тебя пьет.
– Сейчас, сейчас, я тебе этот порошок…
– Порошки… Черт знает, что это за порошки! В аптеке взяла?
– В аптеке.
– Не хочу. Дай мне те, из Куйбышева. А тут ничего не известно. Может, отрава какая. Вчера принял, так меня полдня тошнило.
– Глупости говоришь. Это не от порошков.
– Не знаю, не знаю отчего. Оставь меня, наконец, в покое, оставьте вы меня все в покое! Чтоб этого Лужняка до смерти не выпустили, чтоб он сгнил в этой тюрьме. Так меня околпачить… Два года пакостил, а мне сейчас отвечать.
– Э, между нами говоря, два года вы все сообща делали, – заметила Фиалковская. – А впрочем, еще неизвестно, что будет, может, все пройдет, обойдется благополучно.
Радуясь, что жена угомонилась, Фиалковский лежал спокойно, глядел в потолок. Нет, незачем обманываться, не сойдет это благополучно. Недаром Лужняк выдумал это заместительство, – видно, есть на его совести и такие вещи, о которых Фиалковский вовсе не знал. А впрочем, не в этом ведь дело. Большевикам все равно, виноват он или не виноват… Теперь примутся за всех.
Паника, начавшаяся в канцелярии уполномоченного, быстро перекинулась в город, где среди поляков сразу возникли группы и группки, по-разному оценивающие положение.
– Я говорила, что этим кончится, вот и доигрались!
– А отвечать за все придется нам.
– За что это мы будем отвечать?
– Хорошо вам говорить… Вы-то взяли советский паспорт – что́ вам теперь?
– А вы почему не брали? Угодно было Лужняка слушаться, теперь и расхлебывайте эту кашу!
– Выходит, что это я во всем виновата?
– Нет, вы другое скажите: как они могли бросить нас на произвол судьбы?
– Вам-то что, произвол судьбы… Бумазейку от большевиков небось получали?
– Ну и что из этого? Почему мне было не брать, раз давали? Посольских шелков дожидаться?
– Ну да, таким-то хорошо, а вот мы…
В местечке кипело, как в муравейнике. Люди сновали по улицам, собирались группками, плакали, проклинали, повторяли друг другу самые невероятные известия. Меньше всего говорили как раз о Катыне. Они были по горло сыты сплетнями, и рассказы о большевистских зверствах уже никого не трогали. Знали одно – кончилось посольство, кончилась и та, пусть ничтожная, пусть иллюзорная, поддержка, которую оказывало это правительство в Лондоне, – безразлично, каким бы оно ни было. Кое-как вошедшая в нормальную колею жизнь, кое-как налаженные дела рушились, и было неизвестно, что теперь делать, за что браться, как устраиваться.
В совхоз, где работали Ядвига и госпожа Роек, новость дошла в другой форме. Там узнали о событиях из советского коммюнике.
– Ну и слава богу! – высказалась госпожа Роек. – Теперь, наконец, все ясно, а то это посольство только голову людям морочило. То одно, то другое, дергают людей, а толку ни на грош. И вы только поглядите, как они в два счета с немцами договорились!
Госпожа Жулавская сидела надутая. Она все еще не работала, ссылаясь на больную ногу, которая будто бы время от времени распухала. Павел Алексеевич смотрел на ее безделье сквозь пальцы, кормить ее в столовой продолжали, и ей оставалось только бродить по совхозу с кислым лицом несправедливо обиженного человека.
– Ну, уж будто бы они с немцами договаривались! – тотчас возразила она.
– А то нет? Вот почитайте! Немцы объявили об этих могилах одиннадцатого, а те, в Лондоне, уже шестнадцатого не нашли ничего лучшего, как кинуться в Красный Крест! А к Советскому Союзу обратились с нотой только двадцать первого, да так, будто все это уже проверено и доказано. И как они, боже ты мой, плачут над этими польскими офицерами! Такие вдруг оказались чувствительные! И комиссию туда сейчас же отправили… Что ж, вы не знаете, что в Польше творится? Кому же, как не фашистам, понадобилось наших офицеров убивать? Два года под этим Смоленском сидят – и ничего не видели. А сейчас, когда им большевики перцу задали, так сразу же эти могилы нашлись. Нет, брат, нас не надуешь!
Вечером явились Шувара и мальчики.
– Дело ясное, – согласился с госпожой Роек Шувара. – Может, и не сам Сикорский, и даже скорее всего не он, но кто-то в этом пресловутом правительстве снюхался с гестапо и согласовал с ними всю кампанию. Слишком уж быстро и организованно все это пошло… Да и цель ясна. На фронте сейчас гитлеровцам не везет, вот они и пытаются действовать другими средствами.
– Нашлись у поляков защитники!
– Вот именно!
– Но как бы то ни было – твердо объявила госпожа Роек, – а мы должны от этого отмежеваться.
– Как это, отмежеваться! – удивилась Ядвига. – При чем же тут мы? Что у нас с этим общего?
– Разумеется, ничего, дитя мое. Но ведь надо, чтобы это было ясно для всех. Правда? – обратилась она к Шуваре.
– Надо послать телеграмму в Москву, в газету «Свободная Польша», – согласился тот.
– От кого?
– От нас всех. Но газета газетой, а где же этот Союз польских патриотов? Что он делает? Довольно уже уполномоченным посольства пакостить, хватит с нас всего этого! Кажется, пора нам самим взяться за работу среди поляков.



