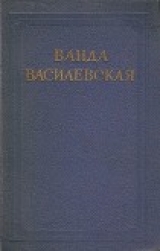
Текст книги "Том 4. Песнь над водами. Часть III. Реки горят"
Автор книги: Ванда Василевская
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 33 страниц)
Нет, не могло быть речи о прощении.
И в то же время какими детскими, смешными, нереальными были мысли о мести! Какая месть могла отплатить за то, что здесь происходило!..
Перестала хрустеть почва. Это уже была обыкновенная, добрая, ласковая земля. Хотелось стать на колени и поцеловать эту землю только за то, что она была обыкновенной землей, на которой могут расти цветы и травы, которая не пропитана кровью и не насыщена пеплом.
Но вместе с тем, уходя отсюда, она болезненно ощущала пустоту, которая осталась после утраты простого, первобытного человеческого чувства – надежды на месть.
Да, этого удовлетворения никто не получит. Ни те, кто потерял здесь своих близких, ни те, для кого каждый, кто погиб в этой стране, является близким.
Можно и должно одолеть врага. Можно и должно наказать поджигателей войны и военных преступников, казнить палачей, чтобы другие боялись совершать такие злодеяния. Можно и должно противостоять смерти и ужасу, превратив Польшу в счастливую страну счастливых людей. Но самая мысль о мести казалась мелкой перед этим полем золы. Перед этими печами, перед этим складом, заваленным миллионами ботинок и башмачков.
Ядвига ехала в дребезжащей машине, чувствуя на лице дуновение свежего, но еще теплого ветра.
В ста километрах отсюда на запад еще дымятся печи уничтожения. Еще бродят за колючей проволокой люди-скелеты, люди-призраки. Туда уже идут войска, несущие жизнь, воскресение из мертвых, свободу! И тот, кто еще полагает, что они несут месть, – ошибается. Солдаты, которых она встретила в бараке, теперь уже знают – нет и не может быть мести. Не может быть воздаяния.
И, глядя на красные звезды, на знакомую, милую сердцу форму, она вдруг подумала: «Именно это и хорошо, что они не армия мести, не могут быть армией мести, что это армия освободителей и несет с собой не месть, а свободу».
Волной ударил в лицо многоголосый, смешанный шум города. И вдруг Ядвига остро, ясно почувствовала – здесь был другой мир. Кошмаром, злым сном казалось то, что она оставила позади себя. Она жадно, как человек, вышедший из душного подземелья, вдохнула в легкие воздух. Как можно было сдаться, как можно было забыть хотя бы на минуту? Была ведь еще земля – непокоренная, борющаяся, сегодня освобожденная – о ней говорили отряды, тянущиеся к городу из лесов, болот, со всех сторон. Тысячи, тысячи людей… Добрые руки, дающие кусок хлеба беглому узнику. Простые женщины, с риском для собственной жизни, в страхе длинных ночей и дней прячущие советского бойца и разыскиваемого гестапо еврея… Это же здесь, недалеко, была та Замойщина, где героически боролся крестьянин, недалеко отсюда были парчевские леса, колыбель партизанских отрядов. Вопреки дымам Майданека, вставала из огня и пожарищ разрывающая кандалы, бесстрашная, непокоренная Польша. Она была именно такой, как думалось о ней там, в Москве, когда лишь обрывки сведений проникали через линию фронта.
С глухим грохотом шли по улицам орудия. Ядвига проводила их взглядом. Четко отбивали шаг тысячи ног. Толпы стояли на тротуарах, глядя на марширующих. Какая-то девушка вдруг бросила под ноги офицера, идущего во главе одной из колонн, несколько последних георгин. Он улыбнулся и поднял этот пестрый, веселый, неожиданно-яркий букет. И так и пошел во главе колонны – с георгинами в руках.
«Марцысь уже, наверно, ждет меня», – вдруг вспомнила Ядвига. Неужели она виделась с Марцысем сегодня утром? Ей казалось, что с тех пор прошло бог знает сколько времени. Между утром и этим часом пролег Майданек.
Она прочла на углу название улицы. Да, это здесь. Но Марцыся еще не было в условленном месте. Она прогулялась по тротуару. Ноги ее болели, во всем теле чувствовалась усталость, как после тяжкой работы. И даже не очень хотелось видеть кого-нибудь, – забиться бы в уголок и привести кое-как в порядок взбудораженные мысли. Но где в этом сумасшедшем городе найдешь такой уголок? И потом – глупо думать, что достаточно нескольких часов спокойного размышления. Нет, нет! Этот хруст, этот скрежет угольков под ногами надо носить в себе всю жизнь. Тут нечего «приводить в ясность», не на чем «успокоиться» – она видела то, чего никогда не должны видеть человеческие глаза. И тут уж ничего не поделаешь. Это навсегда останется с нею.
Назначенное Марцысем время давно миновало, а его все не было – зря она боялась опоздать. Поднявшийся ветер обдавал осенним холодом. Глупо было уславливаться о встрече на улице. Ладно, она пройдет еще раз до угла и обратно. За это время он, конечно, явится.
Но она прошла это расстояние не меньше десяти раз, а мальчика все не было.
Не может быть, чтобы он забыл. Что-то его задержало. Но ведь мог же он дать ей как-нибудь знать, чтоб она не топталась, как дура, на тротуаре!
Она ходила здесь уже целый час, дольше ожидать было бы глупо. Она еще раз осмотрелась и пошла, пытаясь припомнить дорогу к дому, где жил Стефек, и вдруг увидела у тротуара открытую машину, в которую садился Марцысь.
– Марцысь!
Она вскрикнула так громко, что прохожие оглянулись.
– Ну, знаешь, нельзя сказать, чтоб ты был очень аккуратен… Целый час шатаюсь по улице…
Она оборвала, охваченная внезапным страхом, взглянув на его лицо.
– Что случилось?
– Владек погиб.
– Как? Что ты болтаешь? Ведь еще утром…
– Убит полтора часа тому назад, Я сейчас туда еду. Раньше никак не мог достать машину.
– Я еду с тобой, – сказала она, еще не отдавая себе отчета в услышанном.
Машина рванулась, Ядвигу отбросило на сидение.
– Кто его убил? Ведь он был здесь, в Люблине?
– Вот именно, здесь, в Люблине. Было нападение на вербовочный пункт. Убили капитана, его и еще кого-то. Бросили гранаты в комнату.
– Кто же мог? – ошеломленно спросила она.
– Не знаете кто? Свои, свои…
Ядвига умолкла. Какой страшный, какой невыносимо страшный день… Она живо вспомнила госпожу Роек, как та провожала ее из Москвы: «Только уж, пожалуйста, дитя мое, – говорила она, – сделай это для меня, повидайся с моими мальчиками, посмотри, как там и что… Марцысь пишет, что все в порядке, но ты же знаешь, какие они… Так уж я тебя прошу, не забудь – узнай, где они. А то ты как начнешь бегать по всем своим делам… А так, пока они в этом Люблине, я бы уж была спокойна».
И вот, в Люблине…
Марцысь сидел, наклонясь всем телом вперед, глядя прямо перед собой, будто хотел ускорить ход машины. Молодой шофер гнал, как на пожар. Но они то и дело попадали на улицы, забитые проходящими частями.
– Выезжай за город, объедем стороной… – сквозь зубы бросил Марцысь.
Машина запрыгала по немощеной, ухабистой улице.
– Далеко еще? – спросила Ядвига, чтобы нарушить становящееся невыносимым молчание.
– Сейчас приедем.
Это было не то предместье, не то какой-то пригородный поселок. Милиционер с повязкой на рукаве поднял руку, останавливая машину.
– Куда?
– Поезжай, поезжай! – нетерпеливо крикнул Марцысь шоферу, сунув милиционеру пропуск. Тот махнул рукой.
Перед домиком стоял небольшой отряд милиции. В сумерках виднелись группы сбежавшихся соседей. Марцысь одним прыжком перескочил ступеньки оплетенной диким виноградом веранды. Ядвига бежала вслед за ним. В сенях кто-то снова преградил им дорогу, но отлетел к стене от толчка Марцыся.
– Какого дьявола?.. – начал было незнакомый.
– Это брат, брат того мальчика… Роека, – бросила ему на ходу Ядвига, и он молча посторонился.
На столе горела керосиновая лампа. В первый момент Ядвиге показалось, что здесь тоже полно народу. Но это плясали по стенам летучие тени, удваивая и утраивая каждого присутствующего…
Она беспомощно озиралась, не в силах ничего разглядеть. Какой-то военный высоко поднял взятую со стола керосиновую лампу.
Убитые лежали на разостланной соломе, и первый с краю был Владек. Она вздрогнула. Ран не было видно, мальчик лежал спокойно, только рот был приоткрыт, точно в крике. От колеблющегося света лампы тень длинных ресниц дрогнула на щеках.
Ядвига оцепенела от ужаса, ее глаза блуждали по этим трем лицам. Голова капитана слегка повернулась в сторону, видны были черные потеки крови на его щеке. Фуражка, очевидно, была надета на него позже – из-под нее выбился ком слипшихся волос. Третий был советский солдат. Его широко раскрытые глаза глядели прямо в потолок, на лице застыла гримаса боли. Все трое были до подбородка прикрыты серым одеялом.
– Совсем уже собирались уходить, – вполголоса рассказывал молодой солдат. Руки его дрожали. – Капитан бумаги собирал, и как раз этот советский пришел, знакомый капитана. Только я вышел к хозяйке, стаканы отнести, а тут – как грохнет!.. Все стекла вылетели. Бомбежка, думаю, что ли? А это они в окно гранаты бросили. Я – сюда! Дыму полно… Да так и споткнулся о капитана, его к самым дверям отбросило… Всех трех на месте убило. Я скорей на улицу, кричу, народ сбежался, а что толку…
– Часовых не было? – сквозь зубы спросил Марцысь.
– Как не было? Были. Всегда стоят в служебное время… А только служебное-то время уже кончилось, капитан задержался бумаги собрать, – объяснял солдат.
Зубы его стучали мелкой, отчетливой дробью.
– Ну, а те, что бросили?
– А кто их знает? Я когда выскочил, их и след простыл… И никто не видел. Наверно, в сад побежали, а оттуда в поле или в соседний переулок. За ними уже пошли, человек двадцать пять послано, только найдут ли?
В углу тихонько всхлипывала женщина в платочке.
– А это кто? – спросил Марцысь.
– Это? Это хозяйка. Я к ней и понес стаканы…
– Господи Исусе, – всхлипывала та. – Такое несчастье… Как грохнуло, пан Стась сейчас сюда, а потом на улицу – и в крик! А я за ним, сюда, гляжу – мертвые, все трое мертвые… Боже милостивый, и этот молоденький, дитя совсем… И как у людей стыда-совести нет, и что за времена настали…
Прислонившись к стене, слегка покачиваясь, она с певучими крестьянскими причитаниями рассказывала:
– И ведь говорила мне соседка, говорила… Увидите, говорит, госпожа Слёнзак, что с этим вербовочным пунктом вы только беду наживете… А я ей и говорю: да что ж, говорю, милая вы моя, под немцем мы теперь, что ли? Ведь в свое войско набирают, народу приходит уйма, какая может быть беда? И сегодня тоже с самого утра валом валили… А вот и пришла беда! Уж такая беда, такая беда…
Присев возле Владека, Ядвига осторожно коснулась его щеки. Щека была холодна, но еще не ледяным трупным холодом.
– Врач был? – спросила она шепотом. Ей показалось, что, быть может, Владек еще не умер. Может быть, он оглушен, без сознания, но жив?
– Да что врач? – проворчал высокий военный с лампой. – Был, конечно… Не открывайте, – предостерег он, видя, что Ядвига коснулась серого одеяла.
– Да я вовсе и не… – начала было она, но сразу спросила: – А почему?
И сама испугалась, тут же догадавшись, что ей ответят.
– В клочья… – неохотно пробормотал военный и снова поставил лампу на стол. Тень упала на мертвые тела. Марцысь присел на табуретку у стола и вдруг ни с того ни с сего стал насвистывать сквозь зубы. Старушка даже всхлипывать перестала, вытаращив на него удивленные глаза.
– Успокойся, Марцысь, – тихо сказала Ядвига, касаясь его плеча.
– Я? Я совершенно спокоен, совершенно спокоен. – И, наклонясь к ней, ровным, обыденным голосом, как о чем-то повседневном, спросил: – Вы вот скажите, как мне уведомить об этом мать?
Да, ведь надо было уведомить мать… Ничего не поделаешь, она должна узнать, что лишилась сына. Что его не убили в трудных боях, не разорвали бомбы с неприятельских самолетов, что он пал здесь, в освобожденном городе Люблине, от руки людей, которые считают себя поляками. Вот что придется ей узнать.
– На похороны ей все равно не успеть, – тихо ответила Ядвига. – Так что торопиться незачем. Ведь я послезавтра еду… Сама уж как-нибудь скажу.
Марцысь мгновение молчал, поникнув головой, потом пробормотал:
– Если вы – это, разумеется, будет лучше всего… А то мама…
В дверях вполголоса разговаривали:
– Уж я тебе говорю, что это те же самые. Совсем как там, бух в окно – и след простыл! Ясно, что местные. Бросил – и пошел домой как ни в чем не бывало, как ты его найдешь?.. Если б это банда была, проще было бы поймать, а так…
– Что ж, ты думаешь, здесь один такой? Может, это те же, а может, и другие.
– Вчера мужика застрелили, Янек рассказывал. Хлеб вез в Люблин, для армии.
– Перестали бы вы, – поморщился высокий военный, движением головы указывая на Марцыся и Ядвигу. Они умолкли. Слышалось лишь всхлипывание хозяйки.
– И что это за люди такие, и как их святая земля носит… Мало мы при немцах натерпелись, теперь еще свои…
– Какие они свои… – пробормотал военный, возясь с фитилем коптящей лампы.
– Все-таки вроде свои, поляки…
– Хуже гитлеровцев такие поляки! – сказал все еще с дрожью в голосе молодой солдат.
– Сохрани нас, боже, и от тех и от других! – боязливо воскликнула хозяйка.
В сенях послышался шум.
– Что еще там? – обернулся военный.
– Пустите меня, пустите меня к нему! – кричал женский голос.
– Капитанша… – прошептал кто-то в сенях. Перед ней расступились. Молодая женщина, с непокрытой головой, в одном платье, опрометью вбежала в комнату. Трехлетний мальчик едва поспевал за ней, обеими руками цепляясь за ее платье.
– Где он? Где он? – кричала женщина.
Ядвига отодвинулась, давая ей дорогу, но та в первый момент не заметила убитых.
– Где он? – крикнула она еще раз. Высокий военный сделал движение, чтобы снова приподнять лампу, но раздумал и только передвинул ее на край стола. Женщина пошатнулась и рухнула на колени.
Ядвига прикрыла глаза. Ей снится дурной, страшный сон. Стоит проснуться – и все окажется неправдой. Но это не сон. Всем обмершим сердцем чувствовала она, что не сон. Лежат трое убитых. Офицер польского войска, солдат Советской Армии и Владек, мальчик в польском мундире. Все трое пришли издалека. Все трое прошли длинный, трудный путь, чтобы освободить эту землю. Там, вдали, этих поляков грызла неутолимая тоска по родине. И они шли, ведомые своей тоской, шли, веря в свое отечество. И шел третий – вот этот советский солдат. Кто знает, что он пережил, кто знает, где проливал уже свою кровь, героем каких боев был он в эти тяжелые годы. И вот они лежат рядком, на золотой соломе, товарищи по оружию, принесшие сюда свободу.
Да, об этом забывалось на пути в Польшу, хотя всем было известно, что их ожидает еще и эта борьба и что она может оказаться более жестокой, более трудной, чем борьба с врагами в немецком мундире. Издали казалось, что здесь их ждут лишь распростертые объятия, открытые сердца и радость освобождения, радость встречи. О другом не хотелось думать. И вот – три мертвых тела рядом, на соломе.
– Казик, Казик, Казик! – пронзительным, прерывающимся голосом кричала женщина, припав головой к груди мужа.
Малыш с пухлыми загорелыми ножонками стоял рядом и нетерпеливо дергал ее за платье, упрямо повторяя:
– Мама, я хочу домой, домой хочу…
Ядвига еще раз взглянула на троих лежащих на соломе. Лицо Владека не изменилось. Теперь, мертвый, он казался еще моложе, чем был, – почти ребенком.
Женщина в углу причитала вполголоса, вытирая глаза краем платка. Люди стояли молча.
И вдруг, как бы преодолевая оцепенение ужаса, Ядвига почувствовала, как ее охватывает гнев. Она почувствовала в себе вихрь ненависти, доходящей до острой физической боли. Пальцы сжались. Ядвига поняла, что могла бы без всяких колебаний убить виновников смерти этих троих.
И только теперь она по-настоящему простила Петру. Нет, не тогда в совхозе, когда она рассудком поняла, что он был прав, а именно теперь, в этом страшном доме, где лежали тела трех убитых, она простила Петру. Сердцем Петра она почувствовала его ненависть к этим людям, которым она – от этого не уйдешь – давала когда-то приют. Теперь она до глубины души поняла каменное, мертвое лицо Петра в тот вечер, когда за ней пришли.
Глава XVIIIПесок скрипит, мягко осыпается под сапогами. Генерал медленно идет вдоль берега. Вот она, наконец, Висла…
– Товарищ генерал, нельзя! Ведь с того берега видно как на ладони…
Генерал останавливается и как-то не по-обычному, искоса, немного смущенно, смотрит на адъютанта.
– Вот что, дорогой мой мальчик, не морочь ты мне голову! Еще не родился тот, кто бы в меня здесь попал. Я не видел Вислу тридцать лет, понимаешь? Да что ты, впрочем, можешь понять! Тебя тогда и на свете не было… Так что ты уж за меня не беспокойся, хо-хо! И не такое бывало, а живы остались…
Песок мягко подается под ногами. Река течет тихо, спокойно. В воде отражается серое небо. Генерал спускается вниз – туда, где вода, омывая песок, оставляет на нем узкую темную полосу. Нагибается. Осторожно, ласково погружает пальцы в воду, зачерпывает в ладонь. Вода теплая, струится по пальцам. Что ж, вода как вода… Когда же это было?.. Он сбрасывал рваные штанишки, рубашонку – и бух в эту воду! Руки раздвигали теплую вислинскую волну, ноги колотили по вислинской воде…
Глаза генерала не могут оторваться от мелких волн, от светлой вислинской воды. Тридцать лет прошло… Здравствуй, река детства, здравствуйте, песчаные островки, вынырнувшие из воды, мелкие броды, неожиданные глубины, мокрый песок, отбрасываемый босыми ногами сорванца с Воли… Не осталось ли где на прибрежном песке следов от тела того мальчонки? Сколько уж лет прошло? Тридцать? Вербы над водой, ветка, погруженная в воду и трепещущая на волне, тайные тропинки в кудрявой чаще ив… Все было здесь: условный свист, полянка под тенью ветвей, скрытая от посторонних глаз, известная и доступная лишь десятилетним. Здравствуй, река детства!.. Вот я опять здесь, через целых тридцать лет, опять с тобой, река, которой никому не забыть!
– Товарищ генерал! – Адъютант чуть не плачет.
– Ложись сию минуту, ложись в эту канаву!
– А вы?
– Я уже сказал, что не здесь мне суждено умереть.
Адъютант вздыхает.
Что он понимает, мальчишка… Волга, Эбро, Гвадалквивир и Ока – все это, чтобы снова быть здесь, чтобы снова увидеть Вислу. Другие не видели ее пять лет – это, конечно, тоже немало. Но тридцать?..
Серебряный генеральский околыш на шапке. Колодки орденов в три ряда. Но ты знаешь, ты меня сразу узнала, родная моя река, ты зажурчала мягкой волной, приветствуя сорванца с Воли. Ты знаешь, что все мои пути-дороги вели к тебе, чтобы ты могла стать свободной рекой свободного народа. Это ли не счастье?
– Товарищ генерал!
– Ну, ладно уж, ладно, пошли!
Там, на другом берегу, днем и ночью пылает Варшава.
Смолкли повстанческие выстрелы. Погнали в плен повстанческих солдат. Длинными колоннами, под конвоем, отправились варшавяне – женщины, дети и старики – в концентрационный лагерь.
Вторично преданная, вторично проданная, вторично все теми же людьми отданная на произвол врага – ночью и днем пылает на том берегу Варшава.
Опускается ночь. Тихо поблескивает в темноте вода. На той стороне красное пламя лижет во тьме остатки стен…
Генерал слышит где-то в недалеком окопе тихий солдатский разговор:
– Да, вот и в тридцать девятом… Вернулись мы из-под Рембертова. Потому прошли слухи, что так, мол, и так – Варшава будет защищаться. Что тогда здесь, на Праге, делалось, я тебе скажу!.. Одни из Варшавы, другие в Варшаву… Разбита она была сильно, да и Прага тоже, а человек еще тогда непривыкший был, так казалось, что уж от города ничего и не осталось… Значит так – одни в город, другие из города. А на мосту не пропускают. Какого черта, думаем, – то призывали воротиться, то опять не пропускают! А потом уже все перемешалось, и часовые с моста куда-то подевались. Ну, народ и хлынул на мост… Так и идем мы по этому мосту Понятовского. А тут как налетят, аж небо почернело! Хоть в воду прыгай. Мне-то вроде и все равно было, но так меня в толпе стиснули, что я и оглянуться не успел, как очутился пониже. Взломали дверцу в мостовом быке, набилось туда людей, как сельдей в бочку, и – хочешь не хочешь – сиди!.. А те лупят, валят бомбы в воду. Видеть ничего не видно, а только слышно, как бомбы падают… Мост просто стонет, как живой, и осколки по нему барабанят. Вот и начали бабы, их там порядочно было, литанию к божьей матери. А от этого еще хуже, будто уж все пропало и только смерти ждешь… А он бьет, он бьет! Оконце у нас маленькое, но видно: вода всплескивает. Такая высота, а воду до самого оконца бросает… И такое от этой литании и всего этого с нами сделалось, что думалось – вот помешаются люди в этой тесноте и грохоте. Был там один старый еврей, борода седая, стоит он, и только борода у него трясется. Вдруг подскакивает к нему один, черт его знает, кто он был такой… Схватил старика за грудки и сумасшедшим этаким голосом: «Молись, говорит, молись своему богу, раз наш бог нас не слушает!..» Страшно всем стало, бабы сейчас литанию прервали, затихли, только слышно, как бомбы в реку падают… Тут этот старик запел. Не то запел, не то заговорил, а только от этого напева у нас прямо душа в пятки… Один там был такой, что ихние обряды знает, так он говорил, что это молитва в смертный час… Тьфу, думаю, еще пять минут тут посидеть – и впрямь спятишь! И стал я к выходу протискиваться да кое-как и пролез. И как вышел на воздух, так мне прямо за счастье показалось на воле помереть, а не в этом быке, как крысе, сгинуть. Так и перешел этот мост. Вода кипела от бомб, мост весь мокрый, такие фонтаны били… Ну, все-таки добрался… И не то чтоб я в то время думал о смерти, а просто и в голову не приходило, что я могу спастись… Тогда сдавалось, что никого уж в живых не останется, все пропадут, а вот хватило народу, чтобы и тогда гибнуть, и потом гибнуть, да еще теперь с этим восстанием… Сколько народу на гибель послали, сукины дети! Тогда-то казалось: они все до одного в Румынию сбежали – в те дни и духом их не пахло. А как понадобилось еще раз Варшаву под бомбы подставить, они тут как тут, нашлись, как же!
– А мы из Млавы бежали… Посадил я бабу с детишками на подводу – и айда! Лошади усталые, чуть тянут, а за нами Млава горит. Никто и оглянуться не успел, как туда немцы наскочили. Баба моя кинула в корзины, что ей там под руку попалось, – как раз не то, что надо, – и в Варшаву. Смотрим, справа горит и слева, по ночам такое зарево! Шарик мой за подводой бежал, вдруг сел да как завоет!.. А тут уж народ валом валит от Варшавы. Спрашиваю: «Что это горит, люди добрые?» – «Всё, говорят, горит, куда ты, глупый мужик, прешь? Домой, говорят, лучше езжай…» – «Что вы говорите? – это я им. – Какой дом, у нас уж немцы!» – «А где, говорят, их нет, всюду немцы!» Баба в крик, ребятишки ревут… Ну, думаю, будь что будет – погнал лошадей дальше. День и ночь ехали, и все время из Варшавы люди, в Варшаву подводы, а горит везде… Ночи светлые, на траве роса, и по всей дороге из-под каждого телеграфного столба мужик из травы поднимается, смотрит… Крестьяне, значит, такую охрану поставили, чтобы шпионы проволоку не резали. А разве устережешь? Этих шпионов как муравьев всюду. При мне бабу задержали, перепрыгивает через ров, а из-под юбки портки видать – шпион, значит… По ночам ракетами сигналы дают. А тут какие-то на велосипедах едут, кричат: «Наши в Восточной Пруссии! Наши идут на Берлин! Наши разбомбили Берлин!..» Пойдешь на Берлин, как же, когда всюду такая каша, что ничего не разобрать! Спрашиваем солдат, те только плечами пожимают, ничего не знают, сами бродят как потерянные. Вот так мы и дотащились до этой Варшавы. Одна лошадь уже на варшавской улице пала, а на другой добрался я до какого-то двора и говорю бабе: «Посиди тут с ребятами». Народ в Варшаве – хоть и под бомбами, а ничего, хороший народ. Кто-то лошади сенца кинул, а я и пошел разузнать, что и как… Узнать ничего не узнал, воротился, гляжу: где же дом, где я жену с детишками оставил? Нет дома, только груда кирпичей и дым идет… Кровать железная на стене висит, на третьем этаже, а больше ничего. Грохнуло как раз в этот двор. Так там все мои и остались, и баба и детишки. И без похорон… Бродил я, бродил по этим развалинам, да куда там! Ни лоскутка…
– Так ты из-под Млавы?
– Как же, из-под Млавы. Уехал тогда от немцев и вот до сих пор…
– А я из самой Млавы. Извозом занимался. Как загорелось, прибежали ко мне, – надо, мол, ехать! Как бы не так, думаю, тут впору свою шкуру спасать, а не то чтобы еще кого возить! Но пришли-то от самого старосты, а что я тогда – глуп еще был. Как же, сам староста просит!.. Подстелил это сена, как следует, плахтой накрыл, староста с женой и детьми сели на подводу. Дети у них уже не маленькие, двое. «Довезешь, говорит, озолочу!» На Влодаву велел ехать – во Влодаве будто и правительство и учреждения. Там, мол, он мне и за дорогу заплатит и о моей судьбе позаботится. Ну, думаю, может и так. Едем, значит, а конь у меня – лев, а не конь!.. И сто раз по дороге просились там разные, чтобы их прихватить. Женщины с детьми просились. Я бы и взял, жалко – идет этакая по дороге, ребенок на руках, другой за юбку цепляется… А староста – ни-ни, не позволяет. Сами-то они, староста со старостихой, переоделись в простую одежду, будто бы простые люди едут. Крепко он чего-то боялся, староста. Ну вот. Так мы и доехали благополучно. Гляжу, никакого там правительства нет, учреждений никаких нет. Я и говорю старосте: «Платите, говорю, что следует, дальше я не поеду». А он мне: «Денег у меня с собой нет, когда мне заплатят, я и тебе отдам, вот тебе и весь сказ!» А в этой Влодаве какой-то офицер у меня лошадь и подводу забрал, только я их и видел… Плюнул я тогда на все, да и пошел через Буг к большевикам.
Зашуршала бумага, разговаривающие примолкли, скручивая цыгарки. Но теперь тихие голоса раздались с другой стороны. В виду пылающего города все разговоры невольно вращались вокруг сентября тридцать девятого года, когда впервые горела под бомбами Варшава.
– Остались мы вроде защищать город. Строим баррикады, бутылки с бензином, с керосином готовим – другого оружия не было. И жрать нечего. Убитые лошади на улицах валялись, так мы с них мясо сдирали. Вонять – воняло, да с голоду и дохлятину съешь. А уж потом рассказывали, что на Новом Свете бомба грохнула в кино, так оказалось, что там рису было навалено от пола до потолка. Так прямо, без мешков, как песок, лежал. Немцы потом целый день на подводы грузили. А для своих – ни жратвы, ни воды, ничего не было…
– Да что рис! Мы вот голыми руками Варшаву защищали, а когда немцы пришли – день и ночь из цитадели винтовки вывозили. Новенькие! Тысячи их там были… Только не для нас.
– А теперь что с Варшавой будет? Камня на камне не останется. А народу сколько погибло!
– И наши ребята там лежат, на Черняковской набережной…
– Как же, ведь всякому охота была помочь – мало ли у нас варшавян? Да хоть и не варшавянин…
– Помнишь, как, бывало, на Оке о Варшаве рассказывали? А теперь – вот она!
– Да, жаль только, что нет уже ее.
– Как это так – нет?
– Не видишь, что ли? Разгромили всю, горит. Долго она так может гореть?
– Эх, глупый, а Сталинград видел? И то отстраивают, и скоро, говорят, отстроят.
– Им легче. А вот мы-то как?
– Не бойся, и нам помогут!
– Им самим сколько отстраивать надо. Кабы и хотели помочь – трудно.
– Ну, брат, если уж у них в сорок третьем году и обмундирование для нас нашлось, и оружие нашлось, и хлеб – так и на помощь Варшаве кое-что найдется.
– Только сперва ее взять надо…
– Возьмем. Если бы не эти лондонские сволочи, можно бы и раньше взять. А то начали восстание, немцы подтянули свежие силы. А мы ведь три месяца до этого наступали. Да и как ее отсюда брать? В обход придется, уж я тебе говорю…
…Тьма сгущалась. Генерал прошел между окопами, никем не замеченный. Было тихо. В грозном молчании пылал на левом берегу город. А здесь, в окопах, в подвалах разрушенных домов, в воронках от бомб, на всем изрытом, усеянном обломками, словно мертвом правом берегу, в ночной тишине не спали солдаты. Им не давала спать, отгоняла сон от их глаз Варшава на том берегу… Казалось, до нее рукой подать! Но все знали, что не так близко. Это знание было оплачено смертью смельчаков, которые попытались – и погибли. Восемь дней, зацепившись за тот берег, отрезанные от своих границей Вислы, которая вдруг стала огнедышащей, смертоносной, держался Девятый полк. Он сражался и погибал в рушащихся домах. Клочья, одни клочья остались от этого полка, вступившего первым на варшавский берег. Теперь все знали, что надо выждать, подготовить удар. И все же она мучила, не давала спать. Слишком уж была она близка. Только полоса реки. А еще так недавно от нее отделяли сотни и тысячи километров.
Бодрствуя в эту ночь, все на правом берегу говорили о Варшаве. И те, которые сражались за нее в тридцать девятом. И те, которые дрались в далеком Мадриде. Те, которые покинули ее тридцать лет назад. И те, которые никогда не видели столицу своей страны, и сейчас она впервые предстала пред ними в грозном величии, с огненным венцом на челе.
Опершись о полуразрушенную стену какой-то постройки, молодой парень смотрит на тот берег. Он монотонно напевает, бессмысленно повторяя себе под нос одни и те же слова:
А в Варшаве, в первом доме,
А в Варшаве, в первом доме,
Шьют как раз теперь мне форму,
Шьют как раз теперь мне форму…
Генерал прислушивается, ему хочется узнать, что же дальше. Но дальше ничего нет. Бесконечно повторяются все те же слова: «А в Варшаве, в первом доме…»
К этим словам прислушивается из своего окопа и Стефек. Он тоже не может спать. Варшава! Как мало он знал о ней тогда, до войны. Чем была она для него? И вот стала самым важным, наполнила собой всю его жизнь. То были уже не Маршалковская и Новый Свет, Уяздовские Аллеи, здания и улицы, на которые когда-то глядел несколько ошеломленный провинциал. И было уже совершенно ясно, что впоследствии надо будет жить здесь.
«Если бы Соня была жива, я забрал бы и ее сюда, – думал он под однообразный напев незнакомого солдата. – Со мной она поехала бы. Строили бы мы потом эту Варшаву, которую сейчас предстоит освободить, выкупить из рабства нашей кровью…»
Вспоминается дорога от Люблина до Пражского берега. Справа и слева, куда ни глянь, – могилы. Осененные красной звездой могилы советских солдат, которые погибли, освобождая польскую землю.
Но что это за мысли! Не об этом надо думать, не об этом… Надо думать о Варшаве на том берегу.
Не о черном скелете города, охваченного мрачным трепетом пламени, а о новом городе, белом и радостном, который они отстроят, – о новом городе новой страны.
А в Варшаве, в первом доме,
Шьют как раз теперь мне форму…
«Не в Варшаве сшили форму, в которой мы воюем, – думал Стефек, – в другом городе, в городе Москве. Сшили для того, чтобы я мог прийти сюда, чтобы польский солдат с белым орлом на шапке мог здесь сражаться…»
Где-то сейчас капитан Скворцов? Хорошо бы встретиться с ним и сказать: «Теперь я уже настоящий солдат. Я был в боях, смерть смотрела мне в глаза. Я уже далеко ушел от того аэродрома, от зеленого аэродрома, пахнущего черемухой, откуда ты вылетал навстречу смерти, а я лишь ждал и завидовал тебе – так завидовал, любя, и так за тебя боялся…»







