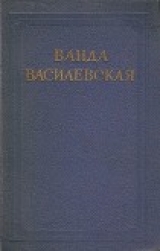
Текст книги "Том 4. Песнь над водами. Часть III. Реки горят"
Автор книги: Ванда Василевская
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц)
– Значит, отпустили? – неуверенно пробовал узнавать поп.
– Они отпустят! – хмуро буркнул гость. – Ушел я и все… Не до меня им было…
– Конечно, конечно, – поддакнул со вздохом поп и молча исподлобья рассматривал Хмелянчука.
Попадья сидела в углу, сложив руки на животе, и время от времени вздыхала.
– Молебны служите? – спросил Хмелянчук, думая, как расшевелить молчащего хозяина.
– Служу…
– Много людей в церковь ходит?
Попадья вздохнула громче. Поп комкал бороду.
– Зима была такая, что не пройдешь. А теперь снова… распустило…
– Ну да, залило все, – согласился Хмелянчук, и разговор снова оборвался.
– И как это немцы ни одного постового у нас в деревне не оставили? – пытался начать с другого конца Хмелянчук.
– Да, да, не оставили, – как эхо отозвался поп.
Разговор не клеился. Поп барабанил пальцами по столу, гость явно тяготил его.
– А к вам, батюшка, заходит кто-нибудь?
Поп испугался:
– Как это, заходит? Кому ко мне заходить?
– Обыкновенно, как к отцу духовному.
Поп облегченно вздохнул.
– A-а, прихожане! Прихожане заходят, заходят, отчего же. Уж это как полагается, к пастырю…
– А немцы не беспокоят вас, батюшка? – рискнул спросить Хмелянчук.
Поп даже руками всплеснул.
– Немцы? Что вы? Зачем им меня беспокоить?
Взгляд попа явно избегал взгляда гостя. Хмелянчук понял, что ничего ему тут не узнать, что им тяготятся, и решил отложить разговор.
Несколько дней он просидел дома, делая кое-что по хозяйству и раздумывая, куда бы обратиться, с чего начать, с кем здесь можно разговаривать свободно. А червь беспокойства все точил и точил, сгоняя сон с глаз, – назойливый, неотступный, сверлящий. Что ж это было, что здесь собственно происходило? Ехать во Влуки или Синицы? Но как ехать, не зная, что там делается?
Таким-то образом и получилось, что первый разговор вышел у него не с кем иным, как с Мультынючихой. С того дня, как паручихины ребята высмотрели его на задах, бабы сгорали от любопытства. Наконец, Мультынючиха отправилась в разведку и на тропинке за хмелянчуковым сараем, будто невзначай, наткнулась на него самого.
– Федор… Господи Исусе, так вас отпустили?
– Что же вы и не поздороваетесь? – увернулся он от ответа.
– Слава Исусу Христу! Подумать только, что вот вы и дома… И кто бы мог ожидать…
– Во веки веков, аминь. А вы что, смерти моей, что ли, ожидали?
– И что вы, кум! Так только говорится.
Хмелянчук решил воспользоваться случаем.
– А у вас что нового?
– Э, какие у нас новости… Старые беды, да и все тут.
– Беды, говорите?
– Да как же? Весна, хлеба нет, хоть зубы на полку клади… А сеять чем будем, один бог знает, Хлеб позабирали, все до зернышка позабирали.
– Сейчас-то их что-то не видать.
– А чего им сейчас ходить? Забрали все, что было, коров, свиней, зерно, чего ж им еще? Никаких у них сейчас дел здесь нет. Так уж, видно, и подохнем тут все!
– А то помещичье, что вам большевики насовали?
Женщина всплеснула руками.
– Господь с вами, какое помещичье? Немец усадьбу забрал, только не приехал еще. Дочиста все ему отдали…
– Да, недолго вам пришлось на большевистские подарки радоваться, – заметил он язвительно.
– Побойтесь бога, да что я получила? Ведь самую чуточку земли-то мне дали! Про других не скажу, а уж я-то с этой земли не разбогатела. И говорить-то не о чем! А все равно отобрали, да еще объявляют: если кто тронет – повесят. Да кто ее станет трогать!
– Так он, наверно, скоро теперь приедет, новый помещик? Весна-то ведь на носу…
– Кто его знает…
Она пугливо оглянулась, хотя поблизости никого не было.
– Может, и не приедет… Говорили, осенью приедет, – не приехал, а уж сейчас-то и вовсе…
– С чего же это?
Она еще раз оглянулась.
– Говорят… не знаю, правда, нет ли… Будто из-за этого, из-за Иванчука, страшновато ехать-то.
– Из-за какого еще Иванчука?
– Ну вот! Что это вы, Иванчука не знаете, Петра-то?
– А его еще не повесили?
– Типун вам на язык, кум! Вот, говорят, будто из-за этого Иванчука помещик и не едет.
– Как это?
– Так вы еще не слышали?
– А что я должен был слышать?
– Потому Иванчук, говорят… с партизанами… в синицких лесах…
– Что ты говоришь! – Неприятный холодок пробежал по спине Хмелянчука.
– Я-то, конечно, не знаю… А только и во Влуках объявляли и в Синицах… что, мол, партизаны… А говорят, что не кто-нибудь, а Иванчук у них за старшего.
– Брехня!
– Может, и брехня. А только, раз уж немцы с барабаном объявляли, должно быть правда.
Хмелянчук вернулся домой в раздумье. Да и было над чем призадуматься. Он так надеялся, что после всех своих приключений, скитаний очутится, наконец, на твердой, надежной почве. А твердой-то почвы как раз и не было. Все колебалось под его ногами, как обманчивая зеленая лужайка, скрывающая болото, всюду его подстерегали опасности, как заросшие окна бездонных трясин.
Ехать в Синицы или Влуки и договориться с немцами? А вдруг то, что рассказывала Мультынючиха, не брехня; вдруг этот Иванчук внезапно явится из лесов, из тайников в болотах и потребует к ответу?.. От него не скроешься, он все разузнает. Если только это и вправду Иванчук, так он ведь знает все тропинки, все кладки и броды. Может, у него и в местечке свои люди есть, и уж они следят, во все глаза смотрят, кто что делает.
В Хмелянчуке закипела обида против немцев. Что ж это, не могут порядок навести? Прут себе вперед, а что у них за спиной, о том и не думают! В чем же видно их господство, их сильная рука? Разве только в рассказах об осенних реквизициях да в установлении полицейского часа, который соблюдают запуганные бабы. В остальном деревня предоставлена самой себе.
Вера в немецкий порядок постепенно начинала колебаться в Хмелянчуке. Потому что в польские, например, времена здесь были комендант Сикора и этот Людзик, которого убил Пискор. Они шатались повсюду, заглядывали во все углы, как из-под земли вырастали в самых неожиданных местах. Позже – во времена Овсеенко и Гончара – и говорить нечего: была милиция, была местная организация, и они ощущались на каждом шагу. А теперь? Придет такой Иванчук, зарежет человека, и никто даже не узнает. Да и люди переменились – прежде собирались, болтали, сплетничали, сразу можно было сообразить, откуда ветер дует. А теперь попрятались, как барсуки, по избам, говорят какими-то недомолвками; черт их разберет, что они думают. Да что говорить о других, когда нельзя понять, что думает собственная жена? Ходит баба, вздыхает, то и дело плачет, а ни одного толкового слова из нее не вытянешь. Иной раз можно даже подумать – хотя статочное ли это дело? – что она жалеет о временах, когда здесь были советы.
Между тем, несмотря на то, что Ольшины были как будто совершенно отрезаны от мира, сюда то и дело доносились вести, самые разнообразные, но все странные и пугающие. Каким путем, как и через кого они доходили – этого Хмелянчук не понимал. Но многие из вестей не давали ему спать спокойно. Под Брестом полетел под откос немецкий воинский эшелон. Сгорели склады в Паленчицах. Немцы сожгли деревню Чапли за то, что там бесследно исчез немецкий патруль. Вокруг происходило нечто странное, нечто опровергавшее веру в немецкую мощь, и совсем не было похоже на тот порядок, которого ожидал Хмелянчук.
Шла весна, уже зазеленела трава на пригорках, уже опадали полые воды, все ниже оставляя на сухом камыше темную черточку осевшего ила. Хмелянчук с надеждой поглядывал на помещичью усадьбу: если приедет новый владелец, все переменится, – ведь должны же будут немцы заботиться о его безопасности! Но уже набухли почки на яблонях в усадебном саду, а двери господского дома все темнели, заколоченные досками, словно усадьбе суждено было остаться мертвой навеки. Бабы приходили к усадьбе собирать щавель и как-то незаметно повыламывали доски в ограде, и она в конце концов повалилась. Ее тотчас растащили на топливо; разобрали даже хлев на усадебном дворе.
Хмелянчук не мог смотреть на это без сердечной боли. Пропадало добро. Хоть и не его добро, а все же собственность, достояние. Снега и морозы, дожди и ветры разрушали хозяйственные постройки, и никто не чинил их, никто не старался сберечь. Усадьба рушилась на глазах. А деревня, видя, что никто не приходит, не смотрит, не стережет, все больше смелела. В один прекрасный день вдова Паручиха появилась с мотыгой в помещичьем огороде, на том самом клочке, который ей выделили когда-то большевики, и, как ни в чем не бывало, принялась сажать картошку. Клочок был маленький, всего несколько рядков, да ведь зато и земля тут! Не земля, а золото, даже жаль картошку сажать, тут бы и капуста выросла… За Паручихой потянулись другие. И каждая вскапывала какой-то клочок. Но Хмелянчук тотчас же заметил, что это делается не беспорядочно. Всякая женщина вскапывала тот участок, который получила при дележе, после прихода красных.
Хмелянчук ходил сам не свой. Что же это такое? Красных давно нет, а деревня исподтишка опять заводит советские порядки, будто Гончар все еще тут на месте и руководит крестьянами! Что это, глупость? Или же они знают что-то такое, чего не знает он, Хмелянчук? На что они рассчитывают? Фронт отодвинулся за сотни километров, всюду, всюду, куда ни кинь взгляд, всюду хозяйничают немцы, а Ольшины будто и не знают об этом, будто их это и не касается.
Ходили смутные слухи, что теперь будет независимая Украина, свое украинское государство под немецким протекторатом. Где-то во Львове организуется украинская армия. Существовали будто бы кое-где и местные украинские отряды, предназначенные для борьбы с партизанами; Хмелянчук только вздыхал. Кто-то принес весть, что один такой отряд вырезал до последнего человека польскую деревню под Львовом. Хмелянчук вздыхал: опять беспокойство, опять политика, из которой, по его глубокому убеждению, никогда ничего хорошего не выходит… Была здесь когда-то польская власть – и жил человек кое-как; нет, Хмелянчук не мог особо жаловаться. Пришли немцы – только он не видел этих немцев, – могли бы навести порядок, но, видимо, руки до всего не доходили, – может, ждали окончательной победы, чтобы тогда по-настоящему взяться за дело. Ему все равно, чья тут будет власть, лишь бы ему дали возможность жить, как он хочет. И разве он хотел чего-нибудь особенного? Нет, только жить на своей земле, которую он столько лет наживал с таким трудом, – ну, нанять там двух-трех работников, ведь одному не управиться, – работать, богатеть. В большевистское время часть земли у него отобрали; ясное дело, немцы должны были ее вернуть. А украинская власть? Черт знает, кто ее захватит, кто в нее пролезет! В сущности он предпочитал немцев. Известно, народ культурный, не то что какой-нибудь там Хведько или Евдоким. Какая из них власть?.. Уж лучше немцы.
И он гневно смотрел на пустые и мертвые усадебные постройки, видневшиеся сквозь буйную молодую зелень весенних деревьев. Был бы сосед помещик – по крайней мере известно было бы, чего держаться. А так…
Хмурый бродил он по своему хиреющему хозяйству. Нечем было обсеяться, нечем обработать землю. Многие в деревне говорили, что и не собираются сеять, но от жены он узнал, что на самом деле они по ночам ездят на лодке куда-то на островки, скрытые от человеческих глаз калиновыми зарослями, и засевают там украдкой какие-то клочки.
– Чтобы, мол, для немцев не сеять, – пугливо объясняла ему жена. Он лишь пожимал плечами. Почему «для немцев»? Для себя, а не для немцев! Ну, конечно, сколько-нибудь отдать придется и немцам за налог – налоги всегда всем платили. Должен же быть порядок. И хотя пока его не видно, но ведь в конце концов немцы придут в Ольшины и введут его.
Однако немцев все не было. Зато однажды он нашел у своего порога печатную листовку и, запершись в избе, украдкой прочел ее. Ему показалось, что он грезит.
«Братья и сестры на временно оккупированных врагом территориях!»
У Хмелянчука потемнело в глазах. Вот оно как! Значит, те не отказались от этих земель, год назад ускользнувших из их рук, не поставили на них крест. Они помнят, думают о них. И еще могут что-то здесь делать… Хмелянчук беспокойно оглянулся, словно дверь вот сейчас скрипнет и впустит Гончара.
В эту ночь он и не пытался уснуть. Листовку он тщательно засунул в глубокую щель меж половиц у стены, думая еще раз прочесть ее, когда успокоится. Может, лучше бы сжечь, но это он всегда успеет.
Так, значит, у них в деревне есть свои люди… Ведь кто-то получил эту листовку, кто-то ее подбросил, есть нити, связывающие их с теми, находящимися за сотни километров отсюда? «Может, правда и то, что рассказывают об Иванчуке», – подумал он, и ему стало еще страшнее. Колебалась почва – да полно, почва ли это, или коварная зеленая ряска на поверхности трясины? Что же таится в глубине? Нет, лучше уж явная опасность, чем эта вечная тревога, вечная неуверенность. И снова в Хмелянчуке разгоралась злость на немцев. Под самым носом у них такое делается, а они что? Оставляют беззащитным, беспомощным его, Хмелянчука, который ведь ничего другого не хочет, как только быть лойяльным гражданином и жить как лойяльный гражданин. А что получается?
Первого мая на деревьях у дороги и на высоком тополе во дворе усадьбы затрепетали красные флажки. А утренней порой Хмелянчук собственными ушами услышал доносящуюся с реки ненавистную и грозную песню – песню, которую когда-то пели те, что собирали деньги на Испанию, песню, с которой начинали и которой заканчивали собрания в советском клубе. Он не мог ошибиться! Под самым носом у немцев, которые стояли во Влуках и Синицах, в Паленчицах и Бресте, в Киеве, Харькове, а на западе вплоть до самого океана, – Ольшины дерзко праздновали большевистское Первое мая, праздновали почти открыто, будто глумясь над немецкими победами.
Нет, он был прав, что не поехал к немцам. На что можно рассчитывать, чего ожидать, если вдруг оказалось, что он сидит в самом что ни на есть большевистском гнезде и что за каждым его шагом наверняка следят!
И Хмелянчук притаился в своей избе, как барсук в норе. Ему не интересны стали ни весна, ни весенний сев. Жена с виноватым видом брала мотыгу и тихонько копалась в огороде. Он лишь презрительно поглядывал на ее работу, не говоря ни слова. Черт с ним, с хозяйством, пусть все пропадет пропадом. Важно только одно: выжить, переждать, продержаться. Не может быть, чтобы это продолжалось вечно. Порядок будет. Но пока надо притаиться.
Однажды ночью его разбудили далекие взрывы. Он вышел из избы и долго смотрел во тьму.
– Сражение, что ли? – тихо спросила жена, выскользнувшая за ним.
– Кому тут сражаться, глупая? – проворчал он.
– Может, эти… партизаны?
Он хотел прикрикнуть, но смолчал. Черт ее знает… Такое время, что и родной жене нельзя довериться.
– Где-то возле Синиц, – шепнула она.
– Тише!
Из ночной тьмы, откуда-то с темного майского неба доносилось далекое, едва уловимое жужжание.
– Самолет, – глухо сказал Хмелянчук.
А уже на другой день в Ольшинах – опять неведомо откуда – было известно, что ночью летал советский самолет. В Синицах его обстреляли, но он благополучно улетел на восток.
«Что бы это значило? – ломал голову Хмелянчук. – Они так далеко отступили, откуда же этот самолет?» Ему снова припомнилась листовка, и он почувствовал себя со всех сторон окруженным врагами. Запершись в избе, задернув занавески, он снова и снова перечитывал страшные строчки: «Братья и сестры на временно оккупированных врагом территориях!» А тут еще советский самолет…
Казалось, что это был не один самолет, который прилетел и улетел, а какой-то таинственный самолет, который постоянно, в темноте майской ночи и в свете майского дня, повисал над Ольшинами, сторожил, был, существовал, – как живая иллюстрация к тому, о чем говорила листовка, призывавшая бороться и надеяться.
И вдруг его как громом сразила новая весть – весть о советском наступлении на Украине.
Войска Юго-Западного фронта двинулись и, прорвав линию немецкой обороны, неудержимо рвались вперед.
Оживилась деревня. Хлопали двери изб, бабы громко перекрикивались с порогов домов, люди ходили по улице. На мостках, над тихо плещущим озером, девушки пели песенку о Катюше и другие песни, которые в тридцать девятом принесли с собой большевики.
Люди забыли о голоде, о нищете. Черная, высохшая от голода деревня радовалась советской песне. Из уст в уста передавались названия местностей, о которых никто раньше и не слышал. Стало также известно, что отряд Петра Иванчука вышел из лесов и уничтожил небольшой немецкий гарнизон во Влуках. Об этом говорили вслух, не скрываясь. Хмелянчук боялся показаться из дому, чтобы не встретить кого-нибудь, чтобы с ним не заговорили, чтобы не пришлось высказаться в ту или другую сторону.
«Пусть делают, что хотят», – думал он, глядя на эту обезумевшую деревню, радующуюся советским победам под боком у немцев, которые были кругом – и в Паленчицах, и в Синицах, и даже в Влуках, куда после налета партизан нагнали уйму войска. Пусть делают, что хотят, лишь бы ему самому уцелеть, лишь бы ему как-нибудь продержаться это время. Нет, он не поверит, что у Гитлера не хватит сил разбить советские армии! «Ведь он завоевал весь мир», – утешал себя Хмелянчук. Но весь мир был далеко, а количество километров, отделяющее Ольшины от советского фронта, все уменьшалось. Конечно, и он был еще далеко, где-то за Киевом, за Харьковом. Но уже одно то, что фронт, вместо того чтобы уходить все дальше на восток, стал вдруг приближаться, казалось Хмелянчуку непостижимым и страшным. А что, если они и вправду придут? Что, если опять займут Ольшины и спросят его, почему он оказался здесь, вместо того чтобы обрабатывать землю, отведенную ему в далекой Сибири?
«Куда тогда бежать, где прятаться?» – смутно думалось ему, и он чувствовал, что почва под его ногами колеблется. Трясина, всюду предательская трясина, обманывающая яркой зеленой травой, которой она поросла сверху. Где же твердая, надежная почва?
И тогда страх пересилил в нем осторожность. Нет, он не может смотреть на все это сложа руки, не может молчать. Что, если и в других деревнях происходит то же самое, а немцы об этом и не знают? Тогда он, Хмелянчук, и другие такие, как он, сами виноваты в своей гибели. Да что тут говорить! Если так пойдет дальше, то, будь он тише воды, ниже травы, – все равно деревня в конце концов вспомнит о нем и сведет с ним старые счеты. Придет день, когда его придушат, как кошка душит прижавшуюся от страха к полу мышь, и никто даже не узнает, что с ним случилось. Швырнут его в болото, зароют в первой попавшейся яме, разграбят остатки его хозяйства – и конец.
Долго писал он письмо при свете едва тлеющей коптилки; наконец, изложил все, что считал нужным. И о Первом мая, и о листовках, и все, что говорили об Иванчуке. Он долго колебался, называть ли фамилии. Но потом, стиснув зубы, решил: писать так писать! Конечно, можно было бы перечислить всех, всю деревню, все они здесь хороши, – но для этого еще придет время. В задумчивости он, сам не замечая, грыз кончик карандаша, пока во рту не почувствовал неприятный металлический привкус. Значит, Павел… Уж кто-кто, а Павел наверняка принимает участие во всем этом! Затем – Кальчуки, с ними у Хмелянчука есть кой-какие счеты еще с польских времен. Параска? Он на мгновение заколебался, стоит ли связываться с Рафанюками. Но ведь в конце концов Рафанюк одно, а его жена другое. Что ж, разве она не таскалась с Петром? Не таскалась потом с Гончаром? Пусть бы уж какие-нибудь там голодранки, какая-нибудь Паручиха или другие деревенские нищие. Но жена обстоятельного, крепкого хозяина, такого степенного человека, как Рафанюк… Нет! Ему же будет лучше, если он от нее избавится. Хватит ей его срамить! Кто еще? Семен… Семена, правда, нет в деревне, жена говорила, что он куда-то исчез сразу после прихода немцев, но на всякий случай надо вписать и его. Может, он у этого Иванчука, это на него похоже. Поищут – так найдут, наверняка найдут, если захотят.
Он окончил письмо и задумался: подписываться или нет? Нет, подписываться опасно. Немцы немцами, а деревня деревней. Не следует до времени явно становиться на одну из сторон. «Только есть ли еще время? – подумал он со страхом. – Не поздно ли уже, если слухи о советском наступлении не простые сплетни?» Все подтверждало, что это не сплетни. Но в таком случае все равно – в таком случае надо просто бежать отсюда, бежать с немцами. Ведь возьмут же они его, если он им все расскажет?
Всего несколько месяцев тому назад он не поверил бы, если бы ему сказали, что он будет сидеть здесь, в Ольшинах, на территории, занятой немцами, и чувствовать себя беспомощным, беззащитным, покинутым, брошенным на произвол судьбы. Ведь по пути сюда он видел, что такие, как он, работали по деревням старостами, начальниками полиции, сидели в немецких учреждениях. Но то были другие деревни – деревни, расположенные по железным дорогам, по трактам и шоссе, деревни, по которым проходили войска, оставляя гарнизоны, – не то, что эти утонувшие в болотах, забытые богом и людьми Ольшины. Да и там, в тех деревнях, случались иногда странные вещи!
Хмелянчук вздохнул. Ох, не легко жить в такие времена…
Ну, ладно, – в конце концов поверят и без подписи. А уж потом, когда они заинтересуются Ольшинами, он успеет дать знать о себе, чтобы добиться покровительства немцев.
Долго он раздумывал, как доставить письмо. А вдруг кто-нибудь подсмотрит, вдруг его поймают по дороге и прочтут донос? От одной этой мысли мороз по коже подирал. А с другой стороны, нельзя терять времени. И вдруг подвернулся счастливый случай: заболел поп, и Хмелянчук, хотя у него после того неудачного посещения так и не восстановились теплые отношения с батюшкой, вызвался съездить за доктором.
В Паленчицах он узнал, что слухи о партизанском налете на Влуки не были пустой болтовней. Подтвердились и вести о советском наступлении. Значит, и вправду нельзя было терять ни одного дня, в любой момент могло случиться что-нибудь страшное.
Передать письмо кому-нибудь в руки он не решился, а просто бросил его в ящик, улучив минуту, когда на улице никого не было. Теперь уже размышлять было не о чем – дело сделано, письмо доверено металлическому ящику, откуда грязноватый конверт, который он вчера каким-то чудом разыскал в ящике стола, попадет прямо в руки немецкого коменданта.
И начались бесконечно томительные дни ожидания. Хмелянчук стал еще реже выходить из дому, стараясь никому не показываться, словно мужики могли по его лицу догадаться, что он сделал. По ночам он просыпался весь в липком, холодном поту. Поверят ли немцы его письму? Вдруг они подумают, что это западня, хитрость, придуманная самим Иванчуком, чтобы завлечь их в болота, в клин между трясинами, озером и рекой?
Брезжил рассвет, прозрачный, весь серебряный от росы. Еще только вставал майский день, и туман пушистыми белыми клубами опадал на луга за рекой, длинными полосами тянулся по тихому озеру, когда в селе вдруг поднялась тревога. Хмелянчука разбудил крик жены, которая в одной сорочке выскочила во двор, испуганная необычным шумом.
– Федя, вставай, немцы!..
Спросонок он ничего не понимал.
– Что, что?
– Надо бежать, немцы, немцы в деревне… Боже милостивый…
– Сдурела ты, баба? Нам-то чего бежать?
Она молча глядела на мужа остановившимися от ужаса глазами.
– Чего нам бояться немцев? Что мы им сделали?
– Да, говорят, они…
– Мало ли чего говорят… Ты бы вот юбку-то надела! Немцы так немцы, нам-то что?
Он одевался не спеша, зевал, почесывался, стараясь показать жене, что совершенно спокоен. Но сердце болезненно, толчками колотилось в груди. Ну, вот его письмо и подействовало. Они пришли. Теперь они научат этих хамов уму-разуму. Они им покажут Первое мая! Они им покажут…
Дверь с шумом распахнулась.
– Выходить на площадь.
Хмелянчук хотел заговорить с солдатами, но те не слушали. Он пожал плечами и, чтобы сорвать обиду, прикрикнул на побледневшую жену:
– Ну, что ж ты? Не слышала, что надо выходить?
Пошатываясь, шепча дрожащими губами молитву, она вышла за мужем и зажмурилась, чтобы не видеть синеватого поблескивания штыков.
На площади перед церковью уже собиралась толпа. Молчаливые мужики, едва одетые женщины. Тихонько всхлипывали дети, прижимаясь к матерям. С первого взгляда Хмелянчук мог убедиться, что его письму поверили. Немцев уже была тьма, а со стороны озера, со стороны синицкой и влуцкой дорог, охватывая деревню цепью, появлялись все новые. Из всех изб выгоняли людей. Плотный кордон солдат окружил сбившуюся на площади толпу.
Взошедшее солнце пронизывало мглу на лугах золотисто-розовым блеском. Кричал коростель на болотах, в безоблачном небе плавным, величественным полетом пронеслась цапля. Солнечные блики скользили по поверхности озера. Избегая взгляда людей, Хмелянчук смотрел на родную деревню, словно впервые видел ее. Ольха над рекой темнела сочной молодой зеленью. Зеленые кудри ив свисали до самой воды. Тихо, едва слышно плескалось о кремнистый берег озеро. Росистое ласковое майское утро вставало над землей, и одуванчики в лугах пылали, как широко раскрытые звездные очи.
Не то вздох, не то стон проносился временами по толпе. Лица солдат словно застыли, каменные, ничего не говорящие.
– По избам ищут, – тихо сказал кто-то.
С площади и вправду было видно, как зеленоватые, цвета плесени, мундиры рыщут по деревне, как распахиваются и захлопываются двери, как с грохотом вылетают оконницы и тучами носятся грязные куриные перья из чьей-то подушки.
Солнце поднималось все выше и припекало, как летом. Минуты казались часами. Наконец, к толпе подошел офицер.
– Павел Пилюк!
Мертвая тишина.
– Павел Пилюк! – крикнул офицер, повысив голос.
– Тебя, кум, ищут, – прошептал чей-то тревожный голос. Павел, сутулясь, вышел из толпы и спокойно остановился перед офицером.
– Иванчук Петр!
Толпа молчала.
– Я спрашиваю, где Иванчук?
– Нет его, – пробормотал кто-то в толпе.
– Нет? Ага, так! Кальчук?
Кальчук сделал шаг вперед и стал рядом с Павлом.
– Кальчук Софья?
Хмелянчук упорно смотрел в землю. Офицер перечислял фамилии, упомянутые в его письме.
Но нет, никто не догадается, кто донес!.. Теперь это, впрочем, безразлично. Бояться ему больше некого. Деревня уже окружена железным кольцом немецких войск. Что теперь могут ему сделать все эти Иванчуки? Теперь начнется его, Хмелянчука, время. Теперь они пожалеют, теперь узнают, что значит с ним связываться! О, теперь он сведет с ними счеты за все, за все, с самых давних времен, еще после той, первой войны.
Но тут будто над самым его ухом раздался вопрос:
– Чья это изба?
Он не поднял глаз. Его это не могло касаться.
– Чья это изба, спрашиваю! – опять заорал офицер.
Видно, у кого-то нашли что-нибудь. Теперь убедятся, что он писал правду.
И вдруг его словно ударило. Кто-то рядом громко и отчетливо сказал:
– Хмелянчука, Федора.
Он поднял голову. Перед офицером стоял немецкий солдат, подавая ему печатный листок бумаги. Это была листовка, та самая листовка, которую он так тщательно спрятал под досками пола, собираясь потом сжечь. Хмелянчука затрясло. Он позабыл, совсем позабыл об этой бумажке.
– Я…
Офицер грубо прервал его.
– Ты Хмелянчук?
– Я.
– Твоя изба?
– Моя. Я хотел…
– Молчать! – неумолимо и сухо сказал офицер и толкнул его к стоящим в стороне Павлу и Кальчуку.
Смертный холод охватил его тело. Оледенели руки, ноги. Хмелянчук хотел оправдаться, объяснить, но губы одеревенели, как чужие, язык не слушался. Он мертвыми глазами уставился на офицера.
– Ох!.. – вырвался вдруг стон из груди стоящего рядом Кальчука. Из ольховых зарослей вели Соню. Рукав ее сорочки был оборван, по лицу тонкой струйкой сочилась кровь. Майский ветерок развевал темные волосы на ее высоко поднятой голове. Ее поставили рядом с отцом.
Солдаты стягивались от изб к площади, рапортовали что-то офицеру. И вдруг Хмелянчук увидел веревки. Солдаты разматывали их кольца, и он смотрел на эти веревки как завороженный, и глаза всей толпы так же неподвижно уставились на петли в руках солдат. Только Соня Кальчук словно не замечала их. Она глядела на озеро, на искрящуюся золотом мелкую волну, разбивающуюся о прибрежную гальку. Тонкая струйка крови сочилась из ее виска и стекала по щеке, но нежно очерченные девичьи губы улыбались загадочной, далекой улыбкой.
– Вперед!
Хмелянчук почувствовал, что его толкнули, и безвольно, как неживой, двинулся за другими. Что с ним происходит, ом все еще не понимал. Жена вдруг с отчаянным криком ухватилась за его рукав.
– Федя!..
Солдат ударил ее прикладом в грудь. Она пошатнулась и, сразу затихнув, с остановившимися глазами, побрела вслед за мужем. Платок сползал с ее головы.
Да, это была липа, что стоит у церкви. Веселая молодая листва покрывала ее шелестящим шатром, толстые ветви опускались почти до земли. Хмелянчук рассмотрел золотистые чешуйки у основания листьев.
Офицер скомандовал, к Хмелянчуку подошел солдат с петлей в руках. И тут вдруг чары, сковавшие его члены, рассеялись. Рванувшись из рук солдата, он так стремительно кинулся к офицеру, что тот отскочил и схватился за револьвер. Но Хмелянчук упал на колени, пытаясь обнять ноги в лакированных сапогах.
– Это я! я! это я послал письмо… Меня большевики… Я с немцами!..
Лакированный сапог ткнул его прямо в лицо.
– Взять его! Живо!
Три солдата бросились на Хмелянчука и, выкручивая ему руки за спину, накинули на шею петлю. Четвертый солдат уже сидел верхом на толстом суку липы, ожидая, чтобы ему бросили конец веревки.
– Спасите! Это же я, я писал! – нечеловеческим голосом выл Хмелянчук. Офицер махнул рукой, конец веревки полетел вверх, солдат подтянул его через сук, и тело Хмелянчука тяжело закачалось над самой землей, едва не касаясь ее ногами.
Соня Кальчук, когда ей накидывали петлю на шею, крепко сжала руку отца, отбросила назад растрепавшиеся темные волосы и звонко, ясно сказала:
– Верьте в победу! Наши идут на Украину! Бейте фашистов! Да здравствует Сталин!
Четыре тела качались на ветвях липы. Толпа помертвела. Никто не вздрогнул, не оглянулся, хотя там, у дороги, уже запрыгали по тростниковым кровлям быстрые красные огоньки и к небу поднялись черные клубы дыма от поджигаемых с четырех углов изб.
Колыхалось, ходило волнами озеро. Сквозь завесу черного дыма видно было сверкающую искрами, золотую дорогу, проложенную по нему солнцем. Широко открытые глаза мертвой Сони смотрели прямо на эту золотую радостную дорогу, и дальше, дальше, на другой берег, кудрявый, зеленый, пенящийся молодой, неповторимой в году майской зеленью.







