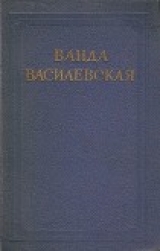
Текст книги "Том 4. Песнь над водами. Часть III. Реки горят"
Автор книги: Ванда Василевская
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
Ольшины, Ольшины…
Дорога взбирается на горку, на пологий холм, весь в растрепанных зеленых кустах. Бересклет переплетается ветвями с ольшаником, калиной, и все густо обвито хмелем, связано узлами его крепких, упрямых стеблей, перебрасывающих мосты с куста на куст.
Вот как раз то место, где убежал когда-то скованный Иван Пискор от полицейского Людзика. Теперь стоит только поднять глаза – и…
Озеро. Горло сжимается от волнения. Здравствуй, озеро моего детства, моей молодости! Широкий простор, кремнистый берег, орошаемый сверкающими на солнце брызгами! Здравствуй, неумолчный плеск волн, родной моему сердцу!
Озеро раскинулось на солнце. Голубое и серебряное, с золотыми блестками, оно слепит глаза.
Осторожный взгляд – туда, еще дальше… Нет, лучше не смотреть! Кто знает, что увидишь? Уж лучше идти вот так, не заглядывая вперед, по знакомой дороге. Она тоже изменилась – по ней прошли на запад танки, орудия, тысячи ног в солдатских сапогах. И все-таки это та самая дорога…
Как чудесно сложилось, что путь пролегает как раз здесь или почти здесь, что полк расположился на отдых неподалеку отсюда – всего в четырех километрах.
– У тебя там есть кто-нибудь? – спросил поручик и усмехнулся.
«Да», – хотел сказать Стефек, но внезапный страх перехватил ему горло. Вспомнился старый предрассудок: «Не сглазить!» В Ольшинах люди не говорили уверенно ни о чем: «Если доживем, начнем завтра косить над рекой», «Если приведет бог дождаться, пойдем завтра за хворостом», – чтобы не бросать вызов судьбе.
Соня, конечно, ждет его здесь, в нескольких километрах. Через час он ее увидит. Но вместо того чтобы сказать «да», Стефек тихо отвечает поручику:
– Не знаю. Были.
Шутливая улыбка мгновенно гаснет на лице поручика. Да, да, кто сейчас на этом пути возврата может с уверенностью сказать, что у него есть кто-то близкий в местах, где хозяйничал враг?
– Четыре километра… Где же это? – поручик внимательно смотрел на карту.
– Вот здесь. Над озером.
– Ага, здесь. Ну ладно, иди – там стоят советские танки. А может, возьмешь кого для компании? Веселее будет.
Нет, что бы он там ни застал, ему хочется прийти одному, без свидетелей.
«Чего я боюсь, чего я боюсь?» – думает Стефек. Нет, это даже не страх. Но зачем посторонним глазам видеть его встречу с Соней? Это должно быть между двумя. Нестерпимо было бы идти с безразличным человеком, слушать его замечания, вести пустой разговор, когда уже сейчас молотом стучит в груди и слова с трудом срываются с пересохших губ. Он покачал головой:
– Нет, нет, не надо… Это совсем рядом!
Поручик снова вспоминает, что там стоят танки, и машет рукой:
– Можешь идти!
Дело не в расстоянии. Эта земля все еще дымится от крови. В кудрявых ольховых рощах, в излучинах речушек, в перелесках, звенящих птичьими голосами, – всюду таится опасность. Она подстерегает одинокого солдата, небольшую группу неосмотрительных людей, какого-нибудь гуляку, легкомысленно бродящего здесь, где в одиночку ходить нельзя.
Но Стефек идет спокойно. И не потому, что в деревне свои, не потому, что в Ольшинах стоят советские танки и он встречает на пути советских солдат. Нет – потому, что здесь его деревня, здесь каждый кустик, каждый камень, каждая тропинка близки ему, как собственное сердце. Не может же быть, чтобы теперь, пройдя весь военный путь, добравшись сюда, он наткнулся бы на смертельную опасность – именно здесь, дома!
Он знает, что на этих землях, когда армия отступала, бывало всякое, – бывает всякое и теперь, когда она идет вперед. Но Стефек здесь вырос. Он знал здешних людей и оценивал происходящее тут иначе, чем люди, которые просто негодовали на местных жителей, не понимая всей сложности обстановки.
Да, это случалось в тяжкие июльские дни отступления – выстрел из зарослей, брошенная из-под мостков граната. Но он запомнил, сохранил в сердце другое: пыльная, нагретая солнцем дорога. Во рву, рядом с остатками автомобиля, валяется полусожженный труп. По дороге бредут под палящими лучами солнца утомленные солдаты. А вдоль дороги стоят с ведрами бабы, старые деревенские женщины. Слезы струятся по их морщинистым, коричневым от загара лицам. В ведрах молоко. Они черпают его кружками, подают проходящим:
– Пей, сынок!
До деревни далеко. Три-четыре километра шли эти женщины, таща тяжелые ведра, шли под вой вражеских самолетов, под косящие сверху пули, шли, чтобы утолить жажду солдат, сказать уходящему советскому солдату: «сынок»…
Не победоносную армию встречали они в тот раз, – нет, слезами, материнской лаской провожали уходящие, разбитые в первых неожиданных столкновениях войска. Где теперь эти женщины, которые плакали тогда горькими слезами разлуки? Не все же погибли. Они остались здесь, пережили тяжкие годы и теперь со слезами радости встречали возвращающихся, снова обращались к незнакомым солдатам с теплым, нежным, материнским словом: «сынок»…
Запомнил Стефек и другую деревню. У дороги стоял тогда высокий, худой крестьянин. Он мрачно смотрел на колонну, понимая, что это отступление. Не глядя он скрутил из клочка газеты цыгарку, не глядя зажег спичку.
– Немцы далеко?
– Близко. Вот-вот покажутся, – хриплым, усталым голосом ответил солдат.
Все еще с незакуренной цыгаркой в зубах крестьянин не спеша поднес спичку к соломенной кровле своей хаты. Голубоватый дымок, сворачиваясь в клубы, пополз по соломе. Когда Стефек спустя мгновение обернулся, он увидел, что на крыше бушует яркое пламя. А крестьянин шел с солдатами на восток. Он и не оглянулся на свою горящую избу, не взял с собой ни узелка, ни котомки. Он шел с пустыми руками, будто из избы в коровник. Раз должны прийти «те» – ему не нужна была хата, он не хотел, чтобы ее почерневшая кровля, чтобы стены дома, где он жил, дали приют врагам. Без куртки, в одной посконной рубахе, с пустыми руками ушел он из этой избы, в которой прожил всю жизнь, словно с приходом врага заканчивалась для него прежняя жизнь и начиналась новая – там, на востоке, куда отступала армия.
Вот о таких вещах и помнил Стефек. О людях, которые были ему своими, понятными. И он знал, что это была сущность, что это был подлинный облик этой земли. Он знал здесь каждый камень, каждый куст – и каждого человека.
Вот и поворот к Ольшинам. А дальше идет дорога к переправе, где был раньше паром, на котором ездили во Влуки. Паленчицы, Влуки, Синицы – названия, сросшиеся со всей жизнью, навсегда запечатлевшиеся в памяти тысячами событий, радостей и огорчений.
«Вот я опять здесь. Опять пришел», – думалось Стефеку. Он пришел во второй раз. Тогда, в тридцать девятом году, он тоже добирался сюда из госпиталя и издали увидел деревню. Но тогда он был солдатом разбитой, разгромленной польской армии, одиноким солдатом, тащившимся домой с болью поражения в сердце. Теперь он шел вперед в ореоле побед, в которых и он – да, и он – принимал участие. И все же именно теперь вместо счастья, вместо радости, которую он столько раз испытывал на этом долгом пути, сердце его охватила тревога. Тревога до того мучительная, что перехватывало дыхание. Сердце билось рывками и вдруг будто совсем останавливалось, трепетало замирающей болезненной дрожью.
«Почему я так волнуюсь? Ведь я, наконец, здесь. Сейчас увижу Соню. Ведь не могло случиться ничего дурного. Этой мысли и допускать не надо. В худшем случае окажется, что она еще не вернулась. Но если даже и так, то в Ольшинах, верно, уже знают, где она. Зачем же волноваться? Еще полчаса, еще четверть часа – и все будет известно. Может, она стоит перед домом и глядит на дорогу, заслоняя от солнца глаза рукой».
Он спохватился, что почти бежит, и приостановился, переводя дыхание. Надо заставить себя успокоиться. Ведь он был за тысячу километров – теперь осталось два. Смешно бежать бегом. «Иди ровным солдатским шагом», – приказал он себе.
Но ноги не слушались, он невольно снова и снова ускорял шаг, едва приостанавливаясь, чтобы отереть пот с лица.
Ноздри Стефека уже почувствовали знакомый, единственный в мире запах. Он помнил, он носил в себе этот запах, не похожий ни на какой иной. Пахло татарником и мятой, нагретыми солнцем… Целых три года пришлось с оружием в руках пробиваться к этим Ольшинам! Трудно представить себе, какое это долгое время…
Но еще труднее представить себе, как жили здесь три года близкие ему люди. Вставало утро, наступал вечер, люди варили пищу, ложились спать, ходили по дорогам – и в это время здесь был враг… Стефек видел сам звериный облик фашистской войны, сожженные дома, замученных женщин и детей. Но непонятно было, как одновременно с этим существовала какая-то повседневная жизнь. Она не могла не существовать, иначе здесь не осталось бы ни одного живого человека. Но как же могли люди спать, есть, работать в то время, когда здесь хозяйничал враг? Человек был здесь обречен не только на ужасную смерть, но на еще более ужасную жизнь, на ежедневное выполнение самых обыденных, самых прозаических жизненных действий, несмотря на все и вопреки всему.
Разумеется, этого не могло не быть. Но представить себе это было невозможно. Дрожь пробежала по его спине при мысли, что и он мог не выбраться отсюда, пережить эти три года здесь. Пережить?.. Но есть ведь люди, что пережили, – чем же ты лучше других? Если они могли выдержать, должен бы был выдержать и ты.
Он стиснул зубы. Потому что ведь здесь была и Соня. И Соне не удалось уйти. Она была здесь, на этой земле, закованной в цепи пыток и смерти, попранной ногами кичливых захватчиков, поруганной чудовищными преступниками. Можно ли себе представить, что и Соня…
Здесь, на месте, можно было представить себя только в лесу, в партизанском отряде, борющемся, преследуемом и преследующем. Но ведь и это было не всем доступно. Куда было идти матерям с детьми, калекам, больным? Да и не всюду были леса, не всюду были болота, служащие защитой. Но зато всюду были сверлящие глаза врага, железный кулак врага, насилие и смерть. И были, конечно, люди, которые не отходили от своих домов, не могли их покинуть, жившие изо дня в день под страхом штыка и пули, под страхом пыток. Для таких людей даже скитание по лесам, даже смерть в стычке с врагом были недоступным и недостижимым счастьем. Чем же можно отплатить, как отблагодарить за то, что эти годы ты был не рабом, а солдатом, солдатом свободы?
Только не смотреть на деревню!.. Лучше уж взглянуть на берег озера – там должен быть клуб. Наверно, потемнел за эти годы, а какой был новенький, красивый… Он ведь тоже тесал для него бревна, а потом танцевал с Соней на его открытии в теплый, радостный летний вечер.
Но что это? Не мог же он ошибиться… Глаза еще и еще раз всматриваются в поблескивающий кремешками мокрый берег. Никаких следов от того, что там стояло здание, что над его входом пылала красная звезда, что белые, золотистые, пахнущие свежим деревом стены гудели от возгласов, танцев, музыки.
Сжимается сердце. Что же еще придется увидеть? Есть ли вообще деревня?
Правда, поручик сказал, что в Ольшинах стоят советские танки… Но ведь есть деревни, от которых не осталось ничего, кроме названия. Деревня Козары, – расположенная на той стороне Днепра, через нее он проходил с частью – там не было ни одной избы. Купы стоящих в белом цвету вишен, и среди каждой купы – грубо вытесанный, наскоро сколоченный крест… Они неожиданно появились перед их глазами в радостный весенний, голубой с золотом день, эти цветущие вишни, растущие прямоугольниками, словно окружая что-то, чего нет. Таблица на дороге коротко и ясно гласила: «Деревня Козары».
На дороге они встретили сгорбленную женщину. В руках она несла бидон – верно, с молоком. Уступая дорогу солдатам, она сошла на обочину, под буйно цветущие вишневые ветви.
– Эй, матушка, где же избы?
– Да ты что, сынок, войны не видал, что ли?
Внимательные, умные глаза смотрят на этих странно одетых солдат.
– Почему всюду кресты?
– В избах их сожгли, в избах. И хоронить нечего было, так мы уж так – где был дом, там и крест ставили, вроде на могиле.
Поникнув головами, мрачно, медленно проходили солдаты через деревню Козары. В чаще белых ветвей беззаботно, радостно, звонко пели птицы над могилами, которых нет.
Сколько таких деревень! Сколько их пришлось увидеть, идя по щедрой, зеленой, плодородной Украине – деревень, стертых с лица земли, выжженных, разрушенных, без единого живого человека…
Сколько городов пришлось пройти, где не было ничего, кроме развалин. А ведь когда-то здесь были люди – каждый дом был полон людей, – и шумные улочки, и всюду дети, и звонкий смех… Недавно. А казалось, будто уже годы, годы пролетели над этими развалинами, покрывая их плесенью, заметая пылью, разрушая весенним ливнем, летней жарой, осенней слякотью. За городами и городками были овраги, заваленные рыжей глиной, хранящие в себе сотни и тысячи убитых, брошенных в общую яму мертвыми и живыми. Словно ужасающий ураган пронесся над этой землей, доброй, милостивой, доброжелательной к человеку. Ведь Стефек помнил, как он ездил когда-то в Киев, как смотрел из окна вагона на беленые дома, широкие шумящие поля без края и границ, на сады, на красные огоньки мальв, на веселые грядки ноготков в садиках. А теперь всюду разросся высокий бурьян, раскинулись широкими звездами седые листья чертополоха, тянулись вверх их колючие стебли. И сожженные села, и разрушенные города, и могилы, могилы повсюду, куда ни глянь, кладбища без конца…
Нет, лучше об этом не думать. Лучше думать о том, что через несколько минут он увидит Соню. Какова она теперь, Соня, после этих трех лет? Изменилась? Нет, все могло измениться, только не она. Они встретятся, будто расстались вчера. А уж потом будет время рассказать друг другу историю этих трех лет, прожитых в разлуке. Сердце замерло на мгновение и снова стремительно заколотилось.
Что пережила Соня, что она видела в эти три года? Как она их пережила?
И вдруг его пронизало холодом так, что, несмотря на теплый, солнечный день, концы пальцев окоченели. Почему так нереально, так как-то странно думается о Соне? Он упорно повторяет себе: «Через четверть часа, через несколько минут я увижу Соню». И боится, что говорит неправду. Что скажет Соня, каковы будут ее первые слова?
«Ведь я же не помню ее голоса, – удивляется вдруг Стефек, подсознательно убыстряя шаг. – Как же это может быть? Помню только смех – как она смеялась тогда, когда я увидел ее впервые…»
Нет, неправда, не впервые. Он же знал ее с детства, эту черненькую Соню Кальчук. Только как бы не замечал. А потом, когда же это было? На какой-то свадьбе. На чьей же это могло быть свадьбе? Вдруг зазвучал в сенях веселый, звонкий смех, не похожий ни на чей другой. И какая-то из женщин сказала:
– Ого, девушки Кальчуков пришли.
И тогда он увидел ее словно впервые. В желтой косыночке на голове, с румянцем на смуглых щеках. С этими черными глазами. Именно такую, смеющуюся от всего сердца. И он вдруг поразился. «Это – Сонька? Почему же я, дурак, не замечал ее? Где же были мои глаза?»
Да, на той свадьбе и началось. И нельзя было понять, почему не раньше. Почему, когда они вместе пасли коров над рекой, когда он приходил к Кальчукам на пасху, когда он видел эту Соню сто и больше раз, никакой голос не шепнул ему, что это именно она, единственная, родная, избранная из тысяч, как об этом пелось в песенке.
И сейчас он мог бы вызвать в памяти тот смех, именно тот, раздавшийся в набитых народом сенях как радостный сигнал, – что вот случится в жизни что-то самое важное, что-то необыкновенно прекрасное. Но не мог вспомнить ее голос. Каким же был этот голос? Усиленно, мучительно он пытался вызвать в памяти звук Сониного голоса. На кудрявившихся вдоль дороги ивах чирикали, перепрыгивая с ветки на ветку, какие-то маленькие птички, и их звонкое щебетание заглушало все. Сквозь этот птичий щебет нельзя было расслышать Сониных слов. Правда, эти маленькие птички гнездились здесь всегда, их была уйма летней порой. И они не пели, а именно щебетали, попискивали, шумели весь день, с утра до ночи, хлопотливо суетились на ивах, словно занятые каким-то чрезвычайно важным, только им известным делом Смешно, что можно обращать внимание на каких-то птичек, в то время как через минуту…
Нет, как раз так лучше. Все рассматривать, постепенно вспоминать, возвращаться к каждой детали, воспринимать всем сердцем знакомые места, каждую мелочь – красные пучки щавеля, и ветки хмеля, и мясистые листья уже отцветших жабников меж незабудок. Лучше не думать, что через минуту… Ах, что будет через минуту?
«Как тут зелено!» – вдруг удивляется Стефек знакомому виду. Будто он успел забыть и теперь сызнова находит эту буйную, сочную зелень, черпающую соки из подземных вод, из туманов, встающих над озером, из реки, из частой сети ручьев, светлыми струями журчащих повсюду. И вместе с тем – все по-старому, все знакомо, словно он никогда не уходил отсюда… Разве только ольхи подросли немного да гуще кудрявятся ивы.
И вдруг – словно удар в сердце.
Закопченные, обожженные бревна. Из зелени, словно одинокий столб, торчит труба, остатки разрушенной печи. «Чей это дом?» – лихорадочно вспоминает Стефек. Но не один дом такой. За первым пепелищем виднеется второе, третье. Неужели Ольшин нет? Неужели и здесь его ожидают Козары?
Но вот глаза, бегущие по развалинам, останавливаются: дом! Рядом другой. Еще и еще. Нет, деревня есть, деревня все же есть. Лишь несколько домов сгорело. Но маленькая, тихая, какая невероятно тихая эта деревня! Когда смотришь на нее так, с пригорка, кажется, будто там, внизу, все дремлет, погруженное в заколдованный сон. «Не может быть, чтобы и раньше здесь было так», – удивляется Стефек. Но, должно быть, именно так и было. Это в его ушах теперь грохочет городской шум, гром орудий – бурные, стремительные годы, в которых не было места тишине. А здесь лежит деревня, окаймленная зеленью, в чаще кустов и деревьев, тихая, маленькая, – убогие, нищие Ольшины.
И вдруг он чувствует, будто потерял что-то, будто его постигло разочарование. Хотя он ведь помнит – так здесь было всегда. «Чего же я хочу?» – рассердился он на себя.
И все же чувство разочарования осталось. Это была обыкновенная деревня. Куда-то исчезло лучистое сияние, которое озаряло ее в памяти. Обыкновенная деревня.
Только именно в ней, а не в какой другой живет Соня. Именно в этой деревне его ожидает Соня.
– Во имя отца и сына… Панич Стефек?
Паручиха! Разумеется, это Паручиха. Исхудалая, постаревшая, но все та же. И так же растрепана, и так же шмыгает носом.
– О господи, иду за хворостом в ольшаник, гляжу, кто это такой? Мундир вроде не наш…
– Это польский мундир.
– Вот, вот! То-то у нас рассказывали, что в Лисках поляки стоят… Смотрю, кто такой, вроде знакомый… Выросли вы, что ли? Хотя, ну точь-в-точь такой, какой был! Только будто покрепче стали, что ли… Вот привел бог увидеть, не думала, не гадала! И – в Ольшины вернулись?
– Ненадолго… Отпросился из части, посмотреть…
– А на что тут смотреть, боже милостивый!.. Никого нет, одни бабы остались.
– Как одни бабы?
– Да известно… Кого немцы убили, кто в партизанах пропал. А кто остался – те все до одного в армию пошли, когда немцев прогнали. Так что одни бабы…
Вопрос так и вертелся на языке, но что-то не давало спросить. Переждать, переждать еще немножко, оттянуть мгновение, радостное или страшное… Ведь он уже тут, на месте, все равно сейчас узнает.
– А у вас что слышно? Как ребятишки?
– У меня-то? Боже милостивый! Что у меня может быть слышно? Двое младших померло… Ноги, руки у них так опухли, прямо как у утопленников, и померли оба прошлой весной – как раз когда в Паленчицах горело…
Паручиха рассказывала медленно, тягуче, словно думая о другом и искоса поглядывая на Стефека.
– Ну, а как Пилюк Павел?
– Павел? Павла немцы повесили… Когда же это? Ага, еще в сорок втором… На липе у церкви повесили. А Иванчук был в партизанах и, когда наши пришли, ушел в армию. И Хмелянчука повесили.
– Хмелянчука? – как-то механически удивился Стефек. – Хмелянчука-то за что?
– А бог их знает! Разве они скажут? Листовки, говорят, у него в доме нашли.
– У Хмелянчука? Листовки?
– Да разве я знаю? Так рассказывали. Может, и неправда. Другие-то говорили, что не листовки, а золото у него нашли. Давно уже слухи были, что у него золото водится… А в точности никто не знает, за что его повесили. Потому, Хмелянчук пришел сейчас же, как немцы пришли… Или нет, что я говорю! К весне он пришел. Пришел, а тут как-то вскоре и немцы приехали. И сейчас тех повесили и Хмелянчука с ними, всех вместе.
– А еще кого?
– Еще кого? Ну, Павла… И Осипа хромого, может знали его? На том краю… И старого Кальчука.
– Кальчука?
Паручиха расплакалась.
– И его, и его… Так, бедняга, и погиб вместе со своей Соней…
Земля закачалась под ногами Стефека. Зеленые заросли по сторонам дороги вздымались и опадали, как дым.
Паручиха шумно высморкалась в угол платка.
– И чем перед ними провинились наши Ольшины, господь их знает! Клуб сожгли. Тот конец деревни, что к реке, весь дочиста сожгли, сколько народу пропало, спаси бог… А потом еще бандеровцы пришли реквизицию делать, а какая тут реквизиция? Сами с голоду помираем! Так они давай людей бить на площади! Так били, кровь ручьями лилась… Партизанам, говорят, помогаете… Да кто им помогал? А опять, как же и не помочь? Придет бедняга в мороз, в метель, как ты ему не дашь ночлега или не накормишь? Свои ведь! Хуже всего им зимой приходилось. Бывало, зайдут в избы, выставят караулы и так побудут в избах, отогреются – и опять по своим делам. Которые из Ольшин с Иванчуком ушли, которые из других деревень, и красноармейцы с ними были. Их тут много от немцев из плена бежало. Те тоже с Иванчуком орудовали. Как же не помочь? Но чтобы так уж очень помогали, не скажешь. Деревня бедная, сами знаете, а тут еще война. Нечем и помочь-то было. Да еще со всех сторон напасти! То бандеровцы налетят, а уж эти – хуже немцев, последнюю корку хлеба у ребенка изо рта вырвут, и пикнуть не смей! Что им убить человека или хоть бабу! Уж так натерпелись, так натерпелись… Да что тут говорить – небось сами знаете, может еще лучше, чем я, темная баба…
Они прошли заросли, дорога пошла деревней.
– А теперь вы к кому же зайдете? – спросила Паручиха, отирая глаза.
Он бессмысленно блуждал глазами по улице, по бревнам изб.
– К кому зайду?
Куда тут идти, куда идти? Уже с сорок второго года нет Сони. С той весны под Валуйками, с той зеленой, радостной весны… «Когда же это случилось?» – мучительно старался он вспомнить. Как же он мог не почувствовать, что умирает Соня, его Соня? Умирает без него, одна в свой смертный час… А говорят, что есть предчувствия… Какие же предчувствия, если он не почувствовал ничего, если его не пронизал ужасом и отчаянием страшный миг, когда петля сжималась на Сониной шее? Он ничего не почувствовал и жил, жил, будто ничего не случилось. Два года – сколько раз он думал о ней за это время, не чувствуя, что ее уже нет… Вдруг Стефек остановился как вкопанный. Ведь ему снилось тогда, на аэродроме под Валуйками, что Соня уходит в какую-то тревожную, жутко мерцающую даль…
– Я почему спрашиваю? Ведь что ж так на дороге стоять! – неуверенно уговаривала его Паручиха. – Я бы к себе позвала, да у меня изба сгорела, перекинулся огонь, когда с того конца поджигали… Так уж, может, к старосте бы, что ли? Потому, сама-то я с детишками в хлеву приютилась, так вроде неловко… А ведь вы с дороги…
– А староста разве здесь?
– Здесь, здесь, как же… Одно время в лесу прятался, а теперь здесь. В армию-то его не взяли – стар, говорят, куда ему воевать!.. Так он уж здесь остался. Деревню, говорят, отстраивать будут – ну, он тут вроде этим занимается… Да куда там, ведь еще недели нет, как во Влуках бой был…
– То есть как это недели нет? – удивился Стефек.
– Так вы не знаете?
– Ничего не знаю, ведь немцев уже давно нет?
– Давно-то давно, – нерешительно заговорила Паручиха. – Да ведь не о немцах речь.
– О ком же?
– Да ведь они оставили здесь этих своих… бандеровцев. Вот с этими бандеровцами и дрались во Влуках. Во вторник, что ли? Во вторник и есть… Они-то думали, что во Влуках нет армии, вот и пришли они эти реквизиции делать. А там как раз красные стояли – да как дадут им! Говорят, всю банду разгромили. Да, верно, остались еще другие, по лесам бродят… Так что войны вроде и нет, а все же будто и есть. Неохота и браться ни за что, – кто его знает, что еще будет? Уж так натерпелись… Просто не верится, что уже кончилось… Что ж, я, конечно, дура-баба, ничего не знаю. А знать-то хотелось бы. Наверняка бы знать, что все уж кончилось, что опять будет по-прежнему…
– Скоро наведут порядок, – глухо ответил Стефек.
– Может, и скоро, – согласилась Паручиха. – Еще бы! Силища такая, дорога гудела, когда проходили. Так вы думаете, что фашиста совсем прогнали? А то он еще летал дня три назад… Правда, отогнали его…
– Вот видите, отогнали. Нет, больше они сюда не придут.
Скрипнула дверь.
– О, вот как раз и староста. Должно быть, увидел вас на улице… Кум, кум, смотри, какого гостя веду, встречай! А я уж побегу. Я ведь было за хворостом пошла, да вот панича Стефека встретила, так обо всем и позабыла… Уж позволь, кум, я тут щепочки подберу, что возле хлева валяются, а то ребятишки есть захотят, а сварить-то не на чем.
– Да бери… Тебе только бы выпросить что-нибудь… – проворчал староста и быстро обернулся к Стефеку. Стефек обнял его и увидел вблизи знакомые серые глаза, окруженные сетью морщин, и всклокоченные волосы, теперь совсем седые. Почувствовал в своих объятиях невероятно худое тело и удивился, до чего состарили эти годы старосту.
– Заходи в избу, – бормотал тот растроганно. – Заходи. Хотя что там есть? Вон на лавку садись, там тебе будет лучше. Не белено у меня. Да что ж, – когда бабы нет, так оно уж всегда так… нескладно.
Они долго молчали. Стефек смотрел в мутное оконце, на котором лениво жужжали большие черные мухи. Ощипанная фуксия, на ней висело всего несколько жалких сине-розовых цветочков, но и они заслоняли вид на дорогу. Староста медленно крутил из старой газеты цыгарку.
– А я уж и не думал, что ты жив… В польском войске, значит… Слышали, слышали мы про него. А во Влуках бандеровцы всех до одного поляков вырезали. Ребенок не ребенок, женщина не женщина – всех! У меня одна почти полгода пряталась в избе, пока наши не пришли. С маленьким ребенком. А мужа ее, она рассказывала, живым в огонь бросили. И мне они задали, ох и задали! Давай, говорят, реквизицию. А откуда я им возьму, когда в деревне голод? Сперва немцы ограбили, а потом и эти явились. Думал, повесят – нет, не повесили, только палками избили так, что я еле ползком добрался. Больше уж сюда не приходили – говорят, Иванчук ихний отряд разбил. А в прошлый вторник, глядь, во Влуках появились. Да там их, говорят, армия истребила.
Староста умолк и, сложив на столе свои узловатые руки, внимательно рассматривал их.
Молчал и Стефек. Мухи в Старостиной избе, сколоченный из досок стол, все такой же черный, как прежде, и огромная печь, выпятившаяся до половины избы… Ничто не изменилось, ничто – только поседела, словно присыпанная серым пеплом, голова старосты, его неприглаженные, по-прежнему торчащие во все стороны волосы. Если ни о чем не думать, может показаться, что все здесь по-старому. Пусть хоть на минуту покажется, что не было ни войны, ни гитлеровцев в Ольшинах. Над озером по-прежнему стоит клуб, и вот-вот сюда может зайти Гончар, который погиб в самом начале войны, еще в июне…
Звенели мухи, сонные и опьяненные жарой, спокойно сидел староста за столом – как раньше. Только все это было не настоящее – ведь уже не было, не было Сони…
Колокольчики фуксий, отогнутые темно-красные лепестки. А вниз свешивается синий колокольчик, и из него выглядывают длинные белые тычинки. Ольшины, Ольшины…
Нет, и на минуту не обманешь себя – каждое воспоминание тотчас наталкивается на действительность, на эти прошедшие три года, на все, что произошло здесь, в Ольшинах, – потому что нет уже, нет Сони.
Нужно спросить о ней. Ведь староста знает, должно быть, лучше, чем Паручиха. Как же спросить?
И тут же Стефек слышит собственный, но совсем чужой голос:
– А… ваша жена?
Оттянуть еще немного время… Может, Паручиха ошиблась… Ах, как глупо, ведь он вовсе так не думает. Ясно, что она не могла ошибиться. Но сердце трусливо сжимается. Не сейчас, не сейчас…
– Моя-то? Померла. Один теперь остался в избе, как барсук. Сейчас хоть работы много, все заново начинать приходится, так думать времени нет. А все же тяжело мужику без бабы. Вот цветочки и те без хозяйки пропадают, хоть я и полью каждый день и на окне стоят, как раньше. Известно, без хозяйки дом сирота… Соседка забегает прибрать, постирать, да куда там! Соседское хозяйство – не свое…
Он говорил медленно, как будто равнодушно, и думая о другом. Наконец, замолк и откашлялся. Стефек взглянул на него. Староста снова крутил цыгарку и лишь мгновение спустя спросил:
– Так ты, значит, ничего о нас не слышал с тех самых пор?
– Нет, откуда же?
– Верно, верно… Уж скорее от вас что-нибудь доходило, да и то редко. Знали только, где армия дерется, вот и все… Так я уж тебе все с самого начала…
– Лучше всего так, с самого начала.
Староста откашлялся. Махорка высыпалась из разорвавшегося клочка старой газеты, и он сызнова стал крутить цыгарку.
– Только ты ведь с дороги, может хоть квасу напьешься? Молока-то нет, а квас соседка поставила. Да куда там! Не то, что, бывало, покойница…
– Ничего не надо. Я недавно ел. Ведь мы всего в четырех километрах отсюда стоим…
– Знаю, в Лисках. Значит, сразу, как наши ушли… Когда это началось – война, значит, – сперва никто и не верил. Во Влуках там, в Паленчицах ходили слухи. Но мы рассуждали, что мало ли, мол, что люди болтают, язык без костей. А оказалось – правда! Смотрим – нет наших! Говорят, уже в Луцке дерутся, уже в Ровно. А у нас тихо – известно, глушь, все стороной прошло. Мы уж надеялись, что все это только так и вот-вот наши вернутся и мы этого антихриста и не увидим, обойдется, как в тридцать девятом году… Да куда! Вдруг как навалились, как навалились фашисты, и сразу айда по избам шарить… Бабы – в слезы. Да разве у него выплачешь чего?.. Все дочиста ограбили, коров взяли, свиней взяли. Давай допрашивать, – кто был в сельсовете… Никто не сказал. Народ у нас не то чтобы очень хороший, а когда беда пришла, оказалось и не такой уж плохой. Били, били, ни из кого ничего не выбили. Ну вот, застрелили одного перед клубом, клуб сожгли. Помещик, говорят, из Германии приедет, так чтобы этих участков, что людям роздали, – ни-ни, пальцем чтоб не тронули. И коммунистов чтоб ловили и в город доставляли. Ну, Петр Иванчук, и другие, что с ним, – тоже не дураки, не стали дожидаться, сразу ушли в леса, в болота. Ну вот. После этой реквизиции осталась деревня голодная, разутая, раздетая. Забрали все, что могли взять, и ушли. По правде сказать, мы их потом почти не видели. Но все несчастья на нас свалились. Пришла зима – не дай бог! Мороз такой, что деревья трещат, а тут и затопить нечем, в рот положить нечего. Лес есть, а что с того лесу? Строго-настрого запрещали хоть щепочку из лесу брать. А потом – как ты ее возьмешь? Коней нет – у кого и были, так еще с осени забрали… И снегу навалило. Не то что в лес, а из избы в избу хоть с лопатой прорывайся. Мы уж думали, мало кто эту зиму переживет. А весна пришла, того хуже – голод! Ребятишки мерли, как мухи. Ну, летом кое-как подкрепились, а тут вторая зима, да не лучше первой. Тут уж мы думали – все перемрем… А тут бандеровцы, а тут хвороба какая то по деревне пошла… И стали люди говорить, что так уж навеки останется, что наши забыли о нас, отреклись, никогда не придут. Но от Иванчука давали знать – неправда, мол, придут! Люди чуть опять головы поднимут, а тут вдруг сообщение: опять наши отступают… Эх, что говорить! Жить не хотелось. Вот я и говорю моей – она в ту пору еще жива была, – чего, говорю, я буду тут сидеть, как крыса в норе, пойду в лес, все-таки легче… Орала она на меня, ругалась так, что слушать страшно. Ты, говорит, старик, какая от тебя там корысть? Только руки им свяжешь, больше хлопот от тебя, чем пользы. А у меня и правда с ногами что-то приключилось, еле таскаюсь. Старуха, думаю, правду говорит, какой я вояка? Так и сидел в деревне. По правде сказать, и не верил, что дождусь. Вот старуха моя не дождалась, а уж как ей хотелось, ох, как хотелось! Когда уже больная лежала, говорит мне: «Знаешь, Афанасий, я уж ни о чем бога не прошу, только об одном – чтобы еще дождаться, одним глазком взглянуть, как наши возвращаются, а потом и умирать не жалко…» И вот умерла, не дождалась.







