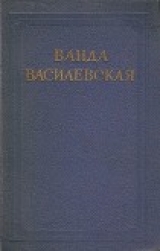
Текст книги "Том 4. Песнь над водами. Часть III. Реки горят"
Автор книги: Ванда Василевская
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 33 страниц)
Теперь, когда до Ольшин уже так близко, хотелось, чтобы Соня была именно там. Ведь если она работает где-нибудь далеко, на Урале или за Уралом, – когда же он ее увидит, как ее разыщет? Зато, если она в Ольшинах…
Конечно, она в Ольшинах. Вряд ли ей удалось уехать. Раньше он уверял себя, что Соня обязательно где-то в глубине страны; теперь это казалось ему невероятным. Она может быть только поблизости, за Киевом, который туманным силуэтом уже рисуется перед глазами, или в Ольшинах. И, думая об Ольшинах и о Соне, он забывал, какое теперь время. Будто война уже кончилась.
В Ольшинах ждет Соня. Изменилась ли она за эти три года? Может, и изменилась. Но помнится она такой, какой была раньше, – смуглое лицо, алые, будто нарисованные губы, черные веселые глаза. Она любит смеяться, она всегда полна смеха, ежеминутно готового вырваться на волю, зазвенеть, заискриться, затрепетать в воздухе. И какой это смех, не похожий ни на какой другой, веселый, прозрачный смех. Ждет его в Ольшинах Соня. И теперь нечего больше откладывать. Теперь они справят свадьбу, какой еще не видывали в Ольшинах.
Он уже перебирал в памяти музыкантов, кого бы лучше позвать, чтобы плясать три дня и три ночи, а то и дольше. Ведь рассказывали же, что когда старый Рафанюк женился на Параске, которую отдавали за него силком, то, чтобы показать себя, целую неделю справлял свадьбу. Говорят, вся деревня пьяная лежала. Уж какой был скупой, а тут всех угощал, даже самых что ни на есть бедняков. А Стефек ведь берет жену по любви. Он справит еще лучшую свадьбу. Не надо, чтобы люди перепились, надо, чтобы они весело плясали, чтобы Сонин смех раздавался над озером, чтобы дом ходуном ходил и притопывал, чтобы Ольшины просто захлебнулись музыкой. Чего ж им с Соней надо? Быть вместе, и больше ничего. Шумная свадьба – это только чтобы надолго запомнили. А после свадьбы? Тогда, перед войной, им хотелось в город – жить в городе, работать в городе. Но теперь он даже не понимал, как ему могло хотеться уехать куда-нибудь из Ольшин – от озера, от реки, от милых, знакомых мест? Даже странно подумать о себе и о Соне где-нибудь не там, не на этих тропинках, исхоженных по сто раз, не на выгоне у реки, не в ольховой роще или в лодке на озере.
Холодный ветер еще отдает зимой. Но ведь уже апрель. Пока поспеешь в Ольшины, будет настоящая весна. Все зазеленеет, зазолотится от жабника, заголубеет от незабудок – к свадьбе, к их с Соней свадьбе! Заколышутся высокие травы, запоют птицы на опутанных хмелем кустах…
– Вот вам и сон! – громко сказал кто-то у самой платформы.
Стефек вздрогнул, вырванный из полудремоты.
– Что случилось?
– Две сотни бомбардировщиков идут на Киев. «Юнкерсы». Из Киева дали знать.
На платформах засуетились. Оживились вагоны на соседних путях. Зазвучали голоса. Заспанные люди вылезали из вагонов, глядя на запад, где днем виднелась колокольня лавры. Теперь она скрылась, хотя ночь не была темной: где-то за неглубокими тучами таился месяц и не давал черноте быть черной. Даже силуэты близких деревьев не выделялись, сливались с фоном. А там, подальше, все сгущалось еще плотнее, окружая человека невидимой стеной. Люди двигались осторожно, будто и вправду можно было наткнуться на эту стену, несуществующую, но ясно ощущаемую.
– Ничего не слышно?
Они искали во мраке места, которые так отчетливо видны были днем, – зубчатую неровную линию города на холмах, так похожую на линию леса на горизонте, что можно было бы принять этот далекий город за лес, если бы не колокольни и несколько больших зданий, нарушающих иллюзию своей прямолинейной геометрической правильностью. Теперь не было видно и этих очертаний. Все пространство заполнил рассеянный, негустой мрак.
Далеко, далеко слышался глухой рокот, едва уловимый гул – это дышал фронт. Но над Дарницей воздух был пуст и нем.
– Они над Киевом.
В рассеянном, ровном мраке появились искорки. Они вспыхивали и гасли, на мгновение сверкнув в небе.
– Зенитки бьют.
– На нас они идут или на город? Бомб не слышно!
– Чего им на город бросать? Что там, в городе? А тут… Небось уж знают, сколько здесь составов скопилось. Да и мост разрушить охота…
– Тише, не болтайте, послушаем!
Стефек стиснул зубы. Сердце бьет в набат. Ведь вот не впервые он это переживает, а привыкнуть не может. И хуже всего именно ожидание. Даже первая бомба приносит какое-то облегчение – сердце успокаивается, начинает биться ровнее. Потому-то Стефеку – и не ему одному – так хочется, чтобы скорей уж началось.
Искорки в небе сгустились. И вдруг где-то далеко – над городом или немного ближе сюда, к Дарнице, – повис огромный фонарь, осветительная ракета.
Уже слышался протяжный, прерывистый гул моторов. Эти перерывы пугали – будто мотор замирал на мгновение, готовясь к чему-то ужасающему. Гул все усиливался, превращался в рев, надвигался, как гроза. Сомнений не оставалось. Враг не собирался нападать на город, огрызающийся сотнями зениток. Самолеты шли сюда, где поблескивающая лента реки обнаруживала черную поперечную линию моста и выдавала лежащий за ним огромный дарницкий железнодорожный узел, забитый десятками поездов.
Над городом, как меч из голубой стали, поднялся луч прожектора. За ним второй. Десятки, сотни прожекторов обшаривали мрак, мощными взмахами, как гигантские метлы, обметая небосвод. Все ближе гремели зенитки, все ближе слышался рокот моторов, он наполнял воздух – казалось, ревут и небо и земля. Над лесом, вырвав из тьмы верхушки черных сосен, повисла на парашюте ракета. Потом другая, третья. Все ближе и ближе протяжный, долгий вой – и, наконец, грохот первой бомбы.
– Бросают!
Затарахтели пулеметы. Повернулись стволы зениток на платформах.
Вой раздираемого воздуха. Это уже не бомбы… Словно внезапный вихрь налетел на землю. В свете висящих над путями ракет неожиданно вынырнула, как бы над самой платформой, чудовищная морда гигантской стрекозы, тупая и зловещая.
– Пикируют.
Из леса била артиллерия. С платформы короткими, отрывистыми залпами стреляли зенитки.
– Пикирует!
Бомба грохнулась на пути, взметнула к небу обломки вагонов. Все пытались сбить ракету – кто-то упорно стрелял из автомата. Наконец, это удалось. Но вместо нее вспыхивали все новые. Над Дарницей стало светлей, чем днем. Резкий белый свет залил рельсовые пути, вагоны, обнажил круглые бока цистерн, штабеля ящиков с боеприпасами, лесные опушки. Протяжный стон моторов, грохот орудий, свист бомб, короткий лай пулеметов сливались в сплошной гул. Фонтаном взлетали в воздух доски, балки, обрывки жести и, как при замедленной киносъемке, тяжело сползали на землю.
– Цистерны, оттянуть цистерны! – раздалась чья-то резкая команда. Стефек бросился к вагонам. Его опалило пламенем, ослепило нестерпимым светом, в царящем вокруг безумии трудно было что-либо разглядеть. Он протиснулся между двумя мощными, круглыми валами цистерн, увидел огромный крюк, сверкающие звенья цепей. Где-то поблизости упала бомба – закачалась, поплыла земля под ногами. Это подстегнуло солдат, как кнутом. Слились слова русской и польской команды, пытающейся перекричать адский шум. Под вагонами перебегали солдаты, исполняя приказания командиров. Кто-то взывал о помощи, кто-то с явным польским акцентом ругался по-русски. На вагоны посыпались и с шипением покатились, взрываясь ярким белым пламенем, зажигательные бомбы.
Невдалеке, за путями, все чаще трещали беспорядочные выстрелы. «Боеприпасы!» – мелькнуло в голове Стефека. Рвались сваленные вдоль полотна ящики с боеприпасами. Они взвивались вверх, как ракеты, рассеивая снопы искр. Всюду стлался розовый дым, он врывался в горло, ел глаза.
Стефек начал отцепку. Он напряг все силы, и вот под его руками соскользнул первый крюк, заскрежетали упавшие цепи. Подскочившие красноармейцы оттолкнули цистерну. Она дрогнула и медленно покатилась к лесу.
– Снарядов! Давай снарядов! – услышал Стефек крик с платформы, откуда непрерывно гремели зенитки. И в то же мгновение, при свете взрыва, увидел рассыпанные под вагоном темные цилиндры. Он нырнул под вагон, за ним кинулись другие – снаряды стали быстро передавать из рук в руки. Воет вражеский самолет. Он тут, над самыми вагонами, так близко, что не слышно даже воя бомбы: стремительный, глухой удар в землю – и внезапный взрыв, волна воздуха в лицо, песок во рту, град осколков, решетящих вагоны.
– Снарядов, снарядов сюда! – отчаянно кричит кто-то с платформы. На платформе пламя, она горит, но никто с нее не соскакивает. Торчат вверх, поворачиваются черные стволы зениток, целя прямо в толстые сигары пикирующих самолетов. Секунду видна грозная, уродливая морда чудовищной стрекозы – и сразу живот, сверкающий, как у акулы. Пошел вверх.
Вдруг торжествующие крики:
– Попали, попали!
Над лесом падает метла пламени. Отчетливо виден охваченный огнем корпус самолета. За ним тащится хвост дыма, чернее неба, не видного над освещенной слепящим светом землей.
Где-то в лесу падает самолет. Слышен оглушительный треск. Скрежещут вагоны, ярким пламенем горит цистерна.
– Снаряды, давайте снаряды!
Стефек перепрыгивает через тела, лежащие у путей. Там, у других вагонов, есть еще снаряды. Небрежно разбросанные, они поблескивают в пламени горящих вагонов. Когда Стефек хватает их и бегом несет к платформе, руки ощущают тепло – металл уже согрет пламенем ширящегося все больше, вспыхивающего все в новых местах пожара. Но Стефек ничего не видит, ничего не слышит – только одно: снаряды! Под вагоны, возле вагонов, к платформе, скорее, скорее! Гудит, гремит воздух. Налетают волнами, появляются из темноты чудовищные морды, где-то рядом трещит автомат, те – с самолетов – жарят по вагонам, по платформам, по мечущимся людям.
– Снарядов, еще снарядов! – кричит подпоручик с платформы, и Стефек видит его почерневшее, залитое кровью лицо, шинель в пятнах крови. Подпоручик стоит на коленях. – Снарядов! – кричит он. Ствол зенитки вращается в поисках самолета, который с секунды на секунду опять появится над их головой. Подпоручик кричит. Кровь заливает его глаза, он то и дело отирает их рукавом. Теперь он уже не стоит на коленях, а как-то странно присел, перегнувшись на бок, и стреляет, стреляет, и хрипло кричит: – Снарядов!
Из дыма и пламени снова с резким визгом возникает самолет, он проносится мимо платформы и, воя моторами, взмывает вверх. Прямо перед глазами крест на освещенных пожарами крыльях. Сердце подпоручика сжимается от ненависти.
Знакомый знак… Где это он? Что там, вдали, Мадрид?.. Пахнет оливами?.. Земля испанская, далекая. «Где же я? Какой это год?»
…Тюрьма, черная решетка, перечеркнувшая жизнь. Жестяной лист, ревниво заслоняющий небо. Смрадная камера, в то время как за окнами цветет весна. Долгие ночи, трудные дни, жизнь, крадущаяся между лапами полиции, на трамвайных станциях и в пригородных поездах. Ночлеги у чужих и все же таких близких людей, шелест листовки в руках. И снова арест, и топот надзирателей за стеной, и бредовые видения голодовки. Высокий сапог, пинающий в живот, в ребра; падение с лестницы в карцер, головой на цементный пол. Тюремная решетка, дни, утопающие во мраке, дни, навсегда потерянные, зеленая молодость за тюремной решеткой. Ох, свободы, свободы! Вздохнуть полной грудью, расправить плечи, высоко поднять голову! Но где она – свобода? На улице, на которую тебя, наконец, выпустили, на улице, где отдаются шаги полицейских, где с первой же минуты освобождения ты слышишь за собой шелест крадущихся шагов и, как тень, ползет за тобой шпик? Где же свобода? Куда идти, чтобы не привести за собой эту тень, чтобы не показать ей дороги?
…Далекая Испания. Свобода, встающая в урагане боев на далекой испанской земле…
Нелегко туда пробраться, но подгоняет жажда свободы. «Я землю покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать…» Черные плоскости самолетов, вой бомбы над Мадридом. Разноязычный говор, братья из всех земель и стран, борющиеся против черного паука, против свастики.
Вот он опять перед глазами, черный крест свастики… Все перемешалось. Что это взлетает в воздух – дарницкий песок или светлая испанская земля под Мадридом?
…Колючая проволока лагеря во Франции. Мрачной, безжалостной предстает перед ними «прекрасная Франция». О прекрасная Франция! Ведь и за тебя и за твою свободу погибли те, под Мадридом, погиб Юстин Яшунский и Антек Коханек, и все они из батальона Мицкевича, из бригады Домбровского. Горек твой лагерный хлеб, прекрасная Франция, и лица твоих стражников слишком похожи на лица польских полицейских!
Кто подает команду? Генерал Вальтер? Генерал Вальтер ведь тоже здесь – тот же, будто ничего не изменилось… Один путь с зеленой юности, с той тюремной камеры, на улице Даниловича, через землю Испании, через лагерь во Франции… Пышет жаром Африка. Там, далеко, за голубым Средиземным морем, на севере своя земля, над которой безнаказанно летают самолеты со свастикой. Улицы Варшавы, где знаком каждый камень и каждый дом. Что осталось от этих камней и домов? Жарким дыханием дышит Африка. Нет, это же Дарница.
– Снарядов! Где же, ко всем чертям, снаряды!..
Ноги будто налиты свинцом. Кровь заливает глаза, но нигде не болит. Лишь бы стрелять, лишь бы было чем стрелять!
Мчится, безумствует огонь. – Это я, это я, это я – подпоручик польских войск, в польской форме, идущий к родной польской земле через советскую, родную землю. Мадрид ли это в пламени, дыму и грохоте?.. Варшава ли в огне, в разрывах бомб?.. Нет, это Киев, Киев.
Надо заплатить долг мести – за Мадрид, за Варшаву, за советские города и села!
И надо заплатить еще другой долг – за двадцатый год, когда белые орлы на польских фуражках возбуждали ненависть и ужас киевлян.
Слышишь, Киев? Это гремят польские орудия, это польский солдат сражается и умирает у твоих стен. Смотри же со своего высокого берега, Киев, как сражается польский солдат – не против тебя, а за тебя! Смотрите, далекие земли, как в огне и крови осуществляется заветнейшая мечта о братстве, непреклонная воля к дружбе.
– Снарядов!
Весь мир закружился в вихре.
«Кажется, я ранен», – думает подпоручик. Но боли не чувствует. Вот только приподняться трудно. Ничего – можно стрелять и лежа…
Он протягивает руку – снарядов нет… А самолет – вот он, совсем рядом. Он ускользнул. Нет снарядов!..
И отчаянным, хриплым голосом, захлебываясь кровью, он зовет:
– Коммунисты, ко мне! Снарядов!
Смертельный призыв. Призыв уже не устами – всей силой напряженной воли. Последний призыв.
Может, все уже погибли? Может, никого уже нет и он один рвется, пытается приподняться у накаленного орудия? Может, они лежат раненые, не в силах шевельнуться? Нет, нет, кто-то должен ответить на этот зов. Товарищи по тюрьмам, товарищи по испанским походам!..
– Коммунисты, за мной! – нечеловеческим голосом кричит рядовой Румеля, неграмотный батрак из Люблинской области, никогда в жизни не принадлежавший ни к какой партии. Как безумный, он кидается сквозь пламя – туда, где красные языки уже лижут сваленные в кучу деревянные ящики со снарядами.
– Туда нельзя, сейчас они будут рваться, – кричит кто-то прямо в ухо Стефеку. Но он не слушает. Ящик разбит одним ударом сапога, руки, не чувствуя заноз и острых гвоздей, срывают доски.
– Эй, кто там, помогите тащить! Слышите, черт вас возьми, здесь целый ящик снарядов!
– Давай, давай, – наклоняется кто-то рядом. Подбегают еще несколько красноармейцев.
– Снарядов, снарядов!.. – хрипит на платформе подпоручик. Доски горят под его ногами, языки пламени поднимаются к орудию, уже тлеет край его мокрой от талого снега шинели.
– Сгорите! – кричит ему кто-то, но подпоручик стреляет, крича, как в бреду: – Снарядов! – хотя снаряды ведь уже есть, есть!..
Следующий ящик – подтащить его через рельсы, через вырванные шпалы, через груды железного лома… Откуда его столько, этого лома? Черные силуэты на платформе мечутся в пламени, как черти. И только подпоручик полулежит и стреляет.
И вдруг вся платформа черным фонтаном летит в воздух. Ствол орудия в воздухе, летят черные клочья…
Тьма.
«Где я, что случилось? – думает Стефек. В спине мучительная, тянущая боль. – Неужели я еще в госпитале во Львове?»
И страшный взрыв отчаяния. Неужели все было лишь сном – красное знамя над Ольшинами, учеба в Лунке, война, Красная Армия, капитан Скворцов? Неужели время отступило назад, и снова тридцать девятый год, и все кругом рушится в прах?
Огромным напряжением воли Стефек вырывается из обморока и видит над собой багровое вздрагивающее небо, мечущихся в дыму и пыли людей.
– Это Дарница! И самолеты пикируют на наши вагоны…
Он осторожно шевелит правой рукой, левой рукой, потом ногами. Руки и ноги целы, ран нигде нет.
Он приподнимается. Перед глазами какие-то доски, месиво из железа. Сквозь спицы колес вагона, как в окошечко, виден мелькающий розовый свет. «Нет, это не рана, просто отбросило волной…»
Рука нащупывает что-то шершавое и холодное. Снег! В свете пылающего где-то поблизости огня видно, что он грязен, осыпан сажей. Но все равно – как хорошо, что здесь снег! Горсть снегу в рот, горсть снегу на голову, сейчас станет лучше… Почему ничего не слышно? Ведь кругом люди, и видно, что они что-то кричат. В стороне вспыхивают огоньки – там стреляют, но выстрелов не слышно.
– Оглушило…
Он с трудом становится на четвереньки, потом на колени. По ту сторону пути кто-то бежит, видны только ноги. Стефек встает и, шатаясь, как пьяный, опираясь руками о стенки, бредет вдоль вагонов. Вдруг стало светло, как днем. В воздухе повисла ракета – призрачный фонарь, освещающий бойню. Поваленные вагоны, лафеты вверх колесами – все рисуется четкими, черными силуэтами на красно-розовом фоне. Дальше почти белым, высоким пламенем пылает цистерна. Воздух насыщен гарью.
– Дали они нам пасху! – говорит кто-то, и эти слова вдруг доносятся до Стефека громко и внятно. Завеса молчания разорвана. Теперь он уже слышит все – выстрелы, скрежет железа, голоса.
– Крой, крой по ракете, а то опять прилетят!
– Все равно от этого бензина светло, как днем!
Но висящая в воздухе осветительная ракета вдруг гаснет, как задутая свечка. Опадает и пламя цистерны. И становится заметно, что уже наступил мутный рассвет. Месяц исчез. Хотя пламя еще бушует кое-где, но стало видно небо – серая, грязная парусина, развешенная над землей.
– Ну, теперь точка, среди бела дня они не станут летать над Киевом, – говорит чей-то голос, и это голос его поручика.
Стефека увидели:
– Плонский! Живой! Откуда ты взялся?
– Отбросило взрывом, – бормочет Стефек. Язык не слушается, губы онемели, и собственный голос кажется ему странным.
– Ранен?
– Нет, нет… – говорит он неуверенно, цепляясь за стенки разбитого вагона.
– А ну положите его, ребята!
– Да нет, что вы! – протестует Стефек, но солдаты его втащили на платформу и сразу заторопились:
– Ребята, путь ремонтировать! Будут пропускать поезда. Мост цел.
У Стефека руки как из ваты. Конечно, на работе от него мало толку. Он лежит и глядит в серое, грязное небо. И вдруг его заливает радость:
«Вот и мы показали себя не хуже, чем те, под Ленино!» – думает он, и ему вспоминается раненый подпоручик, стреляющий в черную морду пикирующего бомбардировщика.
В свете встающего дня видно пожарище. Рельсы, вздымающиеся к небу, черные остовы сожженных вагонов, вагон, вставший на дыбы, расколотые в щепки сосны, а дальше какая-то каша из железа, досок, орудий…
«Там был эшелон», – вспоминает Стефек. Но эшелона нет, на его месте груды расщепленных досок и вывороченных шпал. Зияют огромные провалы в земле.
А это – там, за железнодорожными путями? Кто они, лежащие рядами, плечом к плечу, будто спят?
«Да ведь это наши…» – вдруг осознает он. Ряд убитых лежит вдоль изрытого полотна. Товарищи накрыли трупы шинелями.
«Я даже не знаю еще, кто остался в живых, кто погиб», – думает Стефек, но встать, спросить кого-нибудь, подойти к тем, что вытянулись рядами под шинелями, у него не хватает сил.
«Теперь и мы, теперь и мы, как те под Ленино… – упорно возвращается к нему все та же мысль. И за ней другая: – Какое счастье, что это уже не Голоско, не львовский госпиталь, не те сентябрьские дни, полные черного отчаяния, что это – сорок четвертый год, что мы уже на пути возврата, победоносного возврата на родину!»
Странно, что так ужасно хочется спать, а уснуть – никак не уснешь. Будто в кино, проходят перед глазами обрывки всего пережитого за эту ночь. Начиная с того разговора о пасхе…
«Вот видишь, Соня, вот меня и не убили», – говорит Стефек себе и ей, той, что ждет его недалеко за Днепром, через который начнут пропускать поезда тотчас, как будет исправлен путь.
– Плонский! – зовет поручик. – Немедленно отправляйся в санитарный вагон. Раненых забирают в киевский госпиталь.
Стефек вскакивает. Нет, только не это! Опять госпиталь, – а они пойдут дальше, вперед? Нет, он не останется. Усилием воли он становится на ноги, вытягивается, стараясь не пошатнуться.
– Разрешите доложить, гражданин поручик, я здоров!
Поручик подозрительно оглядывает его:
– Напра-во!
Стефеку удается четко выполнить команду, щелкнув каблуками. Поручик машет рукой.
– Ну, черт с тобой, оставайся.
Снег черен от сажи, рыж от крови. Вся станция – одно огромное пожарище. Люди с топорами и лопатами направляются к полотну.
– Надо успеть до вечера.
Но ослабевшие руки Стефека напрасно стараются удержать лопату. Лучше уж не попадаться никому на глаза в таком состоянии. А то поручик еще передумает и отправит в Киев.
У разбитой платформы два солдата чистят винтовки.
– Ну и справили нам пасху… Я же говорил…
– Обещали яйца вкрутую…
– Как раз, яйца! Повара разорвало, говорю тебе, рубленая котлета осталась…
– Жаль подпоручика.
– Говорят, его уже в воздух подняло, а он все стрелял.
– Глупости! Как ты будешь стрелять в воздухе!
– Не я говорю, я не видел, красноармейцы рассказывают.
– Чего вы тут копаетесь? – раздается суровый голос командира роты. – Вам что, еще одну ночь здесь ночевать охота?
– Винтовки чистим, гражданин поручик!
– Почистите потом, в вагонах. А сейчас за лопаты – и марш!
К вечеру колеса вагонов застучали по мосту. Поезд шел медленно, будто полз, неуверенно нащупывая дорогу. Внизу Днепр. На льду какие-то черные лохмотья. Запах гари в воздухе.
Стефек сидел в открытых дверях теплушки. Нет, не страшен даже этот запах гари. Это не тот страшный, удушающий запах сентябрьских дней, когда горели беззащитные города и деревни. Это – запах боя.
Часовые на мосту. Вот седой коренастый красноармеец машет им рукой.
– Молодцы поляки! – кричит он неожиданно молодым, звучным голосом.
Стефек прикрывает глаза. Голова еще кружится, в ушах то и дело начинает шуметь и трещать.
– Молодцы поляки!
Так кричали тем, из Первой дивизии, под Ленино. И как Стефек им завидовал… А вот теперь советские солдаты, которые видели и Сталинград, и Севастополь, и сотни боев, каких не знал до сих пор мир, кричат солдатам с белыми орлами на шапках: «Молодцы поляки!»
Он вспомнил радиотехника, киевлянина, который когда-то на аэродроме рассказывал ему про гражданскую войну:
«Семнадцать раз сменялась тогда в Киеве власть. Выходишь утром на улицу и только осматриваешься – кто в городе? За ночь власть перемениться могла. Я еще маленький был, и то помню, и отец рассказывал, и мать… Белые, потом наши, опять белые, потом банды, ну – без конца. Только стихнет – афиши расклеют, знамена повесят, а тут снова – стрельба, снова дерутся, все с самого начала – расстрелы, плакаты, объявления, знамена, – и те деньги, что вчера ходили, сегодня ничего не стоят… И только – раньше я бы тебе этого не сказал, но теперь можно, – только хуже всех были поляки. Офицеры Пилсудского… Как наскочили они на город, так на другой день ни одного фонаря на улицах не было, чтоб на нем человек не висел… Всех, кто им только в руки попадался, – женщин, подростков, всех вешали, всех расстреливали…»
Да, да, это было в том самом Киеве, через который, не останавливаясь, шел теперь на запад их эшелон. И было это двадцать четыре года тому назад.
А теперь седой уже советский солдат – он-то, наверно, мог помнить те дни, когда на каждом фонаре висел человек, мог видеть это своими глазами – махал рукой солдатам с белыми орлами на шапке и дружелюбно кричал им:
– Молодцы поляки…
И это счастье. Высокое, несказанное счастье.
– Смотри-ка, девушки у пулеметов! – заметил кто-то.
– Где, где?
– Вон, гляди, блондиночка! Ох, и какая блондиночка…
В выступах моста, окруженные ящиками с песком, бочками с водой, виднелись счетверенные пулеметы. Из-под зимних солдатских шапок на проходящие вагоны глядели девичьи лица.
– Это они дежурят на мосту.
– И во время налетов стоят?
– Ну а как же!
Они примолкли. После пережитой ночи они знали, что означает такое дежурство. Там, в Дарнице, была хоть земля под ногами, можно было отбежать в сторону от путей, укрыться. А здесь? Здесь человек одинок между небом и землей – нет, даже не землей, а между небом и водной глубиной. И в эту ночь, когда за несколько сот метров отсюда градом сыпались бомбы, когда ракеты освещали ночь зловещим мертвенным светом, они стояли здесь, эти девушки в меховых шапках.
Нет, как ни хотелось посмеяться с девушками, шутливые слова замирали на устах. Веселые круглые личики с любопытством смотрели на них голубыми, серыми, карими глазами, и, быть может, девушки сами не прочь были перекинуться шуткой, – но ведь они этой ночью стояли на мосту!.. Одинокие, в сплошной тьме, между враждебным небом и беспощадной водой.
Голубые, серые, карие глаза всю ночь смотрят в лицо смерти. И вчера, и сегодня, и завтра. Созданные для поцелуев губы потрескались от ветра, от этого сырого, упрямого холода.
И вот теперь: поезд идет на запад, уходит от пережитой опасности. А на этот мост, единственный мост на Днепре, единственный путь для войск двух фронтов, вновь и вновь будут налетать бомбардировщики. И вновь и вновь будут стоять на мосту голубоглазые, сероглазые, кареглазые девушки, изо дня в день и из ночи в ночь лицом к лицу со смертью.
Мост кончается. Поезд, который до сих пор еле полз, ускоряет ход. Справа и слева глинистые холмы, домики предместья.
– Наверно, постоим немного в Киеве?
– Как же! Город осматривать, да?
– Не беспокойся, тут нас живо протолкнут, чтоб не забивать станцию.
– А хотелось бы посмотреть Киев…
– В другой раз увидишь.
Поезд идет между двумя товарными составами. Узкой полоской виднеется разрушенная стена вокзала.
Киев, а дальше, за Киевом, еще немного – и Ольшины… Так, положим, только говорится – еще немного. Сколько же километров? Пятьсот? Пожалуй, не меньше. Где же теперь проходит фронт? А ведь был он не в пятистах – в тысячах километров от Ольшин. Теперь же каждый день, каждый час приближает к ним.
Весь мир заполнен Соней. Словно она уже здесь, словно через минуту должна появиться в вагоне. Может быть, от этого треска в голове, который никак не проходит, может, от этой слабости, которая чувствуется в теле, – но кажется: прикрыть и открыть глаза – и увидишь Соню. Стефан почти физически ощущал ее близость.
Вдруг какая-то мелодия пробивается сквозь грохот колес. У самого полотна, внизу, под насыпью, проходит улица, по ней марширует советская часть. Солдаты поют. Сквозь шум в ушах, сквозь грохот поезда Стефек улавливает слова:
Украина, моя Украина,
Золотая земля ты моя…
Заполняется пропасть, заживает вековая рана. Те, кто погиб под Дарницей… Примет их золотая украинская земля. Как мать. Как родная. Примет в свои объятия польских солдат.
«И уже никогда, никогда!» – в полусне думает Стефек, под все убыстряющийся говор колес, под поскрипывание теплушек. В полусне возникают перед глазами лица. Инженер Карвовский, осадник Хожиняк.
«Никогда это не повторится, никогда!»
В теплушке кто-то запевает, остальные подхватывают:
Вперед, вперед, первый корпус наш,
Салют на восток – на запад марш!
Обе песни сливаются, звучат согласным хором.
«Да, теперь и в Ольшинах можно будет чувствовать себя иначе», – думает Стефек в полусне. – Без мучительного чувства вины, которое, вопреки всем доводам разума, всегда терзало его. Без необходимости убеждать себя: «Я тоже поляк, но совсем другой поляк». Без краски в лице, когда, бывало, ему передадут, что староста сказал: «Ну да, Плонский тоже поляк, а все-таки хороший парень». Теперь можно будет смело смотреть в глаза всякому, не опасаясь, что даже под симпатией, под дружескими словами людей, знающих его с малых лет, таится неосознанное подозрение: «А черт тебя знает? Может, и из тебя вдруг польский барин вылезет! Парень ты хороший, но…»
Сколько лет приходилось нести ответственность за чужие вины, которые, хочешь не хочешь, становились и твоей виной! Сколько лет приходилось отвечать за чужие грехи и стыдиться, кровавым стыдом стыдиться за то, чего сам не делал, против чего восставал всем сердцем!
Но теперь этого не будет. Теперь здесь останется память о тех поляках, что сражались под Киевом с неприятельскими самолетами. О поляках, которые дрались не против этой земли, а в защиту ее, проливали свою и вражескую кровь, а не кровь сынов Украины.
Грохочет поезд. На запад, на запад! Там, на западе, Ольшины, а за Ольшинами ждущая освобождения Польша, которая станет новой, прекрасной страной, Польша, которую можно будет любить без боли – радостной, счастливой любовью.
– Молодцы поляки! – кричит советский солдат и машет им рукой.
«Как я люблю тебя, как я люблю тебя», – думает уже во сне Стефек, и его сердце утихает, смолкает шум в его ушах. Все вокруг становится золотым и прозрачным.
– Вот это и есть счастье, – говорит ему тихий голос во сне.



