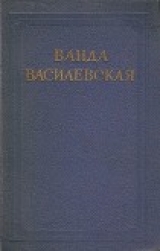
Текст книги "Том 4. Песнь над водами. Часть III. Реки горят"
Автор книги: Ванда Василевская
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 33 страниц)
Черт его знает, что делать… За эти три месяца Малевский не продвинулся ни на шаг вперед. Наоборот, сначала ему казалось, что будет легко, а чем дальше, тем становилось все труднее и труднее, будто они чем-то околдовывают людей.
И вдобавок все нити рвутся. Человек, который несколько раз ездил через Москву в Среднюю Азию и попутно выполнял кое-какие поручения Малевского, правда тоже не заслуживал полного доверия, – но все же он делал кое-что, хоть и неохотно и всегда опасаясь. Все же это была какая-то связь. Но и он не вернулся из своего третьего, последнего путешествия. Некоторое время Малевский еще надеялся, что он просто удрал, но оказалось, что сидит. Малевскому он повредить не мог, даже если бы рассказал, что знает, – сообщения передавались в законспирированной форме. Но связь с Ираном, пусть окольная, но до сих пор надежная, оборвалась. В сущности неизвестно, что делать. Пока что приходится стоять на этой поляне и присягать с обнаженной головой, с поднятыми вверх тремя пальцами, выговаривать торжественные слова присяги так, чтобы все это видели, чтобы все обратили внимание на его усердие и преданность. Это всегда пригодится. А дальше – видно будет.
Была, правда, еще одна опасность, о которой он не мог не думать. Рано или поздно среди этих собравшихся со всего Советского Союза людей можно носом к носу столкнуться с кем-нибудь знакомым по Казахстану, с кем-нибудь, кто вспомнит Лужняка и разные тамошние дела. Слава богу, что хоть Лужняк сидит, а то и этот мог бы наделать неприятностей. Но ведь есть и другие, десятки и сотни людей, с которыми он соприкасался и которые в нем, образцовом солдате Первой дивизии, могли узнать «деятеля» из Казахстана. Но в крайнем случае из этого всегда можно как-нибудь вывернуться, тем более – здесь. Изменился, мол, понял многое, – вот и все. Мало ли здесь людей, которые сперва собирались убивать культурно-просветительных офицеров, а теперь плачут, выговаривая слова присяги? Мало ли таких, которые грозились, что до смерти не забудут большевикам своих обид, – а вся их ненависть растаяла в один день, когда они получили оружие? Здесь есть всякие. И коммунисты, и социалисты, и национал-демократы, и людовцы, и беспартийные всех оттенков. Есть даже один раскаявшийся оэнэровец[2]2
«Людовцы» – крестьянская партия, руководство которого в довоенной Польше было захвачено представителями кулачества. «ОНР» – польская фашистская группировка. (Прим. перев.)
[Закрыть], который до войны пикетировал перед еврейскими магазинами на Шпитальной, а теперь из кожи лезет, чтобы заслужить похвалу своего культурно-просветительного офицера, как назло, еврея! Так что же невероятного в том, что и он, Малевский, тоже изменился, зачеркнул свою прошлую жизнь и стал подлинным, так и пышущим энтузиазмом солдатом Костюшковской дивизии? Всякий поверит. Здесь видывали вещи и почудней, и никого здесь ничем не удивишь. Так что собственно нечего бояться и нечего вспоминать, не видел ли он раньше этого паренька слева. Может быть, его лицо только кажется знакомым? Но если даже так – все равно, здесь прошлое не считается достаточно весомым, чтобы по нему оценивали настоящее. Пусть у Малевского были «тогда», – скажем, месяц назад, – такие-то и такие-то убеждения, которые он и выражал. Ну и что из того? Если даже окажется, что кто-нибудь знает о нем и кое-что похуже, – тоже не беда. Сейчас он примерный солдат и тянется в струнку, приковав влюбленные взоры к трибуне…
Чтоб они все сгорели!.. Может, и ему заплакать? Но нет, это не в его духе – вышло бы, пожалуй, неестественно. А этот осел слева так и заливается слезами… Интересно, надолго ли еще хватит этим дуракам умиленных слез?
Антон Хобот плачет и не стыдится своих слез. Рядом плачут его товарищи, плачет и он. Такие уж теперь дни, что никто не смеется над мужскими слезами, их невозможно сдержать.
Этот день – величайший день в жизни Хобота. Над поляной веет сосновый ветер. Он, Антон Хобот, стоит в шеренге и приносит солдатскую присягу. Он солдат – и ничего больше. Никогда он не был карманным воришкой, человеком, для которого самым героическим подвигом была кража со взломом, – за нее он и сидел в тюрьме здесь, в Советском Союзе. Никогда не было сырого подвала и пьяницы-отца, выбрасывающего маленького Антося за дверь пинком тяжелого, рваного сапога. Не было голодного детства, не было нищенки-матери. Не было того дня, когда отца нашли мертвым во рву, а его мать за невнесенную квартирную плату вышвырнули из каморки. Быть может, мать еще жива, спаслась как-нибудь? Теперь к ней придет сын – не карманный вор, нет, а солдат польской дивизии Антон Хобот, который сражался за родину. Он сам принесет новую родину этой матери, не видевшей ни одной радости в жизни. Новое отечество, в котором для него, Антека, найдется столько работы, что только выбирай. Быть может, он будет даже учиться – ведь просветительный офицер сказал, что еще совсем не поздно. И он будет учиться, будет зарабатывать, а у матери будут, наконец, новые ботинки и платье, о каком она всегда мечтала – черное шерстяное. Найдется и комнатка – теперь уж у всякого будет крыша над головой. И будет старушка спокойно жить на старости лет. Эх… Поверит ли она, что это он – Антек, из-за которого она столько плакала? Должна будет поверить. Ведь он покажет благодарственную грамоту с тракторной станции, покажет воинский билет. И она сама увидит форму – солдатскую форму. Нет, не может быть, чтобы она умерла, это было бы несправедливо. Кто-кто, а уж она-то заслужила счастье увидеть новую Польшу – ту Польшу, верно служить которой присягает сегодня Антон Хобот. Ты думаешь, что меня давно нет в живых? А я приду, и приду не с пустыми руками. Принесу тебе новую, счастливую жизнь…
– «Чтобы я мог жить и умереть, как доблестный солдат Польши»… – побледневшими губами повторяет Марцысь Роек. Можно сто раз умереть, тысячу раз в муках умереть за этот день, окрыляющий душу и делающий из людей титанов. Загремела «Клятва». Снова обнажаются головы. Из тысячи грудей рвется к небу над Окой военный польский гимн. Нет, не к небу над Окой – в польском небе, над польской землей бьет крыльями песня, словно именно для этого дня была она создана много лет назад. И вот зазвучал золотой рог, воспетый в песнях. Кто дал тебе золотой рог, польский солдат? Кто дал тебе золотой рог, утерянный на путях горя, втоптанный в пыль на путях кривды, затерявшийся на путях безумия – казалось бы, навсегда? Вот он гремит, золотой рог, поет в лесах над Окой, будит мир гимном, нерушимой клятвой. Ты держишь в своих руках золотой рог, польский солдат!
Трепещут флаги на трибуне, тяжело полыхает знамя Первой дивизии. Идут полки. Сверкает оружие. Новенькие винтовки с далекого Урала, с заводов Сибири, противотанковые ружья – неведомое раньше, никогда не виданное в Польше оружие.
Ровно, упругим шагом идут полки. Пусть гудит земля, пусть эти шаги услышат далеко, в Варшаве, в Кракове, в Познани… Пусть отдается по всей земле глухой гул этих шагов, возвещающий свободу…
Оружие, советское оружие в польских руках! С грохотом и стоном катятся орудия – легкие, средние, тяжелые. Одно за другим, целым потоком катятся орудия. Солдаты впервые видят их все сразу. Сколько их!
Оружие, оружие… Его не было тогда, в тридцать девятом. Кто слышал о таких орудиях? Кто видел такие винтовки, автоматы?
Но вот из лесу, словно допотопные чудища, выползают танки. Фонтанами вздымается песок из-под гусениц. Кто вас удержит, танки, когда вы лавиной ринетесь на запад, пробивая сквозь неприятельские позиции пути в Польшу?
И час, и другой, и третий движутся войска. Оружие без конца, без края.
– Слушай, а не ходят ли они просто кругом? – вполголоса обращается к приятелю иностранный журналист.
– Как это – кругом?
– Ну, войдут в лес, а оттуда другой дорогой обратно?
Тот пожал плечами.
– Глупости! Ведь это все новые части.
– А я бы все-таки, знаешь, проверил.
– Что ж, проверяй, коли тебе охота время терять.
Движутся, движутся ряды солдат. Поскрипывают ремни, блестят штыки на солнце. Низко, над самым лесом, над поляной кувыркается маленький самолет.
Иностранный журналист возвращается к трибуне.
– Ну, что?
– Ничего. Они уходят к реке, а оттуда другой дороги нет… Решительно ничего не понимаю.
– Я тебе сто раз говорил, что тут ничего не понять…
Шелестят листки записных книжек, заполняются мелкими темными строчками. Украдкой посматривает на них Шувара.
«Пишите, пишите, сколько душе угодно! Уж сегодня-то вам есть, что записать. Только кто это напечатает? Да и что вы знаете, что можете написать? Кто из вас поймет блеск этого дня?»
Далеко-далеко в прошлое отошло все тяжелое, дурное. Нет больше разрушенного дома, в котором погибли все близкие в тот сентябрьский день. Ясно улыбаются милые темные глаза жены. Она возвращается такой, какой была всю жизнь, спокойная даже в те черные дни, когда приходилось прощаться на долгие годы, когда приходилось протаптывать дорожки в судебных коридорах и ждать с рассвета до вечера в тюремных приемных.
Как они умирали? Как умирала она и с ней двое детей? Какая тоска овладевала им в те ночи, когда он просыпался весь в холодном поту от мысли, что, быть может, они погибли не сразу, что долго мучились под развалинами, которые некому было раскапывать, заживо погребенные в могиле, из которой нет выхода? Непреодолимый кошмар – крик детей, призывающих его на помощь, крик детей, медленно умирающих, задыхающихся под развалинами четырех этажей, обрушившихся на них, отрезавших им все пути.
Все муки и все жертвы перестают быть бесцельными в сиянии нынешнего дня. Может быть, необходимо было, чтобы чудовищный ураган разметал все кругом, чтобы все рухнуло в страшной катастрофе, и только так могла возродиться из пепла новая, свободная, настоящая Польша?
Быть может, не было иного пути – только один этот, ужасающий, но ведущий к нынешнему дню?
Быть может, лишь такой удар и мог победить упрямую тупость, темные суеверия, измену, спесь, нищету, гнет, насилие – все, что губило Польшу?
Столько лет бесчестили, столько лет сковывали эту землю. Может, именно и нужно было ей до самого дна погрузиться в мрак неволи, чтобы затем выйти на свет?
Потоком людей плывет огромная поляна. Наглядное доказательство – что может осуществиться самое невероятное желание, лишь бы оно было достаточно страстным.
Что же вы можете написать об этом в своих записках? Как можете вы понять то, что происходит, что значит нынешний день?
Уже издали, как затихающий гром, грохочут танки. Уже почти не доносятся голоса, скрип колес, пение солдат. И снова становится слышен степенный, с детства знакомый шум сосен. Странная тишина. Но вот застучали шаги по деревянной лесенке, ведущей с трибуны. Шувара хмурится. Сейчас надо настроиться на другой лад. Преодолеть в себе огонь восторга, огромный душевный подъем, стать сдержанно-любезным собеседником.
Иностранные журналисты, пылая нетерпением, торопливо раскладывают на длинном дощатом столе свои записки, тетради, блокноты.
– Это все поляки?
Вопрос задан «просто так», на всякий случай. Без убеждения. Ведь это-то они знают. Недаром еще со вчерашнего вечера вертелись тут, шныряли, разнюхивали по всем углам. Не это их интересует. Не дожидаясь ответа на свой первый вопрос, подвижной человечек в очках бросает новый:
– Откуда же здесь столько поляков?
А, вот в чем дело! Эти журналисты ехали сюда, уверенные, что увидят жалкую горсточку, декоративное войско, созданное, чтобы втереть очки… Ты видел? Ты сам видел, сам убедился, человек в очках? Ты внимательно смотрел сквозь эти свои очки, чтобы убедиться, не обманывают ли тебя?
– Как – откуда? Вы, конечно, читали, что здесь остались сотни тысяч поляков – ведь об этом ежедневно твердит польская пресса в Лондоне. Чему же вы удивляетесь?
– Ах, пресса!..
Худощавый журналист усмехается со снисходительной иронией. Разумеется, они, представители крупнейших заграничных агентств, прекрасно знают, что такое пресса – их пресса.
Но и это, кажется, не главное, что они хотят разузнать. Они что-то нащупывают, петляют, в воздухе висит самый важный для них вопрос. Они не хотят задать его сразу, подходят издали, небрежно закуривая и что-то время от времени небрежно записывая. Этот вопрос возникает вдруг, как бы сам собой, как бы естественно вытекая из общего разговора.
Но все глаза сразу впиваются в собеседника. Легкий жест, небольшая перемена позы, только и всего, – но это уже не те элегантные журналисты, которые только что с привычной небрежностью выполняли свою повседневную работу. Они насторожились, на их лицах появилось напряженное внимание. Этот вопрос – западня, расставленная для собеседников. Вот когда вскроется необходимая им сенсация, в которой можно будет утопить тот неприятный факт, что здесь создается настоящая польская армия, что эта настоящая армия уже существует!
Маленький человечек в очках, весь как будто погруженный в свои записи, задает невинный с виду вопрос:
– Откуда у вас средства на все это?
У Шувары вдруг пересыхает во рту от внезапного гнева. Ах ты, скотина, глупая, подлая скотина! Вот, значит, и все, что ты увидел, все, что ты понял? Все, что тебя только и интересует!
Но Шувара тут же успокаивается. Что же, ведь затем они сюда и приехали.
– Советский Союз дает нам оружие, продовольствие, обмундирование. Он дает также инструкторов для наших солдат и офицеров, – спокойно отвечает он.
– Ваши долги, разумеется, уплатит в будущем польское государство?
Глаза за стеклами очков безучастно смотрят в сторону, но лица всех корреспондентов наклоняются поближе. Не пропустить ни одного слова, ни одного оттенка! Хотя торопиться как будто не к чему: ведь им надо ждать, пока переводчик переведет ответ. Но черт их знает – может, они понимают по-польски? Разумеется, для них удобнее «не понимать», пользоваться услугами переводчика. Наверно, многие понимают. А впрочем, ну их… Но до чего же наивна эта ловушка, этот брошенный мимоходом, почти небрежный вопрос!
Шувара отвечает:
– Польское государство? Мы не считаем себя вправе принимать какие бы то ни было обязательства от имени польского государства или польского народа. Мы не представители польского государства, а просто поляки, считающие долгом помочь своей родной стране, борющейся против фашизма. Мы не имеем права и не намерены ничем обременять страну, не делаем от ее имени никаких долгов.
Не слишком ли много он говорит? Не слишком ли нажимает на этот пункт? Но нет, надо раз навсегда выбить из их головы эту историю. Чтоб они знали – даже если напишут другое, – чтоб для самих себя знали: здесь никто не делает долгов от имени народа.
– Никаких долгов, кроме единственного, вечного и неоплатного долга – долга братства. Братства, в котором клялась сегодня наша дивизия.
Брови иностранных журналистов поднимаются в любезном удивлении. На губах блуждает неуверенная улыбочка, недоверчивая и оскорбительная. Ну хорошо, теперь ведь можно и им задать вопрос…
– А польские летчики, принимающие участие в защите Лондона, откуда черпают средства?
Цветной карандаш вертится в длинных выхоленных пальцах. Снова ироническая, снисходительная усмешка.
– Ах, летчики… Ведь польское правительство в Лондоне располагает золотом, которое ему удалось спасти… Там этот вопрос несущественен…
Действительно, там этот вопрос несущественен. За каждую сброшенную с польского самолета бомбу англичанам платят польским золотом. За каждый снаряд, выпущенный польским летчиком, платят польским золотом. Каждый польский самолет, защищающий Лондон, оплачен польским золотом. Течет, расползается польское золото, не жалко его – оно не было заработано потом и кровью тех, кто сейчас расходует, раздает его полными пригоршнями. На бомбы, на кабаки – все равно. На снаряды и на туалеты жен и любовниц – все равно. Пока еще не видно дна – можно об этом не думать. А когда покажется дно – еще ведь существует Польша. Потрудятся несколько лет на выплату сделанного в Лондоне денежного займа польский горняк и металлург, потрудится польский крестьянин на своем жалком клочке земли. Трудолюбив польский народ, смело можно рассчитывать на то, что он вернет долг.
Англичанин напрягает все усилия, чтобы выпытать тайну. Должно же что-то таиться за всем этим? Не может же быть, чтобы все было так просто и ясно, как говорят эти люди!
– Значит, вы не приняли никаких обязательств от имени будущего правительства?
– Какие же тут могут быть обязательства? Мы даем то, что у нас есть, – собственный энтузиазм и собственную кровь, советское правительство – оружие. Мы не имеем права принимать на себя никаких обязательств от имени польского народа.
Англичанин торопливо записывает что-то в своем блокноте. «Продолжать незачем, – решает Шувара, – он все равно не поймет». Не понял бы, даже если бы ему передать тот разговор, даже если бы он сам услышал спокойные слова человека в Кремле. Слова о том, что советский народ не торгует кровью, что он сейчас повторяет то, что сказал в девятьсот семнадцатом: свободная независимая Польша; что он поможет Польше стать действительно свободной и независимой.
Да, здесь, в Советской стране, знают, что такое жизнь и что такое смерть. Здесь знают, что такое кровь, пролитая на поле боя. И здесь не ведут бухгалтерию, в которой рубриками являются человеческие жизни, переведенные на язык золотых монет, и человеческие слезы, перечисленные в шуршащие банкноты. Здесь говорят прямо, что думают. Но английский журналист не может этого понять. Для него слово «политика» всегда означает лишь одно: более или менее хитрый обман. И хоть душу выговори, все равно его не убедишь, что здесь все по-иному, что здесь не торгуют кровью.
За стенами домика гудит земля. Это возвращаются в свое расположение танки. Англичанин снова записывает что-то в блокнот. Видно, его мучит не только то, что эта польская дивизия оказалась настоящей польской дивизией. Откуда в этом тяжелом году столько прекрасного нового оружия, столько машин, которые Советская страна смогла дать полякам? Где предел силам и возможностям этой страны? Может быть, это фикция?.. Но на танках распластал крылья пястовский белый орел на красном фоне, да и экипажи польские – они проверили это, шныряя по всему лагерю.
Ах, вот что у тебя болит, что тебя мучает!.. Тебя ждал здесь двойной сюрприз – не только то, что это польское войско является настоящим войском, – ты еще раз воочию убедился в силе Советского Союза, в силе Советской Армии. А как тебе, вероятно, хотелось, чтобы все было так, как многие из вас описывают: «остатки сил, исчерпанные запасы, истощенные людские резервы»… Может, ты и сам не раз разглагольствовал об этом в своих статейках, оплачиваемых построчно. Видел теперь? Насмотрелся? Будет с тебя?
Шувара украдкой рассматривает человечка в очках. Не он ли самый вредный? Хотя, черт его знает, – может, самый вредный как раз тот, что дружелюбно улыбается, поддакивает, кивает головой. Кто их разберет?
Журналист в очках начинает нервничать. Его круглое лицо краснеет. Что он, ребенок? Неужели они думают, что его так легко надуть? Или, быть может, его собеседники сами наивны, как дети? Ведь невозможно поверить, что это так, что за этими танками не стоят шахты, которые обещаны Советскому Союзу. Шахты, приносившие столько прибылей немцам, бельгийцам, кому угодно… Что за длинными стволами орудий не маячат польские текстильные фабрики, дававшие золото французам, и немцам, и кому угодно… Что в кремлевском сейфе не лежит договор, согласно которому после победы все будет подсчитано до копейки – все эти орудия, танки, самолеты, обмундирование, все эти палатки и постройки лагеря. И в результате, в ущерб всем иностранным акционерам, – на польских заводах, в польских шахтах водворятся советские комиссары, советские инженеры, советские контролеры, которые уж присмотрят, чтобы было заплачено с лихвой и за танки, и за орудия, и за самолеты, – потому что ведь то, что они сегодня видели, это еще не все. Эти люди утверждают, что это лишь начало – формируется и вторая дивизия… Так кто же здесь наивен – эти поляки, полагающие, что все это им дается даром, в порядке помощи, или же наивны они сами, иностранные корреспонденты, работники разведок всех стран, все же потерявшие уверенность в существовании такого договора?
Журналист отирает пот с лица. Ну что ж, не удивительно, что такие, как Шувара, не хотят говорить правду, – это был бы такой козырь в руках лондонского правительства! Но, как бы то ни было, сюрприз, надо сказать, не из приятных. Ведь всего две недели назад лондонские поляки уверяли, ссылаясь на специалистов, что вся эта дивизия – пропагандистская ложь, что о дивизии не может быть и речи, а если и создана какая-нибудь мнимо польская часть, то на самом деле она вовсе не польская…
Журналист вспомнил польские лагери в Шотландии, которые он недавно посетил. Между прочим, забавный народ, эти поляки… Там все было понятно. А то, что он видел здесь, было непостижимо. «Может быть, потому, что там, в Шотландии, больше польской интеллигенции?» – подумал он. Но, взглянув на сидящих вокруг него людей, он отбросил и это предположение.
Разговор становился все более утомительным, и обе стороны облегченно вздохнули, когда он, наконец, окончился.
В лесу сгущались сумерки. Ветер улегся, чувствовались лишь тихие дуновения, несущие свежесть реки. Сосны едва покачивались.
– Нас приглашают на банкет.
– Превосходно. По правде сказать, давно пора. Видно, даже пресловутое славянское гостеприимство не мешает им из-за пищи духовной забывать о хлебе насущном.
Журналист в очках, довольный своей иронической фразой, приостановился под сосной, закуривая сигарету. Худощавый подал ему спичку.
– Послушай, – сказал он, разминая в пальцах сосновую хвою, – ты тут что-нибудь понимаешь?
– Я уж давно тебе сказал: нет, не понимаю. Это непонятная страна и странные люди.
– Ну да, Россия непостижима… Но ведь это поляки?
– Они сейчас тоже здесь, в этой стране.
– Что же из этого следует?
– Не знаю. Во всяком случае что-то следует. И это лучше всего доказывается тем, что ничего невозможно понять.
– Ты помнишь те отряды в Шотландии?
– Помню, там не было того, что здесь.
– А именно?
– Как бы тебе сказать… Ну, просто… экстаза…
– Чепуха!
– Может быть. Только чем же ты это объяснишь? Атмосфера? Да, другая атмосфера.
– Какая?
– Именно – экстаза, подъема. Ты видел, как они принимали присягу?
– Дурацкий вопрос.
– Нет, нет. Ты, кажется, главным образом интересовался количеством. А я присматривался. Ты заметил, какие у них были лица?
– Лица? Наверное, разные.
– Вот именно. И разные – и одинаковые… А этих орлов видел?
– На танках?
– И на танках. Не только этих, а тех, которые летали над поляной. Во время присяги.
– Видел, показывали каких-то птиц, ворон или орлов – не знаю. Но какое это имеет отношение к делу?
– Именно орлы, а не вороны.
– Так что? Очевидно, где-то здесь неподалеку их гнездо.
– Конечно… Орел является польским гербом!
Журналист в очках остановился.
– Ну, знаешь… Можно подумать, что мы уже побывали на банкете и ты напился. Может, вступишь в эту мистическую дивизию?
– Нет, мой дорогой. Они здесь в реке купаются. Это слишком по-деревенски, я привык к ванной. Но одно могу сказать тебе с полной уверенностью…
– Что?
– Твердый орешек придется разгрызть этому их правительству в Лондоне…
– Ты думаешь?
– Увидишь. Пойдем-ка на этот банкет.
На тропинке они разминулись с Шуварой. Он свернул вниз, к реке. Предвечерний шепот проносился по соснам. Медленно, сонно покачивались ветви. В траве монотонно кричали сверчки. Лес кончался, к крутому берегу протянулась небольшая утоптанная лужайка. В небе горел закат, и в сиянье последних, невидимых уже лучей медленно и величаво погружалась большая птица.
Шувара невольно следил за полетом птицы до самого края неба, где все уже подергивалось тенью и где погас еще минуту назад горевший на крыльях птицы отблеск. Орел словно растаял в надвинувшемся вечере. Только сейчас Шувара заметил, что он стоит уже у самого берега, на невысоком обрыве.
Под меркнущим небом, среди звенящей сверчками тишины, текла широкая величественная река.







