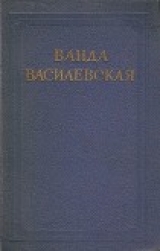
Текст книги "Том 4. Песнь над водами. Часть III. Реки горят"
Автор книги: Ванда Василевская
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 33 страниц)
На мгновение он пожалел, что не ушел тогда в Иран. Но о чем тут говорить? Приказ был ясен: оставаться и идти к костюшковцам – немедленно, как только началась вся эта история. В Иране у них, наверно, достаточно своих людей, притом повыше чином, чем Малевский. Там работать на немцев много проще. А вот ему вечно приходится попадать из огня да в полымя. Удалось же ему скрыться вовремя, когда разразилась эта история с Лужняком, и можно было бы пожить спокойно, – так нет, его заставили идти в дивизию, размахивать винтовкой, распевать этот ненавистный гимн. Ведь дошло даже до того, что он принужден был вместе с другими бежать сегодня в атаку и орать «ура». И не для виду, а по-настоящему бежать в атаку, по-настоящему, вместе со всеми, брать эту деревню… Омерзительное положение! Надо как можно скорей выбираться отсюда, тем более что здесь действительно нечего делать. Для простой сигнализации, для того чтобы давать знать о передвижении дивизии, здесь наверняка есть другие, помельче, – должны быть! У него иные задания, ведь инструкции остались прежними, только положение изменилось. О какой пропаганде может быть теперь речь, когда вдруг появилось столько героев, что хоть сотнями считай… Попробуй теперь вести пропаганду… Нашли дурака!
Пустота, скука были на сердце. До чего же он в конце концов дослужился за столько лет? Любая скотина может смешать его с грязью, колоть глаза неповоротливостью, ругать, отчитывать сколько душе угодно… А он, Малевский, что от этого имел? Страх, хлопоты – и ничего больше.
В сырую, туманную ночь они вышли в разведку. В немецких окопах было тихо. Невозможно было представить себе, что всего несколько часов тому назад земля здесь становилась дыбом, воздух сотрясался от ужасающего рева и небо смешивалось с землей в сумасшедшей тряске. Самым странным казалось, что не слышно стало рокота самолетов, что бомбы и снаряды не валятся людям на головы, что кругом такая тишина. Время от времени на горизонте сверкали синие и желтые огни. Из окопов, словно откуда-то из-под земли, доносились тихие голоса.
– Тише, – шепотом предостерег Малевский, хотя они и так крались, как призраки.
Где-то неподалеку должны быть немецкие позиции. И впервые Марцысю вдруг стало страшно. Их всего пятеро, и этот сержант Малевский во главе… Теперь они продвигались ползком – местность была почти ровная, открытая, а ночь не слишком темная, силуэты людей на фоне неба можно было заметить издалека. А ведь неизвестно, где таятся высматривающие глаза, где засел неприятель, зорко наблюдая, что делается перед ним.
– Доползем до того ольшаника, остановитесь. Я проползу немного вперед, потом подам знак.
Они прильнули к земле. Теперь, прижимаясь к земле, они слышали далекие удары, которых не слышали стоя. Где-то далеко били орудия; их приглушенный, грозный гул раздавался словно из самого нутра земли.
Время тянулось.
– Куда он девался? – не выдержал кто-то из пятерки.
– Тише!
Неожиданно Малевский появился прямо перед ними. Они вдруг увидели его силуэт, чернеющий на сером фоне ночи.
– Ползите цепочкой. Когда я свистну, остановитесь.
Они снова поползли. Марцысь чувствовал под рукой мокрую, липкую глину, а у самого лица мокрые подошвы товарища. Они ползли друг за другом, удерживая дыхание. Немецкие позиции должны быть где-то совсем близко. В потемках раздалось легкое щелканье бензиновой зажигалки. Они замерли, но в тот же момент послышался легкий свист. И снова глухое молчание. Секунды растягивались в бесконечность.
– Глущак! – тихо позвал Малевский.
Рядовой Глущак полз первым. Они удивились. Почему он вызывает по фамилии, почему ползут не все сразу? Но тотчас снова раздался приглушенный голос:
– Разовский!
Разовский пополз вперед. Марцысь осторожно приготовился ползти за ним, оперся на локти, подтянул одеревеневшее колено. Вдруг в потемках заметались какие-то тени, послышался шум борьбы.
– Не ходите! Тут немцы, тут нем… – прорезал тишину страшный крик Разовского и перешел в хрип, задушенный грубой рукой. Ползущий впереди Марцыся Левинский вскочил и огромным прыжком кинулся назад. Грянул выстрел. Пуля свистнула возле самого уха Марцыся. Второй выстрел. Не укрываясь, в паническом ужасе они мчались изо всех сил, спотыкаясь о комья глины, падали, поднимались, с трудом переводя дыхание, бежали дальше. Вслед раздалось еще несколько выстрелов. Потом все затихло, но они продолжали безумно мчаться к своим – скорей, скорей к своим! Неужели они так далеко уползли? Не заблудились ли?
– Стой, кто идет?
Наконец-то! Они стояли молча, ловя воздух широко раскрытыми ртами. Встревоженный выстрелами патруль встретил их настороженно, с винтовками наизготовку.
– Чуть-чуть нас не накрыли, как птенцов в гнезде, никто бы и не знал, что случилось… Глущак и Разовский… Подумать только! Разовского, наверно, на месте убили…
– Живыми хотели нас взять…
Чем более отдалялась та минута, тем страшнее становилось Марцысю.
Немцы… Он помнил свой путь из Груйца на восток. Только бы дальше, во что бы то ни стало дальше, только бы не Попасть им в лапы, не увидеть, как они безнаказанно идут по польской земле. Ему казалось тогда, что он не выдержит, умрет от ненависти при одном их виде. А кем он тогда был? Сопливым мальчишкой, на которого они, может, и внимания не обратили бы. А теперь? Живым, без борьбы, попасть к ним в руки… Что могло быть? Ведь они на все способны. У него были документы, – а если б он их успел уничтожить, ведь там был Малевский, он назвал бы его имя, если б даже Марцысь молчал или был убит. Завтра сюда, в окопы, в землянки, на еще горячее поле боя Первой дивизии, могли быть сброшены листовки, якобы подписанные им, Марцелем Роеком, и призывающие его товарищей переходить на сторону фашистов… И никто не знал бы, что́ случилось, и могли бы подумать, что он и вправду изменил…
Теперь ясно, почему Малевский не пошел в армию Андерса, хотя там ему и место было. Не пошел в Иран, хотя так ненавидел большевиков. И вдруг ни с того ни с сего явился в лагерь и стал примерным служакой, так что за ним признали даже звание сержанта, которого у него, может, никогда и не было. И зачем он путался по всему Казахстану, зачем шнырял повсюду – ведь даже к ним в совхоз заезжал! Видно, и там он вел предательскую работу. Некоторые уже тогда подозревали его, только думали, что он шпионит для англичан, а теперь – немцы… Хотя, быть может, он продался сразу и англичанам и немцам? Подлец! Повел и отдал в руки палачей двух хороших людей… Разовский еще в тридцать девятом был ранен под Кутном…
«Как же мы могли не догадаться, как я сразу не увидел, в чем тут дело? Ведь я же прекрасно знал, что это мерзавец!»
Марцысь извивался от ненависти и невыносимого, жгучего чувства своей вины. Он думал и раздумывал, как бы ему стать героем, одно это у него и было в голове, а между тем на его глазах двух польских солдат предали врагу.
Они-то ничего не знали о Малевском. Но как он позволил обмануть себя?
Видно, Глущаку и пикнуть не дали. Если бы не Разовский… – страшно подумать, что было бы, если бы не Разовский!
Не только Марцысю, всем остальным тоже не спалось в эту ночь. В окопах, в землянках подсчитывали потери, рассказывали друг другу о событиях этого дня. И странно – каждый все видел иначе, по-своему. Бой ни в одной подробности не был похож на то, что представлялось заранее в воображении, о чем когда-то в детстве читали в любимых тогда романах Пшиборовского, Гонсеровского. Это было не согласованное движение масс, а словно мозаика из тысячи эпизодов. Не только каждый батальон, не только каждый взвод, но почти каждый человек пережил этот бой как свою отдельную, особую историю.
«Например, я, – думал Марцысь. – Атака… Ну да, здесь-то мы шли все вместе, но и то… Одному вода доходила до пояса, другому почти до шеи, один бежал так, другой иначе… Ну, а уж потом, потом всякий видел другое».
– Брешешь, – упирался Левинский, слушая рассказ усатого Рузги. – Брешешь, вот и все!
Но Марцысь знал, что тот, может, вовсе не врет: каждый солдат дивизии пережил эту битву по-своему. Хотя это была не тысяча битв, а одна битва, которая так и будет называться: «Битва под Ленино», но среди бойцов возникнет тысяча версий о том, какова была эта битва, и каждая версия будет правдивой, и ни одна не будет полной и для всех достоверной.
В одном только все были согласны в этот вечер – в том, что одержали большую победу. Победу, которая может определить судьбу войны. Ничего, что пришлось отступить из взятой деревни, – это потому, что соседи справа опоздали и надо было оттянуть выдвинутые части, чтобы они не были отрезаны. Но никто не сомневался, что это была крупная и очень важная победоносная битва.
– Первый раз с тридцать девятого года… – сказал кто-то.
Да, первый раз после четырех лет немецкие фашисты поднимали руки вверх перед поляками и просили пощады.
На второй день было по-другому. Они уже привыкли к тому, что случилось. Все уже не было таким новым и неожиданным, и все переживалось иначе, виделось как-то отчетливее – не было радостного ослепления первого дня.
Теперь знали, чего эта победа стоила. Нет, не то чтобы испугались потерь. Но день был омрачен воспоминанием о погибших. Вчера видели, как они падали, но тогда все были захвачены боевым порывом. А сегодня не один солдат отчетливо знал, что никогда не увидит брата, что отец едва дышал, когда его уносили в санбат, что сыну оторвало ноги. Ведь многие были здесь целыми семьями – сыновья, отцы, братья на одном поле боя.
Все знали, что так должно быть, иначе и быть не может. Но грусть легла тенью на лица.
Не дождались… Суждено им было погибнуть в первый день их пути к Варшаве. Не увидят они ее влюбленными глазами. Не перейдут вместе со всеми Буг, останутся навеки здесь, так далеко от родины…
Хотя об этом и не думалось. Нет. Думалось другое – о Варшаве, о своей земле, о том пути, на который они вступили, о том, что они все-таки показали фрицам, что такое поляки. Что дивизия не ударила лицом в грязь, что показала, как умеет драться.
Вечером пришла неожиданная весть:
– Нас отводят в тыл.
– Как в тыл? – удивился Марцысь.
– Да так. Обыкновенно, в тыл.
– Что ж, мы оставим это немцам?
– Каким там еще немцам! На наше место придут советские части.
Солдаты ворчали:
– Что же это такое? Мы свое сделали, приказ выполнили, а теперь ни с того ни с сего – в тыл.
Марцысь помчался изливать душу культурно-просветительному офицеру.
– Это правда, что мы отсюда уходим?
– Правда. Через полчаса выступаем.
– Значит, мы уже не будем драться?
Высокий темноволосый заместитель командира роты по культурно-просветительной части рассмеялся.
– Подожди, хватит еще войны и на нашу долю. Но пока…
Марцысь по-детски надул губы.
– Это несправедливо!
Как, неужели это уже конец? Пусть даже «пока»… И опять сидеть ждать? С чем же он вернется после этого боя? «Ни с чем, ни с чем», – с тоской думал Марцысь. Он был так уверен, что совершит что-то. Если не удалось сегодня, то завтра или послезавтра… А тут…
Офицер сощурил глаза. У него было совсем молодое лицо, и Марцысь только сейчас заметил, что заместитель командира роты вовсе не был таким загорелым, как казалось. Это были просто веснушки. Странно: темные волосы – и столько веснушек… Они покрывали лицо словно налетом загара.
– Скажи-ка мне, – сказал он, – на сколько таких дней, как последние два, хватит, по-твоему, людей в нашей дивизии?
Марцысь смутился. Да, об этом он не подумал. Ведь после боя говорили, что это «нормальный процент потерь», а между тем скольких недосчитались в каждой части! Об этом он как-то не подумал, слыша фамилии погибших.
– Ну вот видишь. Поэтому нас и отводят в тыл. Понятно?
Да, он понял и спросил еще только:
– А этот приказ – он откуда?
– Ишь какой любопытный! Приказ есть приказ. Но если уж тебе так хочется знать, то приказ дан из Москвы. Так что можешь сам догадаться, кто его дал.
Шагая в потемках по грязной дороге, Марцысь с болью в сердце думал о соседях справа и слева, которые пришли сюда вместе с ними и теперь остаются на месте, хотя и у них есть «нормальный процент потерь». Однако они будут стоять здесь и пойдут вперед – без таких передышек, какая дана их дивизии.
– Эх, когда мы стояли под Казачьим Курганом – знаешь, сколько штыков было в нашей дивизии? – спросил вчера вечером советский артиллерийский лейтенант, который пришел навестить польских соседей. – Двести двадцать штыков во всей дивизии. Уж потом пришло пополнение.
Да, да… Они останутся здесь на месте, и с утра на них снова начнут падать бомбы, и они пойдут в атаку, будут закреплять захваченные рубежи и двигаться вперед, оставляя на этих пригорках, на этих мокрых лугах и почерневших полях «нормальный процент потерь»…
И только их Первую дивизию, только поляков, которые впервые с тридцать девятого года выступили против врага, отводят в безопасное место, чтобы сохранить это малое ядро будущей польской армии. Об этом позаботились в Кремле, который Марцысь мимолетно видел, остановившись на день в Москве, по пути в дивизию.
Человек в Кремле руководил движением сотен дивизий на тысячеверстных фронтах. И он нашел время узнать, что сделала одна эта дивизия, позаботился о том, чтобы дать ей отдохнуть, заживить раны, нанесенные двухдневными боями. Их, поляков, испытали в бою, дали им самим испытать себя, почувствовать пламя борьбы, пройти боевое крещение. Смыть позор армии Андерса, которая запятнала Польшу, покрыла стыдом имя поляка. Им дано было счастье показать врагу, что польская армия жива, хотя четыре года тому назад враг хвастал, что она скончалась и не воскреснет. Им дано было счастье перед глазами всего мира высоко поднять знамя Польши – знамя плененного, но не порабощенного народа. Им дано было своей борьбой засвидетельствовать, что «Польша еще не погибла», как говорят слова гимна. А затем заботливо подсчитали их «нормальный процент потерь», – ведь среди сотен дивизий они были одной-единственной польской дивизией! И тот человек в Кремле помнил об этом и чувствовал это так, словно сам был с ними. Он знал, что перед ними еще длинный путь, взвесил их судьбы отцовской рукой.
Там, в захваченной деревне, будут теперь обороняться и потом пойдут дальше братья в форме Советской Армии. Они будут проливать кровь на пути, ведущем в Польшу, выполнять боевую работу не только за себя, но и за них, поляков.
Да, это было понятно, ясно и просто. И все же тяжко было маршировать по этой дороге на восток, в то время как навстречу шли машины, полные солдат, темными колоннами двигалась пехота, грохотали орудия, идущие вперед, на запад. На запад шли войска, на запад – по варшавскому шоссе, к Варшаве…
Кто проходил навстречу полякам, кто шел занять их место? Вспомнилась Анастасия Петровна из совхоза; может, это ее Фрося проходила сейчас мимо, с глазами, устремленными в зарево далекого пожара? Может, брат Володи-конюха?.. В ночной тьме к линии фронта шли незнакомые и все же такие знакомые люди, крестьяне из колхозов, рабочие с заводов и фабрик, молодежь, советские люди со всех концов своей необъятной родины, все в одной солдатской форме… Шли по этому варшавскому шоссе, на запад, к Варшаве.
Позже на место отдыха и формирования Первой дивизии придет приказ. Он скажет, что дивизия выполнила боевое задание, прорвав оборону немцев. Будут розданы награды. И всем уже будет понятно, что дело было не в том, о чем говорили тогда, в вечер после боя, – что это, мол, великая битва, которая может определить судьбу войны.
Но уже и сейчас все понимают два измерения этой битвы. Это была одна из тысячи битв, какие уже два с половиной года идут на фронте. Битва настолько незначительная, что, если бы в ней не участвовала Первая польская дивизия, она не имела бы даже своего имени – прекрасного имени «Битвы под Ленино».
Но вместе с тем, если эта битва и не определяет судьбу войны, то она определяет судьбу Польши. Польша будет именно такой, какой она должна быть! Она будет связана вечным братством с Советским Союзом. Теперь поляки – уже не группки рассеянных по всему миру беспомощных людей, а союзник, который своей кровью засвидетельствовал великую истину братства народов. Это был их первый бой с тридцать девятого года – бой, который вела организованная, сознающая свои цели и задачи боевая единица.
Нет, не только линия немецко-фашистской обороны была прорвана в эти два дня. Была прорвана ложь, которой так долго окутывали историю. Обоюдные обиды и несправедливости были рассеяны этой битвой. Все это отодвинулось в древнюю историю, и началась история новая, которую создают они все, – значит, и он, Марцысь Роек из Груйца.
«И как удивительно, – думал Марцысь, – что как раз этот первый бой новой польской армии навеки теперь связал нас с именем Ленина, с именем человека, который от имени революции, от имени народа сказал великие слова о праве Польши на независимость!»
Правители Польши приложили все усилия к тому, чтобы заставить польский народ забыть об этих словах. Они приложили все усилия, чтобы о них никто в Польше не знал. Мусором лжи засыпали пламенные слова. И понадобились все эти страшные годы, чтобы лозунг польской свободы, снова прозвучавший из уст Сталина, был услышан сотнями тысяч поляков, которые донесут его до миллионов своих собратьев.
И вот как раз эта первая битва, которой никому не вычеркнуть из истории, называется «Битва под Ленино»… Случайность? Нет, справедливое веление истории – чтобы на этот раз уже никогда, никогда…
«Ведь вот и я сам – разве я знал? Нет, ничего не знал. В школе меня учили лжи, давали мне читать книги, полные обмана. И вместе со мной обманывали целое поколение».
Но теперь они уже знают. Во второй раз именно эта страна, а не другая, именно этот народ, а не другой, возвестили миру, что Польша будет независимой. И в сущности во второй раз русские льют свою кровь за эту независимость. Потому что ведь и тогда, когда они свергли царя и победили белых генералов, которые хотели, чтобы Россия продолжала быть старой Россией, кровь, пролитая в Петрограде, в Москве, под Царицыном, была кровью, проливаемой за свободу всего человечества – также и за свободу поляков. И теперь советские люди идут на запад, и это они кровью своих рабочих и крестьян, кровью своей молодежи, кровью целого поколения спасают и освобождают человечество и Польшу.
О битве под Ленино знают уже все. Солдаты вырывают друг у друга газеты. На всем протяжении Советского Союза в этот день люди читают в сообщении, напечатанном на первой странице:
«Выполняя боевое задание советского командования, польские пехотинцы частей дивизии имени Тадеуша Костюшко и танкисты танковой части имени „Героев Вестерплатте“ в районе местечка Л. прорвали оборону немцев и стремительной атакой выбили их из нескольких населенных пунктов. Противнику нанесен большой урон в живой силе и технике. Около 200 гитлеровцев, в том числе 13 немецких офицеров, сдались в плен полякам.
Попытки противника остановить стремительное наступление польской пехоты путем массового применения пикирующих бомбардировщиков и контратак, поддержанных самоходными пушками „фердинанд“ и танками, не увенчались успехом. Контратаки немцев были отбиты с большими для них потерями. Гитлеровцы не выдержали штыковой атаки и артиллерийского огня поляков…»
Теперь уже во всем Советском Союзе знают, что на этот раз поляки не обманули доверия, что на этот раз они выполнили обещание и могут прямо смотреть в глаза честным советским людям – всем, кто борется уже третий год, всем, кто потерял на фронте своих близких.
И там, в далекой Варшаве, быть может, уже тоже знают. Весть прилетит туда, прилетит через фронты, через все заграждения, через все запреты. Привет тебе, далекая отчизна, привет вам, братья в неволе, привет всем, кто в темную ночь выходит на борьбу с врагом! Всем, кто, не сдаваясь, умирает за стенами тюрем, за колючей проволокой концентрационных лагерей! Привет сражающейся родине! Услышьте наши слова ободрения, примите братское пожатие наших рук!
И во всем этом есть и его, Марцыся, доля. «Может, стоило бы дать знать маме?» – подумал он. Но мать уже, верно, и так знает. Открытку все-таки надо послать – одну матери, другую Ядвиге. Обыкновенные, короткие открыточки. Ведь в сущности ему нечем похвалиться: он не получил ордена, не получил даже медали. Он и вправду не заслужил ни ордена, ни медали. Что он делал? Шел в атаку, когда шли все, а потом бегал по полю боя, пока над ним, над сопляком, которому еще и семнадцати лет нет, не сжалился капитан и не приказал отдохнуть в землянке. И одно только осталось и останется навсегда – что все же он принимал участие в этом бою, в битве под Ленино.
– Смотри-ка, шинель тебе прострелили… – сказал Марцысю какой-то солдат.
И правда, рукав его шинели прострелен. Удивительно, как не задело руку! Висит оторванный лоскут обшлага. Пальцы нащупывают в нем что-то шелестящее. Что это? Сложенный вчетверо листок бумаги, слегка опаленный.
Марцысь осторожно разворачивает листок. Неумело, но четко выведенные буквы. По-русски. Что это может быть? Слабо мерцает огонек коптилки. Надо приблизить бумагу к самому огоньку.
«Польскому солдату, для которого я шью эту шинель, желаю счастья, здоровья, желаю храбро бить врага и благополучно дойти до Родины».
И даже фамилия не подписана. Просто – «Таня».
Чужая русская девушка, которой он не знает, которую никогда в жизни не увидит, с любовью шила эту шинель, вложила в каждый стежок свое горячее сердце. Послала польскому солдату свои пожелания, улыбку своих губ. Какая она, эта незнакомая Таня?
– А здорово, брат, выбрался ты из этой истории, – говорит Шигельский после того, как уже в сотый раз было обсуждено происшествие с Малевским.
Да, да. Ему посчастливилось. Выть может, в эти черные минуты измены и предательства его заслонили, спасли добрые пожелания Тани, работницы военно-обмундировочной мастерской? Конечно, это смешно – верить таким предрассудкам, но на дне его сердца все же горит крохотный теплый огонек веры, что именно Таня спасла его своими добрыми пожеланиями.
Марцысь еще и еще раз перечитывает выученное уже наизусть сообщение Советского Информбюро. Будто эта простреленная шинель вернула ему уверенность в себе. Ведь и он мог погибнуть: пролети этот осколок чуть ближе к телу – и он лежал бы в госпитале или был среди тех, о ком говорится в приказе: «Вечная память героям, павшим в боях за свободу и независимость…»
В сотый раз перечитывать сводку, чувствуя, как громко, в радостном восторге бьется сердце.
«Ведь все это и обо мне! Ведь и я шел вместе с другими в штыковую атаку, которой не выдержали немцы. Ведь это и со мной, в числе других, не справились пикирующие бомбардировщики. Это обо всех нас – значит, и обо мне…»
Теперь читает газету Павел Алексеевич в совхозе и знает, что и его тракторист Марцель Роек выполнил боевое задание, выполнил свой обет, работал так же честно, как на тракторе. Вечерком, после работы, сойдутся прежние товарищи, они поговорят об этом приказе и помянут добрым словом всех поляков, которые работали вместе с ними, а теперь выполнили боевое задание. Приедет в совхоз Канабек – быть может, этот приказ вычеркнет из его памяти тех поляков, которые обманули и обокрали его колхоз, сбежав перед весенними работами.
Прочтут мать и Ядвига и будут знать, что он не обманул доверия, хотя не стал сразу героем. Не так-то просто это оказалось!.. Надо хоть шинель зашить так, чтобы видно было, что это дырка от осколка. Чтобы Владек увидел. Только Владеку это и можно показать. Матери и Ядвиге, пожалуй, не надо… Только Владеку.
Ядвига и мать узнали о битве раньше, чем пришли открытки от Марцыся.
…Пасмурный октябрьский день. Созваны все сотрудники. Собираются в самой большой комнате правления Союза польских патриотов.
– Что случилось?
Все ждут именно этого. Но вдруг другое?
– Наши близкие прошли боевое крещение. Первая дивизия в бою под Ленино выполнила свою присягу.
В ответ – тишина. В комнате набито битком, но никто не шелохнется. Стоят сестры, жены, матери тех, что вчера и позавчера пролили свою кровь на поле боя. У каждой из этих женщин, работающих здесь, в Москве, есть кто-нибудь близкий в Первой дивизии.
И вот они стоят тут. Ручьями струятся слезы. Высокое мгновение, которого ожидали четыре года.
И ни одного вопроса. Ни одна из женщин, стоящих здесь в набожном молчании, не знает, не осталась ли она вдовой, сиротой, навеки одинокой. Ни одна не знает, жив ли близкий человек, или погиб, выполняя боевое задание. Но ни одна, ни одна не спрашивает… Это мгновение выше, чем своя радость, чем своя скорбь. Первая дивизия – это не мой брат, муж, сын. Первая дивизия – это тысячи самых дорогих, самых близких сердцу людей. Во всем мире нет сейчас людей более близких.
Переворачивается страница истории. Светлой, широкой дорогой ложится путь на запад, путь домой, путь на родину. Можно высоко поднять голову. И ни одна женщина не спрашивает, ни одна не дрожит от беспокойства. Слезы, текущие по лицам, – это слезы радости.
Для других слез придет время позже. Но сейчас здесь нет ни вдов, ни сирот. Сейчас все они – объединенный счастьем и гордостью союз людей, которые вступили на великий путь, путь к новой, счастливой родине.
Шувара слушает. Он слышит затаенное дыхание, безмолвный голос этого мгновения. И вдруг чувствует невыносимую тяжесть своих пятидесяти лет. Ох, не просто пятидесяти лет! – десяти долгих лет тюремного заключения, тяжких дней безработицы и нищеты, отзывающихся во всем теле какими-то неясными, мучительными болезнями. Он не был там, туда его не пустили. «Вы нужнее здесь», – было сказано ему. И этому можно было верить – вплоть до сегодняшнего дня. И, может, он будет этому верить завтра. Но только не сегодня, только не в эту минуту…
С тихими, сосредоточенными лицами стоят жены, матери, сестры. И ни одна не спросит, ни одна не выдаст своей тревоги. Хочется выйти на середину комнаты и низко поклониться им, этим женщинам, каждая из которых, быть может, в это мгновение уже осталась вдовой, сиротой, навеки одинокой на земле. Низко, по-крестьянски поклониться им за это молчание и за эту ясность, которая неожиданной красотой озаряет их строгие лица.







