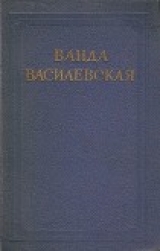
Текст книги "Том 4. Песнь над водами. Часть III. Реки горят"
Автор книги: Ванда Василевская
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 33 страниц)
Часы работы на тракторе были хорошими часами. Более того – это были часы счастливые. Марцысь смотрел с высоты на огромное, казалось бы, непобедимое пространство. Машина была послушна рукам – большая, тяжелая машина слушалась его, Марцыся, рук. Здесь он чувствовал себя и вправду взрослым. Здесь ему не приходилось пререкаться с матерью о своем возрасте. Машина двигалась так, как повелевал Марцысь. Ни споров, ни сомнений – трактор его слушался.
Конюх Володя говорит, что трактор не приравняешь к коню: конь все понимает, с конем можно разговаривать, как с человеком, а трактор что? Железо – железо и есть. Но это вздор. Марцысь чувствовал, как волнуется и вздрагивает, двигаясь, железное туловище трактора, как послушно оно подчиняется его приказам, он чувствовал, что трактор можно просить, уговаривать его идти как следует. Марцысь знал его характер, капризы и находящее на него по временам упрямство. Притом той радости, какую давал трактор, не мог дать конь: он давал упоительное ощущение огромной силы, когда нетронутая с утра степь к вечеру раскидывалась темными бороздами лоснящейся вспаханной земли и когда с улыбкой превосходства вспоминалась вспашка, которую приходилось видеть раньше, под Груйцем. Лошадка тащит плуг. Пахарь изо всех сил налегает на чапиги. Медленно вытягивается мелкая борозда на клочке земли, лениво ложится рядом с ней другая. До конца поля далеко, стерня убывает медленно. И лошадь и человек кажутся маленькими, слабыми, плуг – беспомощным. Когда-то они кончат работу? А ведь там, под Груйцем, были крохотные, изрезанные межами поля. Что же мог бы сделать тот пахарь, пусть взрослый и сильный мужчина, со своей лошаденкой на этих мощных массивах земли? Здесь управлял трактором он, Марцысь, которого мать упорно считала ребенком, а между тем, когда он вечером, стирая пот с лица, оглядывался на сделанное за день, ему самому не верилось, что это сделал он. Три плуга, прицепленные к трактору, шли дружно, одним ритмом, трактор стучал как бы в такт биению сердца Марцыся. Да, это была прекрасная работа! И когда с высоты сиденья, будто с капитанского мостика на корабле, Марцысь смотрел в степь, а пласты лоснящейся земли ложились словно волны на море, он чувствовал себя победителем, капитаном корабля, преодолевающего послушные ему моря. Ветер обвевал его лицо – и это был ветер материков и океанов; тепло, идущее от мотора, казалось бьющим снизу жаром котлов. Да, это была прекрасная работа! В ней был азарт и риск, было радостное соревнование: вспахать больше, чем Егор Иванович, старый тракторист, съевший зубы на тракторной вспашке. Или хотя бы больше, чем хромой Илья, который все-таки на несколько лет старше Марцыся. И переживать радость победы, видя свою фамилию на доске почета, вывешенной перед дирекцией. Да, это были счастливые дни и счастливые мгновения: сердце ширилось, от радости хотелось кричать на весь мир. Эх, увидели бы его сейчас школьные товарищи… Щенки! Чего стоили все их победы на футбольном поле по сравнению с тем, что делалось здесь!
То были хорошие дни и часы. Но потом случайно брошенное кем-нибудь слово, сообщение с фронта, солдатское письмо или обрывок газеты снова погружали его в черное отчаяние. Конечно, здесь, за тысячи километров от фронта, за спиной армии, под защитой советских солдат и советских танков, легко разыгрывать героя… А что было тогда, в сентябре тридцать девятого? Ведь он так и не видел ни одного немца. Драпал как угорелый из-под Груйца на восток, под Ровно… Не кинулся с гранатой в руках под немецкий танк, не ринулся с саблей на немецкий танк, как кидались в конном строю те, под Кутно, не выдерживал ураганного огня с суши, с моря и с воздуха, как герои Вестерплатте… Правда, сколько ж ему тогда было лет? И пятнадцати не было. Но разве это оправдание? Нет! Были герои и помоложе его. Он просто уходил от немцев на восток. В то время и это считалось своего рода геройством… Но если бы еще он шел, как другие, куда глаза глядят, в неизвестность!.. Нет, он прекрасно знал, что там, под Ровно, он встретит мать и Владека. А потом здесь, в Советском Союзе, когда стала формироваться эта польская армия, ведь можно же было попробовать – а вдруг бы удалось?.. Но, собственно говоря, эта армия с самого начала как-то не внушала доверия; потому, вероятно, матери и удалось так легко его отговорить. Уже тогда стало известно, что принимают не всех, перебирают, капризничают, что есть какие-то «свои», которым отдается предпочтение. К тому же все в один голос говорили: «Молод, речи быть не может, чтобы приняли! Солдат тридцать девятого года не берут, кадровых не берут, а такого сопляка вдруг примут…» А потом, по пути на юг, Марцысь и вовсе потерял охоту идти в эту армию.
Стали поступать сведения, передаваемые украдкой, шепотком, из уст в уста, рассказы о странных порядках в андерсовской армии. И вот что удивительно: самым странным было как раз то, что они почти не отличались от довоенных польских порядков. Но тогда это воспринималось как нечто естественное, а сейчас невольно предъявлялись какие-то иные требования, прикладывались новые мерки. Словно самый воздух Советской страны менял людей, менял их взгляды на вещи. Теперь же, когда оказалось, что армия, которая в октябре собиралась выступить на фронт, не только сидит еще в марте на месте, но вообще намерена смыться отсюда, – теперь стало вполне ясно, что идти в нее незачем.
Все это так. И все же стыд ел Марцысю глаза. За этих спекулянтов в местечке. За объедающих колхозы и удирающих к весне лодырей. За самого себя – ведь здешние люди верили в польскую армию: «Вот и вы нам поможете», – говорили они доверчиво; что же они должны думать о нем, который не идет в армию? Что он уцепился за материнскую юбку, хотя не хром, как Илья, не стар, как Егор? Объяснить им, как обстоит дело с этой армией?.. Нет, это тоже было стыдно.
На тракторе он забывал обо всем. Но по вечерам, несмотря на усталость, подолгу не мог уснуть, ворочаясь с боку на бок и глотая слезы.
Герой! Влез на трактор и воображает, что невесть какой подвиг совершил. Там, там надо было геройствовать, под пылающим Груйцем. Ведь потом оказалось, что Варшава еще защищалась, вот там и доказывал бы, годится он в герои или нет… Велика штука – пройти пешком несколько сот километров, чтобы встретиться с матерью! В тридцать девятом и в сороковом году еще можно было вспоминать об этом путешествии как о героическом приключении. Советские люди расспрашивали его, внимательно слушали его рассказы, сочувствовали. Он видел то, чего здесь еще тогда не видели, и это помогало ему временами забывать, что единственной его заслугой было обладание молодыми, здоровыми ногами.
Но теперь дело обстояло иначе. Теперь ему рассказывать было не о чем, здесь видели побольше, чем он, – взять хоть бы этих девушек, которые пришли с коровами с Украины, не говоря уже о Павле Алексеевиче, не говоря о тех, о ком случалось читать в газетах, кого случалось видеть в документальных фильмах или слышать по радио. Многое порассказать могли бы они, здешние люди. Они видели больше и видели иначе. Нет, здесь не было беспорядочного бегства, паники, отчаяния. Здесь была упорная, ожесточенная борьба, была непоколебимая вера в победу, был единый порыв, как на крыльях подхвативший весь народ.
Да, Марцысь помнил в Польше и радостные дни накануне войны. Задорные дни, когда верилось, что победа будет завоевана разом; когда потихоньку мечталось: «Пусть бы уж, пусть бы они поскорее напали, мы им покажем!» И все эти курсы противовоздушной обороны, и все эти земляные оборонные работы. Но всего этого хватило только на первый день войны. В этот день толпа еще считала самолеты в безоблачном небе, и люди, задрав головы, кричали: «Глядите, глядите, наши гонят немца!» И все искали «немца» где-то впереди стаи плывущих в вышине самолетов… чтобы в конце концов узнать, что никаких «наших» там нет, что вся эта скользящая в небе серебристая стая и есть немцы, одни только немцы, и никто их не гонит. За все время своего бегства Марцысю пришлось увидеть один-единственный польский самолет – маленький, беспомощный, укрытый в зарослях над озером в Полесье, тогда как изо дня в день небо было черное от тех самолетов…
Нет, здесь дело другое. Когда по вечерам в строгом молчании все слушали сводку Советского Информбюро и тяжело вздыхали, слыша слова: «После ожесточенных боев наши войска оставили…» – Марцысь твердо знал, что бои были действительно ожесточенные и что каждую пядь земли враг оплатил потоками своей крови. Сводка сообщала число убитых немцев, сбитых самолетов, уничтоженных танков – и это было так.
Да, это другая война. Здесь кавалерия не атакует стальные туши танков. Здесь все настоящее, огромное, героическое.
И что значит перед лицом всего этого героизма его работа на тракторе, пусть даже добросовестная, пусть превосходная работа? Ему твердили, что это тоже работа для фронта, что каждым своим усилием он приближает час победы. Конечно, так говорили. А ведь даже Илья, калека, но превосходный тракторист, – как тяжело переживал то, что его не взяли на фронт!..
– Дурачок ты, – говорил Шувара. – Ну, и что бы ты сделал? Тебе бы даже винтовки не дали, потому что их не было. Нам дали кремневые ружья из музея, понимаешь? Дробовики… Самое подходящее оружие для современной войны!
– Но вы по крайней мере были в этих батальонах.
– Ну ладно, был, а что вышло? В конце концов так же, как и ты, очутился здесь. Варшаве я мало чем помог, хоть и с дробовиком в руках… А тут мы еще пригодимся.
– На тракторе?
– Что ж это ты с таким презрением говоришь о тракторе? Ну хоть бы и на тракторе… до поры до времени. А потом, может, и не на тракторе.
– Как бы не так! В Иран ехать, что ли? Нас ведь в Красную Армию не примут.
– В Иран? Ну не-ет! Немножко потерпи…
– Очень уж вы терпеливы.
– Может, и не так уж терпелив, как тебе кажется, – сказал Шувара, зажимая в тиски кусок железа. – Ты что, думаешь, что я успокоился на этом дробовике – и все? Нет. А только, видишь ли, ты выходишь из себя по поводу Ирана, а я полагаю, что ничего другого и ожидать нельзя было. Видел я их, вблизи видел. Такого старого воробья, как я, на мякине не проведешь. С самого начала знал, чем там пахнет. Конечно, теперь-то легко говорить, но уж если тебе угодно, так и я пытался туда вступить… Ну нет, брат, и они не такие дураки, чтоб меня взять. Тотчас почуяли, с кем дело имеют… Еще бы! Ведь у них служат все полицейские, шпионы, охранники, которые не остались под немцами. Я там сразу на старого знакомого напоролся…
– А у вас-то что с полицией было?
– Да так, знаешь, небольшие старые счеты… Не беспокойся, не уголовные. А таких людей, как я, им не требуется! Вот ничего у меня с ними и не вышло.
– Вот видите. А что же дальше будет?
– А дальше, брат, посмотрим. Подожди немного, сейчас мы и здесь полезную работу выполняем. Но это не все, не все… Ты не огорчайся. Увидишь, что мы еще пойдем в Польшу, да с винтовкой, а то и с автоматом, а не с дробовиком…
– Это еще откуда?
– Да отсюда же, отсюда, откуда еще? Не из Лондона и не из Ирана, а именно отсюда.
– Любопытно, каким это образом!
– Мне, брат, и самому любопытно, видишь ли. Но ты вот терзаешься, за всех хочешь отвечать, и за Рыдза, и за Бека, и за Андерса, и за Малевского… Все это хорошо, но бесполезно. Лучше делай пока свое нужное дело.
Голубые искры брызгали из-под напильника, которым работал Шувара, скрежет сверлил Марцысю уши.
– Говорю тебе, – убеждал его слесарь, – мы еще пригодимся, и как еще пригодимся! Только дураки могут думать, что эта война ничего не изменит.
Однако Шувара не все рассказал Марцысю. Он скрыл одну подробность, которую сам ни на минуту не мог забыть. Дело в том, что он ездил не только в Бузулук, где формировалась армия Андерса и откуда его спровадили после короткого и не слишком приятного разговора. Задолго до этого, как только началась война, он побывал в советском военкомате. Но там его категорически отказались принять в ряды армии. Напрасны были ссылки на революционное прошлое, на ударную работу в советской промышленности. Его любезно поблагодарили, сказав, что пока в нем нет надобности; конечно, в случае чего… И так далее.
Только после этой неудачи он отправился в Бузулук. Но об этом первом отказе он не упомянул в разговоре с Марцысем. Слишком болезненно пережил его. Незачем сопляку знать об этом.
Новые подробности об армии Андерса Марцысь узнал от Хобота.
– С евреями, ну, как с собаками обращаются! И не только с евреями. Там к ним немного западных украинцев и белорусов попало. Дают им жизни!.. А какая агитация ведется, не дай бог! Офицерики выфранчены, как до войны, а солдату тяжко. О войне они и не думают. Они ждут, чтобы немцы большевиков побили, а потом им Англия готовую Польшу даст. Я там повертелся – и ходу. Мерзость такая. С коммунистами без суда расправляются. И кругом воры. Продовольствия столько, что все могли бы есть вдоволь, так нет, они спекулируют, деньгу околачивают. Там один денщик хвастался, что они со своим капитаном золото скупают. Здесь золото дешево – посольство им дает монету, они и скупают. Говорит, уже полчемодана этот капитан набрал золотых портсигаров и всякой всячины. И потом… – Хобот огляделся и, понизив голос, сказал: – И потом, знаешь, чем они еще занимаются?
– Чем?
– Шпионажем. Разузнают, где аэродромы, где какие станции, склады, где какие дороги…
Марцысь остолбенел.
– Что ты говоришь? Для кого они станут шпионить?
– А холера их знает. Для англичан, что ли…
– Да ведь это союзники?!
– Ну и что с того? А может, и для немцев…
– Ну, это уж слишком!
Но тут вмешался Шувара:
– Почему – слишком? Многие из них еще до сентября у немцев на жалованье были, отчего бы им и не продолжать свою работу? Надо трезво смотреть на вещи. Видел этот журнальчик, что посольство издает? Так и пышет от него ненавистью, а ведь им еще приходится поневоле сдерживаться.
И вдруг, как бы припомнив что-то, обратился к Хоботу:
– У тебя, брат, какие-то грешки на совести есть, а? Смотри, как бы это не повторилось. Обстановка сейчас такая, что всем нам приходится отвечать друг за друга. Так ты гляди!
Загорелое худощавое лицо Хобота налилось кровью. Покраснел даже лоб.
– Вы, вы… Это про то, что я тогда в поезде тому фрукту сказал?
– Вот-вот!
Хобот хрустнул пальцами:
– Да ведь… ведь это же неправда!..
– Как, неправда?
– Ну, я только хотел, чтобы он от меня отвязался… А на самом деле было совсем другое… Скандал мы устроили с приятелями, ну выпивши были. Так вот, за хулиганство…
Шувара пожал плечами.
– Не верите? Я и бумажку могу показать. У меня есть бумажка, там все написано.
– Нашел время хулиганить!.. Но все равно, хулиганство ты тоже брось!
– Да что вы думаете, что я какой-нибудь скандалист? Просто так случилось, со всяким может случиться…
– Я тебя только так, на всякий случай предупреждаю…
– И предупреждать нечего, – обиженно огрызнулся Хобот. Но Шувара вдруг рассмеялся, и в его серых глазах блеснули веселые искорки.
– Эх, парень, парень, и врать-то ты не умеешь, сейчас и уши покраснели.
– Как это? – смутился Хобот.
– Да вот так. Ладно уж, меня не надуешь. Но, чур, уговор: что было, то было, но сейчас – ни-ни! Сейчас все по-новому, согласен?
Хобот молча кивнул головой, исподлобья глядя куда-то в сторону.
Некоторое время он сторонился Шувары, хотя его послали на работу в мастерскую, которой тот руководил. Но обида скоро рассеялась. Шувара, с его спокойным голосом, с его добродушной усмешкой и умением разъяснить все трудные вопросы, легко привлекал к себе сердца. К тому же он был превосходным слесарем, и это внушало уважение Хоботу, который имел за собой лишь недолгие годы практики у пьяницы-мастера, не горевшего желанием поделиться своими скудными знаниями с учеником.
Подружившись с Хоботом и получив от него все сведения об андерсовской армии, Марцысь окончательно убедился, что жалеть ему не о чем. Но ведь это он знает лишь теперь. А сначала казалось, что это настоящая армия и что именно там его место. Все же он тогда не сумел настоять на своем, не смог убедить мать… Конечно, в сущности вышло даже лучше, но мальчика мучили сомнения в твердости его характера.
Было и еще кое-что, что ему не нравилось в самом себе. Иногда он вдруг ловил себя на хвастовстве, на стремлении показаться лучше, чем он был на самом деле. И это было особенно отвратительно здесь, где люди без всякого бахвальства, как нечто само собою разумеющееся, совершали настоящие подвиги.
Владеку хорошо – он ни о чем таком не задумывался, а жил себе, словно все вокруг делалось само собой. Но Марцысь еще с детства увлекся тем, что называлось выработкой характера. Человек должен проверять себя, управлять собой, воспитывать в себе нужные свойства, истреблять свойства излишние и вредные. Уже много лет он упражнял силу воли. Он довел в себе до совершенства уменье просыпаться в заранее назначенный час: «Проснуться без десяти семь!» – приказывал он себе с вечера. Сначала это не выходило. Он вдруг просыпался испуганный, словно его за волосы выхватили из мягкой глубины сна, и, взглянув на будильник, убеждался, что всего пять часов. Засыпал и снова вскакивал; но оказывалось, что он спал всего десять минут и до назначенного срока еще далеко. В конце концов Марцысь добился того, что просыпался – минута в минуту – в то время, которое назначал себе с вечера. Дома знали, что Владека надо силой стаскивать с постели, но Марцысь всегда встает вовремя. «Значит, можно выработать в себе все, что хочешь!» Можно овладеть своим сном – значит, и многим другим, происходящим будто бы независимо от тебя. И это необходимо, если хочешь стать настоящим человеком. Кем именно – было для него не совсем ясно, и выбор часто зависел от случайности: от последней прочитанной книги, от недавних событий. Но всегда это было что-нибудь необычайное, изумительное, прекрасное.
Иногда – капитан судна или знаменитый путешественник, иногда – полководец или изобретатель. Но во всяком случае герой. Этой основной цели и служили все мелкие упражнения воли, к которым он принуждал себя. Скажем, круглый год, вне зависимости от температуры, мытье с ног до головы холодной водой. Мать кричала, что он простудится, что это бог знает что – обтирание зимой, в холодных сенях, где вода в ведре покрывалась тонкой коркой льда! Да, сперва это было ему трудно. Пока он наливал в таз ледяную воду, кожа от одного предчувствия того, чему она сейчас подвергнется, дрожала мелкой дрожью, и все тело невольно ежилось. Вода обжигала, как огонь, перехватывало дыхание. Но вот он докрасна растирал тело грубым полотенцем, и его охватывала внезапная, неизъяснимая радость. Потом гимнастика на коврике из лоскутов, и снова радость от того, что мускулы становятся все крепче, играют под кожей. И постепенно холодная вода становится уже необходимостью, ежедневной привычкой, удовольствием. Значит, можно силой воли приучить свое тело радоваться тому, чего оно раньше боялось! Можно также научиться сдерживать гнев; если ты не позволяешь вывести себя из равновесия, это тебе дает преобладание в стычках с товарищами. Можно упражнять волю и в другом – отказаться от сладких блюд, от десертов: «Не люблю!» Мать сперва упирается: «Сладкая пища необходима», но в конце концов вынуждена примириться и лишь время от времени поворчит: «В нашем доме, когда я была маленькая, речи ни о каких таких капризах не было. Ешь, что дают, и все!» Но мать его не понимает. Ведь надо подготовиться к будущей жизни – уметь отказывать себе во всем, уметь сказать себе: «Делай так, и не иначе!» Это нужно, чтобы суметь перенести все, что переносили люди на необитаемых островах, в глубине пустынь, на вершинах гор, в самых трудных условиях, чтобы суметь посмеяться над трудностями и препятствиями.
И вот оказалось, что Марцысю трудно отказаться от хвастовства. Вдруг так захочется поразить чем-нибудь Илью или даже Егора Ивановича! Илья – тот слушает с разинутым ртом и широко раскрытыми глазами, и Марцысь все более увлекается, увлекается, пока вдруг не заметит, что явно перехватил. Тут-то Егор Иванович и подмигнет ему с такой плутовской усмешкой, что Марцысь, покраснев как рак, сразу умолкает.
И это тем более нелепо, что как раз теперь то, о чем всегда мечталось, как о далеком, туманном будущем, начинает претворяться в действительность. Работа на тракторе – это уже нечто настоящее. Это не мечта, что, мол, когда-нибудь… Это уже в руках, это не обет, а свершение. Марцысь-тракторист уже что-то собой представляет. Он уже действует. Разумеется, это еще только начало. Но, видя свою фамилию на доске почета или в районной газете (ох, какая это крылатая, поднимающая кверху радость! Только бы не выдать ее, ни за что на свете не показать окружающим!), получаешь подтверждение, что ты не ошибся, что у тебя были не просто детские мечты, что ты действительно будешь «кем-то», и это признают все, даже сам Егор Иванович, который, посмеиваясь над хвастовством Марцыся, хвалит его работу, даже мать, которой все еще кажется, что Марцысь ребенок, и которая все же не может не гордиться им. И, наконец, это признает Ядвига, с которой Марцысь говорил гораздо откровеннее и искреннее, чем с матерью, и которая никогда не давала ему почувствовать, что она намного старше его. К ней можно было относиться, как к товарищу, и она держала себя, как настоящий товарищ.
Как раз в эти дни Ядвига получила письмо от уполномоченного посольства унтера Лужняка. Она долго и недоверчиво вертела в руках конверт. Письмо? Что это может быть за письмо? Она даже не подумала о Стефеке: сразу заметила почтовый штамп ближайшего городка. Недоверчиво перечитывала адрес: «Ядвиге Хожиняк».
Хожиняк… Неужели это ее фамилия?
Последнее время она опять совсем позабыла о Хожиняке. Даже удивительно – ни разу не подумала о нем за все эти месяцы. Но это не меняло положения вещей – того, что она носила эту чужую фамилию чужого человека.
Какая новая неприятность ее подстерегает? Она неприязненно припоминала короткое сухое письмо, которое получила от мужа, когда он распорядился, чтобы она ехала на юг. Теперь письмо было не от него, почерк на конверте незнакомый. И все же лучше, пожалуй, его не распечатывать. Зачем нарушать спокойствие, которое она, пусть немного искусственно, но все же выработала в себе здесь? Щебет Олеся, заботы госпожи Роек, ее мальчики, все эти здешние люди, такие славные, сердечные; серебристая мягкая шерсть овец, нежное слабое блеяние ягнят, расцветающие в степи тюльпаны – нет, она не хотела ничего, что могло бы испортить ей эти дни.
Но госпожа Роек прикрикнула на нее:
– Да что ты, дитя мое, заранее огорчаешься? Вот сумасшедшая, право! Распечатывай. Что там может быть такого? И как в тебе никакого, ну никакого любопытства нет?.. Я бы уже сгорела от нетерпения узнать поскорей, а ты…
Письмо было коротенькое, на официальном бланке:
«Милостивая государыня, прошу вас по нетерпящему отлагательства делу немедленно приехать к уполномоченному польского посольства».
И все.
Неразборчивая размашистая подпись.
– Что это может быть? – удивлялась Ядвига.
– Поедешь – узнаешь.
– Вы думаете, надо ехать?
Госпожа Роек заломила руки.
– То есть как это? Разумеется, ехать! Беги скорей к Павлу Алексеевичу, узнай, есть ли какая машина. Нельзя откладывать! По крайней мере узнаем, что и как. Ишь, вспомнили вдруг о нас! То есть не о нас, а только о тебе, но это все равно.
Оказалось, что машину получить можно, но шофер занят. Госпожа Роек сама побежала в дирекцию к телефону и через четверть часа торжествующе объявила:
– Значит, так. С тобой едет Марцысь, у них какие-то дела в городе. Завтра раненько утром будь готова. Я сама поговорила с директором, и он сразу согласился. Марцысь с грузовиком будет здесь на рассвете. К вечеру вернетесь домой, и мы все узнаем. Не забудь взять с собой поесть, а то ты всегда так, будто человек может жить святым духом. А с этим хамом Лужняком держись посмелей, с ним деликатничать нечего!
– Да ведь я даже не знаю, чего ему от меня надо…
– Ну так что? Что надо, то надо, а хамить он все равно будет, не беспокойся, да еще после скандала, который я ему устроила! Но ты, впрочем, одна к нему лучше не ходи, иди с Марцысем, он тебе поможет. Ребенок, конечно, но все-таки поможет. Интересно, что там нового? Я прямо сгорю от нетерпения, пока вы вернетесь… Только не задерживайся там, дитя мое, сейчас же домой…
– Да зачем мне там задерживаться?
– Правда, незачем. Но так уж на всякий случай говорится… Эх, поехала бы я с тобой! Нет, не выйдет, неудобно отпрашиваться с работы: чего ради, скажут. Да к тому же ты сядешь в кабине с Марцысем, а я уж вроде лишний багаж… Вот если бы я умела водить машину, тогда другое дело.
Ядвига невольно улыбнулась:
– О, если бы вы еще умели машину водить…
– Вот именно! Да, что это я еще хотела сказать?.. Ах да! Ты там присматривай за Марцысем, как бы с грузовиком чего не случилось! А то он захочет перед тобой похвастать, как он ловко правит… Лучше уж помедленнее, все равно успеете. Пусть не спешит.
– Будьте спокойны. Он превосходно водит машину.
– Вот это-то и плохо! Очень уж он самоуверен, а тут достаточно маленькой неосторожности – и готово! Ты подумай, ведь ему… Сколько же это ему сейчас лет?..
– Пора вам привыкнуть к тому, что он взрослый парень.
– Взрослый? – Госпожа Роек всплеснула руками. – Ну, знаешь, Ядзя, от кого, от кого, а от тебя я этого не ожидала… Взрослый! Кто не знает, тот действительно мог бы подумать, очень уж он вытянулся. Но ты!
– У него уж и усы пробиваются…
– Усы? Подумаешь, усы! Да это и не усы вовсе. Что-то такое у него там есть над верхней губой, но до усов еще далеко. Пушок какой-то! Да и какое это имеет значение? Мужчина, дорогая моя, остается ребенком до смерти, уж я тебе говорю, никогда он не бывает по-настоящему взрослым. А тем более Марцысь. Который же это ему год пошел?
Госпожа Роек постоянно путалась в подсчетах годов своих сыновей, ссылаясь на то, что время летит так быстро, оглянуться не успеешь.
– Еще недавно оно на цыпочки становилось, чтобы посмотреть, что на столе лежит, – и, пожалуйста, тракторист!
И, как всегда, забыв о возрасте сына, она вдруг начинала восторгаться:
– Тракторист, ну и кто бы мог подумать! Я своим глазам не верила, прямо-таки своим глазам не верила, когда прочла, как его в газете хвалят, – оживленно рассказывала она Ядвиге, словно та слышала об этом впервые, а не присутствовала при чтении газеты, которую принес им Павел Алексеевич. – Впрочем, сейчас мне больше всего любопытно, что тебе там завтра окажут.
Но Ядвиге не было любопытно. Сердце ее сжималось, предчувствуя недоброе. Она плохо спала всю ночь, и когда на рассвете перед домом зафыркал мотор и из кабины выскочил Марцысь, Ядвига была уже готова.
Было прохладное, серебряное от росы утро. Но вскоре прозрачный воздух словно насытился цветочной пыльцой, так озарило его золотисто-розовое сияние. Развертываясь широкой лентой, ложилась под колеса упругая степная дорога. Оконце кабины было открыто, и веселый свежий ветерок ласкал лицо.
Ядвига забывала минутами, куда и зачем едет. Сердце утихло, будто вся жизнь переменилась и не осталось ничего, кроме беспредельной шири по обе стороны широкой белой, уходящей в даль дороги.
Да что в ней было и прежде, в ее жизни? Любовь? Когда-то она любила так крепко, так тяжко, так мучительно. Думала, что только эта любовь и существует… А на поверку оказалось, что она смогла усомниться, предать свою любовь, предать Петра. И Петр смог с таким каменным лицом стоять перед ней в тот страшный вечер… «Нет, нет, только не об этом», – торопливо отогнала она от себя эти мысли, успев, однако, заметить, что воспоминание потеряло свою остроту.
«Может, потому, – подумала Ядвига, – что теперь я испытала на себе человеческую доброту. Хотя сама-то я не добра».
Еще вчера госпожа Роек сказала: «Ты очень доброе существо, Ядзя!» Но это было не так, и Ядвига прекрасно знала это. Добрыми она считала тех, кто добр бескорыстно, ничего за это не ожидая. Она же, делая что-нибудь для других, старалась купить себе этим дружескую улыбку, доброе слово, хорошее отношение. И, может быть, именно потому ей всегда казалось, что никто к ней хорошо не относится. А между тем без доброго отношения она зябла, ее душа замерзала, она чувствовала себя глубоко несчастной. И если Ядвига так охотно заменяла других в ночных дежурствах, брала на себя чужую работу, ухаживала за больными, то не потому, что была добра, а чтобы снискать к себе хоть чуточку симпатии. Значит, делала она все это для себя. Правда, ей нужны были не деньги, не карьера, не материальная выгода; она добивалась лишь хорошего отношения. Но это ничего в существе дела не меняло: она не была бескорыстной.
Марцысь внезапно затормозил. Оторванная от своих мыслей, Ядвига вздрогнула.
– Поглядите-ка! Выйдемте на минуту!
Она выскочила, слегка опершись на его руку, но тотчас споткнулась – ноги от долгого сидения в машине стали как чужие. Мальчик поддержал ее.
– Взгляните!
Ядвига охнула. Равнина, повсюду зеленая от буйной сочной травы, влево от дороги расстилалась огненным ковром.
– Тюльпаны, – шепнула она оторопев.
Крупные красные цветы на высоких стеблях колыхались, кланялись от легкого ветерка, как колосья в поле, шелковисто поблескивая на солнце. По полю то и дело проходила серебристая волна; когда ветер гнул цветы к земле – тогда показывалась внешняя сторона лепестков, подернутая чуть заметным сероватым пушком. Куда ни кинь, всюду было ликующее поле, всюду этот победный, торжествующий багрянец. Он взбирался на холмы, спускался в ложбинки и, добежав до горизонта, сливался с небом. Нет, это не было похоже на полевые цветы. Это были великолепные, огромные тюльпаны, каких ей не случалось видеть даже в цветочном магазине Бреста. Осторожно раздвигая стебли, чтобы не топтать их, она погрузилась в огненно-красное поле. Цветы достигали ее колен, а в низинах и ложбинках были еще выше. Ядвига шла, прикасаясь концами пальцев к чашечкам цветов. Казалось, еще минута – и сердце не выдержит этого буйного избытка красоты, этой сумасшедшей роскоши ликующего цветения.
– Нарвать? – нерешительно спросил Марцысь.
Нет, нет, только не рвать! Они слишком горды и прекрасны, чтобы обрекать их на увядание в кабинке грузовика. Такие радостные под весенним солнцем, под ласковым ветерком, такие влюбленные в свою красоту, сильные на своих сочных стеблях, такие упоительные. Правда, они не пахли. Но степь, воздух, ветер вокруг благоухали весной, свободной, буйной и зеленой. Высоко в небе звенели жаворонки – это были степные жаворонки, не такие, как там, дома; но они так же самозабвенно звенели в вышине, как жаворонки Полесья. На горизонте высился Тянь-Шань, словно легкий седоватый дым, словно сгущение лазурного воздуха, полоса насыщенной солнцем утренней мглы. Ядвига захлебнулась весенним ветром, несказанной красотой, от которой замирало восхищенное сердце. Слезы вдруг заструились из глаз.







