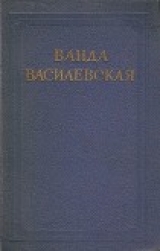
Текст книги "Том 4. Песнь над водами. Часть III. Реки горят"
Автор книги: Ванда Василевская
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 33 страниц)
Крупинки горящей махорки упали на его рубаху, но он заметил это, лишь когда запахло гарью. Осторожно погасил тлеющие нитки. На мгновение задумался.
– Вот какие дела. А второй раз фашисты пришли весной сорок второго года. Тут как раз пошли слухи, что наши идут на Украину. Такая радость в деревне была, будто они уж в Паленчицах, что ли. Совсем народ забылся, – думали, всему горю конец, вот-вот здесь наши будут. А тут, вместо того, они пришли. Донос какой был, что ли? Не иначе как донос, потому – по фамилиям вызывали… Уж мы с тех пор сто раз передумывали – кто донес? Кабы они Хмелянчука не повесили, никто бы и думать не стал – рыжий выдал, и точка. А раз и Хмелянчука – ничего понять невозможно. Потому, как воротился он весной, все сейчас смекнули, что это не к добру. Уж как-нибудь он да отомстит и за то, что его выслали, и за все… А он ничего, вроде тихо сидел, и вдруг – на! Пришли, взяли Павла, Осипа Хромого, Кальчука с Соней, повесили у церкви. Ну их-то – понятно. А вот что и Хмелянчука вместе с ними… Ошиблись, что ли? Что-то там на него офицер кричал, ткнул ему что-то под нос, да не до того людям было… После, как стали мы их хоронить, – ночью, тайком, потому строго было приказано не трогать, да не оставлять же людей на дереве, так уж мы ночью… Хороним и сами не знаем, как хоронить… Неужто вместе с Хмелянчуком? И все-таки две могилы вырыли. Рядом, правда, а все же по отдельности.
Он откашлялся, опершись подбородком на сложенные руки, помолчал, как бы раздумывая. Потом, не глядя на Стефека, продолжал:
– Так их, значит, на этой липе и повесили. И ни один не забоялся, ни-ни, смело шли. А Соня Кальчук, избитая вся, в крови, еще кричала людям, чтобы не боялись, что наши, мол, придут…
Стефек стиснул руки так, что кости захрустели. Староста пододвинул ему махорку и клочок газеты.
– Ты бы закурил. Затянешься дымом, сразу в голове яснее. Вот сколько мы натерпелись и от болезней, и от мороза, и от голода, а уж хуже всего бывало, когда махорки не станет.
– Я не курю, – хрипло отказался Стефек.
– Правда, ты всегда был некурящий. Ну, на войне которые и некурящие попривыкали. Пить хочется, воды нет – закуришь, полегчает. Есть нечего – закуришь, все не так сосет. Вот и я, когда, бывало, сбегу в лес, – Иванчук-то с отрядом в это время ушел куда-то, так я один, как волк, по этому лесу бродил. И прямо скажу, голод человек выдержит, не так это страшно, особенно летом – ягоды, грибы, а то рыбку вытащишь из какой лужицы… А без табаку, вот это уж, можно сказать, трудно выдержать. Листьев, бывало, насушу, да что с того? Только вонь одна, да и в желудке тянет, а нутро не обманешь, оно знает – что́ махорка, а что́ сено. У партизан, у тех трофейный табак был, а мне откуда взять? Потом мне еще раза два приходилось в лес уходить… Так и вышло, что я и не воевал и дома не сидел. А Петр – тот все время в лесу, с первого дня, как гитлеровцы навалились, пока наши не пришли. А потом сейчас же в армию, теперь уж, наверно, далеко… Чуть бы раньше ты пришел, и с Петром бы повидался.
Стефек понимал, что староста пытается переменить разговор. Но ему нужно было услышать еще раз.
– Значит, били ее перед смертью? – спросил он чужим голосом.
Староста перебирал крошки махорки на столе.
– Соню? Били… Потому, в избе ее не было, в зарослях поймали…
Степенно, не спеша, староста рассказывает, как было дело. Весь тот день. С минуты, когда он проснулся от криков и немецкой команды – и до конца. Как пришли, как сгоняли людей, как вешали.
Стефек барабанит пальцами по столу. Что же такое человек, что он может это выдержать, не сойдет с ума, не выбежит с криком из избы, не падет трупом на дороге? О ком рассказывает староста? О каком диком, неслыханном случае?
Будто издали доносятся слова. О ком говорит староста? И вдруг, словно обухом по голове:
«Да ведь это же о моей Соне, о Сонечке, о моей Соне!» Кружится голова. Издалека долетают слова, стучат, гудят, как колокол. Раздвигаются стены избы, колеблются, как живые. И снова сходятся, сжимаются, как бы намереваясь сомкнуться, сдавить. Фуксия на окне вырастает в огромное дерево, гигантские колокольчики темнеют неприятной синевой. Это они, синие колокола, так гудят, так раскачиваются, сотрясая воздух избы, что прерывается дыхание в груди.
И вдруг все становится на свои места. Это изба старосты. Давно не беленные, грязные стены. Жужжат на окне сонные мухи. Это Ольшины. А Сони нет. Соня умерла.
Где это были могилы, на могилах кресты? Ага… Деревня Козары. Ведь и туда пришли однажды люди. Пришли отцы и мужья к своим детям и женам, у которых не было даже могил. Поросший травой пепел в вишневых садах.
Мысль цепляется за то село, вспоминаются вишни в белой пене цветов, поющий птичьим гомоном весенний день…
Тяжелее или легче делается от этих мыслей? Нет, ни тяжелее, ни легче… Но это еще не конец. Долог еще путь, и всюду на этом пути будут встречаться Козары и Ольшины…
«Вот как, значит, умирала моя Соня. Веря. Ожидая. Без страха, с высоко поднятой головой».
И вдруг – голос Сони. Даже удивительно, что еще совсем недавно, даже по пути сюда, ему казалось, будто он не помнит ее голоса. Теперь он слышит его, знакомый до глубины сердца. Едва слышный шепот: «Будь мужествен». Голосом, которого он никогда не забудет, своим живым, единственным на земле голосом Соня говорит ему: «Будь мужествен!» Он слышит голос Сони так явственно, что с беспокойством смотрит на старосту. Возможно ли, чтобы тот не слышал? Но староста не спеша рассказывает какой-то случай, происшедший в последние дни. И чистый, отчетливый голос Сони покрывает глухой голос старосты.
«Ведь я ясно слышу. Соня умерла два года назад. А я слышу ее голос. Здесь, в этой избе. А староста его не слышит. Значит, у меня, видно, помутилось в голове. А, может быть, так будет лучше? Я помешался», – мелькает в голове Стефека. Он снова собирает всю свою волю и возвращается к действительности. Упорно жужжат мухи на окне, на брюхатой печке. Староста крутит в узловатых пальцах цыгарку, заклеивает ее и еще раз повторяет свой рассказ.
Да, это действительность. Никогда больше не заговорит Соня, никогда не запоет она на мостках над озером. Те слова, о которых говорил староста, были ее последними словами:
«Будьте мужественны!»
Стоя с петлей на шее под ветвями липы, превращенной в виселицу, Соня звонким и чистым голосом сказала эти слова. Это ему, Стефеку, сказала она через тысячи километров, через пропасть двух лет, прошедших с того времени: «Будь мужествен…»
Когда это было? Когда же это было? – мучительно вспоминает Стефек.
Ну да, конечно же! Майские ночи на аэродроме… Сейчас невозможно вспомнить, в какой из майских рассветов это было. Но это было именно тогда. Когда он радостно захлебывался победой, когда самым важным был капитан Скворцов, когда все остальное становилось бледным и далеким. Именно тогда умирала Соня.
Староста сметал со стола невидимые крошки.
– А к Кальчукам не зайдешь?
– К Кальчукам?
– Девушки-то обе дома. Так, может, поговорил бы с ними? А то им будет грустно, если не заглянешь. Все-таки вроде родня. Так я тебя провожу, а там уж ты сам…
И Стефек снова слушает рассказ о том, как шла, как призывала к бодрости, как умирала его Соня.
…Меркнет солнце. Еще горит огнями озеро, еще горит огнями река. Трое молча стоят под развесистой, тенистой липой. Еле слышно шелестит листва. Цветы еще не раскрылись, но дерево уже покрыто светлыми прицветниками, из которых поднимаются хрупкие стебельки с пучками зеленых шариков. Еще день, два, и старая липа зацветет, зазвенит, окруженная тысячами пчел.
– Вот здесь мы их и похоронили, у церкви. На кладбище боялись ехать. Ночью похоронили.
Высоко растет буйная трава. Кое-где в ней сереют каменные плиты – выветрившиеся памятники давно позабытых могил. Крестьянское кладбище всегда было там, за рекой, на накаленных солнцем холмах, пахнущих чебрецом, желтых от очитка. А здесь когда-то давно хоронили богатых людей и духовенство. Но дождь уже давно смыл надписи на могильных плитах, плиты сравнялись с землей, кресты повалились и стали невидны в траве. Лишь кое-где сохранились буквы церковнославянских надписей. И не узнаешь, кто здесь лежит, кто здесь похоронен… Да и непохоже было это место на кладбище, давным-давно непохоже – еще когда Стефек ребенком бегал сюда с мальчишками.
Но теперь это опять кладбище. Два маленьких холмика.
Стефек взглянул на девушек. Старшая из сестер поняла.
– Здесь.
Она опустилась на колени у едва заметного холмика. Осторожно раздвинула траву, чтобы вырвать занесенный ветром колючий репейник, – ласковым движением, словно не травы касалась, а заплетала в косу темные мягкие волосы младшей сестры Сони.
Стефек неподвижно смотрел на могилу.
«Вот как мы встретились, Сонечка. Вот как пришлось встретиться после разлуки!»
Буйная трава на едва заметных холмиках. Выросла над Соней зеленая трава, поднялись пушистые шарики одуванчиков. Яркая, веселая, буйная трава. Будто тут никогда не было смерти – будто это цветет сама радостная, безмятежная жизнь. Здесь, под этой травой, под фонарями одуванчиков лежит Соня, Стефекова Соня. Синяя полоса от петли на шее – и даже этой полосы нет. Она уже рассыпалась в прах, Соня, чернобровая, черноокая девушка, его первая и единственная девушка, потерянная навеки.
Гаснет озеро. Тихо шепчет липа. Неслышно надвигается вечерняя тень. Меркнет зеленая трава на холмике. Пора уходить отсюда, от Сони.
Не звенит ли Сонин смех там, над озером, где они встречались в росистые утра, в полные звезд вечера? Не сохранила ли трава там, на лугу, следы ее босых ног, не раскачивается ли ветка ольхи, задетая мимоходом ее плечом? Куда ни взглянут глаза, всюду видишь Соню. Как наклоняется над водой, стирая вышитые рубашки. Как отталкивает веслом дуб от берега. Как бежит куда-то, только развеваются заплетенные цветной ленточкой косы. Все равно, быть ли здесь, идти ли к деревне, – Соня всюду.
И они медленно идут, направляясь к деревне.
– Что ж, опять уйдешь с армией?
– Куда же еще?
Ha запад, на запад, нести предсмертный возглас Сони Кальчук, веру Сони Кальчук, ее твердую волю к победе!
– А потом… вернешься в Ольшины? – робко спрашивает старшая.
Они сидят на досках перед избой. Далеко за рекой тени ложатся на холмы, где раскинулось кладбище, на луга и поля. Прозрачный, стелющийся по земле туман надвигается на Оцинок. Где-то слышится громкий разговор, плеск воды, насвистывание. Это возятся возле своих танков советские солдаты.
Ольшины… Вернется ли он в Ольшины?
На закате озеро, как всегда, разгладилось, затихло. Но сейчас, в сгущающихся сумерках, его гладкая поверхность понемногу утрачивает свой покой. Словно легкий вздох, словно какая-то дрожь проходит по воде. Всплеск, другой – и вот уже все озеро начинает раскачиваться мощно и мерно, шумит глубокой, непонятной песнью.
– А что… Ядвиги там где-нибудь не встречал?
– Ядвига в Москве.
– В Москве… Дом тоже сожгли – осадничий дом. А мамин цел. Может, хочешь взглянуть? Старый уж, кровля прогнила, а все же держится.
Нет, он не хочет глядеть. На что ему этот дом, на что ему жасмин, благоухающий по вечерам в саду, где он встречался с Соней? Условное место, куда она иногда приходила по вечерам. Все ушло, будто и не бывало… Нет, лучше не глядеть.
– Дивчата поют, – шепотом говорит одна из девушек. Издали, с лугов, доносится песня. Не задушили ее три года господства врага, не одолели ни пожары, ни кровь, ни голод, ни смерть. Над озером, над лугами в тумане несется песня. И от деревни, от изб, в хор девичьих голосов вдруг врывается звучный мужской голос. Танкисты.
Ольшины, Ольшины… Будто не было этих трех лет. Будто это один из тех, прежних вечеров. Еще минута – и загорится красная звезда над входом в клуб, замерцает от нее дорожка по озеру, зазвенит голос Сони Кальчук.
«Вернусь ли я в Ольшины? Откуда мне знать, куда мне суждено вернуться!»
Померкли зеленые чары Ольшин. В бесконечную даль отодвинулись детство, отроческие годы, юность в этих Ольшинах. Словно то был другой человек; тот Стефек, что жил здесь, знал каждый камень и каждую тропинку, каждое птичье гнездо, каждую заводь, где зимовали рыбы подо льдом. «Кончилась молодость», – сурово подумал Стефек. На этот раз навсегда. Не перешла обычным порядком в другой возраст, не пошла, как обычно, пусть по извилистой и заглохшей, но все той же дорожке. Нет – все, что было, все радости и печали – все отошло, словно было прочитанной книжкой о чужой жизни. И эту книжку, как крепкой металлической застежкой, замкнула смерть Сони. Нет, возвращаться некуда. Не к чему возвращаться. Надо сказать себе: «Я не возвращусь, а пойду дальше. Куда? Не знаю еще, не знаю…»
«Будь мужествен», – тихо, но внятно говорит голос.
«Я постараюсь быть мужественным, Соня. Буду достоин твоего доверия. Только как мне трудно, как страшно трудно…»
С озера доносится смех.
– Завтра и они пойдут дальше, – вздыхая, говорит Фрося Кальчук.
– Кто?
– Наши танкисты. Жаль. Веселей было с ними в Ольшинах. Только пришли, а уже дальше идут… Сколько частей прошло через Ольшины – и каждый раз грустно. Новым песням дивчат выучили, а то мы тут всё довоенные пели…
Радостный золотистый отблеск ложится на воду. Звенит, льется песня над лугами.
«Я буду мужественным, буду мужественным, Соня», – ответил Стефек тайному голосу, который несся над озером, над верхушками косматых верб, над зелеными просторами болот, над блестящим, сверкающим щитом озера.
Глава XVIШувара старался не смотреть. Но он видел этих людей и сквозь опущенные веки, будто чувствовал их кожей, всеми обостренными до предела чувствами. Кто они? Чего хотят? Как увидеть их подлинный облик? Как доискаться правды?
Три человека. Сидят как ни в чем не бывало. Не где-нибудь, а в Москве. И сидят, будто так и надо, будто дома… Чем они это заслужили? Как сюда попали? Пробиваясь через сотни километров пешком, с израненными ногами, в страданиях, муках, в борьбе? Нет. Их доставил самолет – кружным путем, с такими удобствами, будто никакой войны и в помине нет. Безукоризненно отглаженные костюмы – им-то никогда не приходилось ходить в лохмотьях. Холеные руки – им никогда не приходилось тяжким трудом зарабатывать себе на жизнь. А между тем о чем придется говорить с ними? О Польше, конечно о Польше. Но о какой Польше?
Бывший посол молчит. Замкнутое, гладкое, ничего не говорящее лицо. Сиятельный польский граф с гладко прилизанными темными волосами, со смуглым равнодушным лицом, он сидит за этим столом, видимо тщательно вникая в каждое слово, холодный, замкнутый. Нет, не в Москве бы тебе быть. И не в такой, ох, не в такой роли… Шувара безмолвно глядит на его непроницаемое смуглое лицо. Так и хочется сказать ему: «Ведь это вы организовали шпионскую сеть в Советском Союзе. Ведь это на вашей совести десятки и сотни людей, которые за эту шпионскую деятельность сидят сейчас в тюрьмах. Они наказаны справедливо. Но вы – вы остались в стороне. Вы спокойно уехали и вот снова явились сюда разговаривать с нами, вести переговоры, как равный с равными. Ведь это вы давали приказы скупать золото и драгоценности – и часть их, безусловно, вывезли в своих чемоданах, пользуясь дипломатической неприкосновенностью… Вы отвечаете за то, что люди подыхали с голоду, в то время как ваши склады ломились от запасов; вы отвечаете за то, что польские дети ходили в лохмотьях, в то время как целые орды ваших родственниц и любовниц наряжались в шелка. Неужели вы полагаете, что с этим покончено, что все позабыто и вам не придется держать ответ за свои преступления? Это вы грабили Советскую страну, обливающуюся кровью в героическом напряжении, вы ткали против нее паутину заговоров, вы сеяли клевету, чернили героический народ. Вы пытались разжечь ненависть против всего, что нам близко и дорого, против единственной страны, которая подала нам руку помощи в дни черной беды, против тех, благодаря кому мы еще будем свободными гражданами свободной Польши».
Лицо у графа чужое, будто иностранное. И вправду, что общего у этого человека с истекающей кровью польской землей? Что знает он о ней? Такие, как он, губили Польшу, такие привели ее на край пропасти; им-то беспечно и сытно жилось в городах, переполненных безработными, в деревнях, где пухли от голода завшивевшие дети. Он поступает умно, что почти не вмешивается в разговор. Что он может сказать? Какое право имеет говорить? По-настоящему, этому человеку место не здесь за столом. По справедливости, он должен быть в тюрьме. Как шпион. Как вор. Как скупщик золота и контрабандист. В свое время его прикрыл дипломатический паспорт. Только этот дипломатический паспорт дал ему возможность выехать за границу, под крылышко английских покровителей. И у него хватило наглости приехать теперь сюда как ни в чем не бывало, с официальной миссией.
«Ох, сказал бы я тебе, – с глухим гневом думает Шувара. – Меня ты не ослепишь своими графскими манерами. Мне прекрасно известна их подоплека, прекрасно известно все твое хамство – бесстыдное, циничное, ни перед чем не отступающее… Знаем мы, почему ты так самоуверен, почему осмелился явиться сюда… И вы еще смеете в своих гнусных листовках объявлять нас „иностранными агентами“».
Второй – просто старая песочница, на него страшно смотреть, вот-вот рассыплется. Впрочем, они и сами не принимают его всерьез. Самый главный третий, именно третий.
Шувара внимательно всматривается в этого третьего. Круглое, добродушное на первый взгляд лицо. Охотно улыбается. «Кого он мне напоминает? Какое-то неуловимое сходство – с кем?» Но вдруг круглое лицо наклоняется к столу. Совсем кошачье движение. Ну, конечно же, он похож на кота. Спрятал когти в бархатные подушечки, притаился, ждет момента, чтобы прыгнуть, вцепиться…
«Нельзя поддаваться предубеждению, нельзя всех равнять под одну гребенку…» – уговаривает себя Шувара.
Но эти уговоры мало помогают. Слишком любезна улыбка круглого лица. Слишком тягучи и клейки дружелюбные слова.
Так вот он каков, этот «провиденциальный человек». Нет, не стоит обманываться. Надо ясно сказать себе, что никакого откровенного разговора не выйдет даже с этим «крестьянским деятелем». Надо держать ухо востро. Каждая его улыбка может иметь второй смысл, в каждом его слове может быть спрятана ловушка.
Нервы Шувары предельно напряжены. Надо слышать не только слова, не только интонации, но и уловить то неуловимое, что за ними скрывается. Надо не пропустить ни одного движения губ, ни одного взгляда, ни одной мимолетной тени на лице. Прочесть мысль, скрывающуюся под маскообразной улыбкой и любезными жестами. Узнать, с чем они приехали на самом деле, прощупать их тайные замыслы.
Сперва можно было предположить, что они считают свое дело проигранным и теперь, когда советская и польская армии уже вошли в Польшу, пытаются восстановить порванные отношения. Но нет, не для этого они приехали. Они еще, видимо, чувствуют себя довольно уверенно… На самом деле или только притворяются?..
Разговор ведется осторожно. Словно люди идут по вязкой почве, тщательно отыскивая ногой безопасные места, на каждом шагу опасаясь погрузиться в трясину. Шувара старается преодолеть внутреннее возбуждение, убеждает себя, что для волнения нет причин. Но достаточно и одной причины – существования этих троих, необходимости вести переговоры с ними, именно такие переговоры.
И, конечно, сразу, с места в карьер, встал самый щекотливый вопрос – вопрос о границах…
Бывший посол сдержанно молчит. На круглом лице адвоката, члена лондонского правительства, гаснет улыбка. Старичок горячится, долго и увлеченно ораторствует:
– Но это значило бы обкорнать Польшу, нанести ей непоправимый ущерб… Вы отдаете себе отчет, господа, о скольких километрах идет речь? Ведь это…
Старая песня. Шувара старается говорить тихо, спокойно.
– Это земли, населенные украинцами и белорусами. Это земли, которым Польша не сумела ничего дать и которые Польше не принесли ничего, кроме затруднений и несчастий. Это земли, которые стали, да и всегда были одной из немаловажных причин слабости Польши – слабости внутренней и внешней. Это земли, которые нам не принадлежат и никогда нам не принадлежали по праву.
Старикашка выскакивает:
– Что? Никогда? Не понимаю, как можно так говорить… Вы забываете историю, сотни лет нашей истории.
– Не забываю. Наоборот. Я помню о сотнях лет борьбы украинского народа за свободу.
Старичок трясет седой головой. Руки его дрожат, губы беспомощно кривятся, как у собирающегося заплакать ребенка. Адвокат спокоен, лицо его лишено всякого выражения.
«О чем я им говорю? – злится на себя Шувара. – На этой платформе с ними не сговоришься».
Один за другим берут слово товарищи Шувары. Они говорят о Брестском мире, о правах Советского Союза. Нет, это еще не тот разговор, для которого они явились.
«Старикашка не в счет, – соображает Шувара. – Но те двое – политиканы, торговцы. С ними и говорить надо соответствующим языком».
– Вот что, господа, если касаться истории, то это ведь линия Керзона, не правда ли? Даже ваши англичане еще тогда – еще тогда! – считали, что такая граница была бы справедлива. Так или не так?
Адвокат неохотно кивает головой.
– Допустим, что так… Но вы забываете, что то был двадцатый год, а теперь у нас…
– Ну так что же? Вы же сами, господа, любите ссылаться на историю, а уж это-то во всяком случае исторический факт… И потом, неужели вы полагаете, что англичане сейчас меньше считались бы с мощным, победоносным Советским Союзом, чем тогда со слабым, разрушенным войной государством? Да, наконец, если подойти к вопросу без романтических фраз, а по-деловому, то, как вы полагаете: если Советский Союз поможет нам вернуть себе свободу, даст возможность получить наши исконные земли на западе, земли, богатые промышленностью, и откроет нам широкий доступ к морю, без которого экономика Польши навсегда останется слабой, – взамен чего это будет сделано? Уж если ставить вопрос трезво и реально, как вы любите выражаться, то не слишком ли мы многого требуем?
Адвокат, член лондонского правительства, барабанит пальцами по столу.
– Западные земли… Разумеется. Но кто же согласится отдать нам эти земли? Англия и Америка совершенно не заинтересованы в том, чтобы поддержать эти наши требования.
– В том-то и дело. Англия и Америка не заинтересованы. А ведь Советский Союз, если уж вы хотите разговаривать в этой плоскости, заинтересован. Это единственное правительство, единственная страна, которая поддержит нас в этом отношении. Вот поэтому и следует считаться с этой страной и с этим правительством, даже вопреки эмоциям некоторых политиков. Что же касается интересов Польши, то неужели вы решитесь сравнивать Гданьск со Львовом или Силезию с Полесьем?
Короткие пальцы адвоката нерешительно барабанят по столу, покрытому красным сукном. Старикашка вертится в кресле.
– К чему же сравнивать? Конечно, никакого сравнения быть не может… Но ведь для нас было бы лучше получить и то и другое.
– Кто же вам даст и то и другое?
– Ну, все же, если мы потребуем… Ведь мы имеем право.
– На что? Мы имеем право на западные земли. Их мы и должны получить. На остальное мы права не имеем.
«Имеем право… – враждебно думает Шувара. – Да кто вы собственно такие? Старый профессор, давно забывший о своих юношеских порывах и обратившийся в развалину, мозг, давно переставший работать, если он вообще когда-либо работал. Чиновник, бюрократ, выдрессированный на бековской политике, на крючкотворстве и политиканстве, доведших Польшу до гибели, на вечных мечтах о великодержавной Польше, на бреднях о ее мнимой мощи… И, наконец, этот третий, этот якобы крестьянский деятель, адвокатский крючок, мнимая величина, искусственно раздуваемая и рекламируемая иностранными державами, чтобы еще раз обмануть польского мужика, еще раз надуть народ, еще раз загнать Польшу в тупик…
Не стали бы вы со мной разговаривать, в переднюю бы меня не впустили, простого слесаря, коммуниста, сидевшего в ваших тюрьмах. Не стали бы вы говорить со мной так любезно, если бы не чувствовали за мной силу. Другое дело, что вы там говорите и пишете в ваших листовках, – но сами-то вы прекрасно знаете, что сила в наших руках, что настоящая армия, которая сражается и знает, за что сражается, – у нас, а не у вас, и что за нас стоит Советский Союз…»
Адвокат поднял голову.
– Все это очень хорошо. Только… уверены ли вы, что наши права на западные земли будут поддержаны?
– Совершенно уверены.
– Политика, знаете ли, вещь текучая, изменчивая, часто зависящая от конъюнктуры…
– Это смотря чья политика. Советский Союз поддерживает и будет поддерживать наше справедливое требование, чтобы нам были возвращены западные земли.
…Западные земли. Граница вдоль Одера. Как холодно, каким торгашеским языком говорят об этом эти люди. А ведь там течет живая вода реки Одер. Бьются сердца миллионов людей. Старые пястовские орлы, скрытые под цементом и известью, очистятся от штукатурки, которая сотни лет прятала их под все более толстым слоем. Появятся на зданиях, построенных руками польских каменщиков, старые надписи. Оживут забытые слова. Далеким эхом зазвенит старая песенка, некогда втоптанная в землю захватчиком… Поворачивается колесо истории, не по кулачному праву – по праву закона.
– По линии Одера… Если угодно, то хотя бы и потому, что Советский Союз сам в этом заинтересован, – граница Германии будет на несколько сот километров дальше от линии Буга. Это тоже имеет значение, и немаловажное.
– Допустим, что так… – соглашается, наконец, адвокат. – Но есть еще и другие вопросы.
О да, их множество, этих других вопросов. С круглыми жестами, с приятной улыбкой на лице адвокат пытается «кое-что разъяснить». Он читал декларацию, читал программу и, видите ли, не совсем понимает… Если обойти вопрос о границах, о котором пока можно не говорить, – то в чем же разногласия? Аграрная реформа? Но он, как крестьянский деятель, лучше всего понимает ее необходимость. Вот, пожалуйста, достаточно прочесть его прежние высказывания. Он всегда всей душой был за аграрную реформу…
– Да, только мы уже даем землю, а вы, господа, говорите об этом, как о чем-то, что должно последовать в будущем…
– Не в каком-то неизвестном и далеком будущем, а тотчас после восстановления независимости Польши. Вы сказали, что уже даете землю? Как же, знаем – в освобожденном Люблинском воеводстве… Но разумно ли это? Нужно сперва иметь в руках все, все подсчитать и оценить и тогда уже спокойно приняться за столь серьезное мероприятие… А так, в спешке, можно наделать массу ошибок, которые впоследствии трудно будет исправлять.
– После восстановления независимости?.. Это вроде того, как было в восемнадцатом году? Тогда ведь тоже говорилось об аграрной реформе. А много ли земли получил крестьянин за все двадцать лет независимости? Сколько помещиков экспроприировало государство за это время? Во что превратили парцелляцию, которая вконец обездолила мужика? Во что превратили всю эту аграрную реформу? Нет уж, хватит, раз навсегда – хватит. Мы будем поступать именно так, как поступаем на освобожденном уже клочке Польши. Каждую пядь освобожденной земли – сразу в руки крестьян. Довольно их обманывали. Сейчас нужны не слова, а дела. Иначе никто не поверит, что ему «потом» дадут то, что можно дать сразу.
Адвокат разводит руками.
– Я крестьянский деятель. Да и сам из крестьян. Трудно заподозрить, чтобы я недооценивал важность этого вопроса или хотел бы действовать в ущерб крестьянам. Но именно вследствие важности вопроса его нельзя разрешать легкомысленно, без подготовки.
Жилы вздуваются на лбу Шувары. Кому это говорит, кому хочет втереть очки этот «крестьянский деятель»? Мало ли он видел вот этаких адвокатов, которые сколачивали себе состояния на нищете, на безграмотности крестьян и добивались депутатских мандатов, чтобы в сотый раз обмануть и продать своего избирателя? Сам-то он, этот «мужицкий» адвокат, прекрасно знал, как обстояли тогда дела, да, видно, не слишком об этом печалился. Но он, слесарь Шувара, который тогда был восемнадцатилетним мальчиком и сам разоружал немцев, он верил во все прекрасные обещания… О, как реяло тогда, как радостно полыхало на ветру красное знамя. И все пропало, все рассыпалось в прах. Не прошло и двух-трех лет, как слесарь Шувара только за то, что осмелился напомнить об обещаниях «Люблинского манифеста», был брошен в тюрьму. И он и многие другие. Сколько лет прошло, а в сердце все еще жива горечь тогдашнего разочарования, когда оказалось, что все обещания остались пустыми фразами, клочками бумаги. Все еще жив тот молодой, неукротимый гнев, тот бунт, вспыхивающий пламенем. Оно жжет – словно все это было сегодня. Но сегодня уж не удастся вторично обмануть, провести, обокрасть.
Нет, пусть другие отвечают. Он не смог бы спокойно ответить этому улыбающемуся скоту, который ведь прекрасно знает, в чем дело.
– Реформа вовсе не осуществляется без подготовки, – говорит товарищ Шувары. – Мы работали над ней с первого дня, как возникла польская организация в Советском Союзе. Это был один из лозунгов, за который отдавали жизнь польские солдаты под Ленино и на всем пути от Смоленска до Люблина, за который отдавали жизнь партизаны в парчевских лесах, солдаты Гвардии и Армии Людовой во всей стране… Вы утверждаете, что вы и мы стремимся к одной и той же цели. Тем лучше. Но есть и принципиальное различие. Мы хотим осуществлять реформу сейчас, а вы, господа, откладываете. Польский крестьянин слишком хорошо знает, что означают эти отсрочки. Польша, воскресающая сейчас из мертвых, будет подлинно демократической Польшей.
– Ах, демократической… Вы все время об этом говорите, да и в своей декларации так подчеркиваете демократичность будущей Польши… Но кто же такие мы – я, например, крестьянский сын и крестьянский деятель? Какой же мы еще можем желать Польши, как не демократической?
– А на какую конституцию опирается ваше правительство? Почему вы до сих пор считаете для себя обязательной незаконную конституцию тридцать пятого года, конституцию, навязанную народу силой? Почему вы защищаете конституцию Березы Картузской и тюрем, конституцию черной реакции?
Член лондонского правительства беспокойно вертится в своем кресле.
– Это верно, но мы ведь тоже не за эту конституцию… Мы только считаем, что сейчас это не так уж важно. После нашего возвращения на родину конституция будет изменена.
– Лишь после возвращения на родину? А прийти туда вы хотите именно с этой конституцией и только потом подумать, изменять ли ее вообще и как именно изменять? Мне кажется, что вы все же недооцениваете принципиальной разницы между нашей декларацией и теорией и практикой лондонского правительства.







