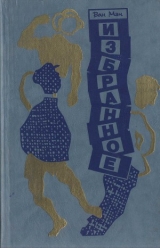
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Ван Мэн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 51 страниц)
– Хорош, малыш, скрыл-таки от меня новость, – зычно начал Вэй, ну совсем как на том партсобрании в сорок девятом, когда с таким вниманием и заботой подарил Чжун Ичэну армейский тулуп. Старина Вэй махнул рукой жене, и та достала подарки – пару вышитых наволочек, альбом для фотографий и два блокнота в твердых обложках, с картинками. – Ставь вино, – закричал Вэй, – выпьем за ваше счастье…
– Но у нас нет вина, – смешавшись, шепнул Чжун Ичэн, и голос его дрогнул.
– Что-что? – Вэй сделал вид, будто не расслышал. – Как это нет? Вина счастья? Мы ж за тем и пришли – отведать вина счастья!
– Нет, ну и ладно, – попыталась урезонить его жена, – да и поздно уже.
– Я не пью, – рубанул шофер.
– А я хочу выпить, я непременно должен выпить за ваше счастье, – чуть не рассердился старина Вэй. – Как это – нет вина? Ну как это – нет вина?! – уже с надрывом выкрикивал он, глаза увлажнились, и волнение передалось не только Чжун Ичэну, Лин Сюэ, его жене, но даже и шоферу. – Слушай, Гао, смотайся-ка за вином! – Вэй взглянул на часы и безапелляционным, как на фронте, тоном распорядился: – Полчаса на исполнение. Нас не пригласили, но мы их все равно уважим, шах «генералу» сделаем! – засмеялся он.
Гао понял, что с секретарем лучше не пререкаться, и поспешил уйти. Через двадцать минут вернулся, запыхавшийся.
– Лавки, черт возьми, заперты, в ночном буфете у вокзала месячный баланс подводят, целый день закрыто.
– Неужели дома у нас ничего нет? – то ли с вопросом, то ли с упреком обратился Вэй к жене.
Она смутилась, будто в том, что не получается у них поднять тост за счастье, была доля ее вины.
– Нет. Ведь тебе же нельзя, врач запретил… Ах да, есть бутылочка рисовой, в рыбу добавляю при тушении.
– Рисовую, значит, можно? Ну конечно, когда хочется, не запретишь, – сам себе ответил Вэй и приказал: – Отдай Гао ключ от дома, и чтоб бутылка немедленно была здесь!
Пока Гао отсутствовал, Вэй болтал о чем угодно, кроме того, что сегодня произошло и еще навлечет немало бед. Чжун Ичэн тут же забыл обо всех чудовищно нелепых событиях, словно появление старины Вэя означало надежную опору. Или оборвало кошмарный сон, вот он сейчас откроет глаза, и все ужасы исчезнут…
Вернулся Гао, но не с рисовой водкой старины Вэя, а с непочатой бутылкой из собственных домашних припасов.
– За новобрачных, товарища Чжун Ичэна и товарища Лин Сюэ, за их счастье, за то, чтобы смогли преодолеть все трудности и шли вперед, за… в общем… до дна!
Старина Вэй торжественно поднял стакан, и они вместе с Чжун Ичэном и Лин Сюэ выпили согревшее их души «вино счастья» – маотай наполовину с горячими слезами.
5
1958 год, ноябрь
Поезд мчал по бескрайней зимней равнине. Высоких стеблей кукурузы на полях уже не было, взгляду не за что зацепиться, мир, казалось, не имел пределов. Зима только началась, снег еще не выпадал, лежало скошенное жнивье, и шуршала озимая пшеница, еще не утратившая своей зеленой окраски. Ах, озимая пшеница, не урожай живет в тебе, а неисчислимые беды. Непостижимо… Или имелись на то свои причины? И не увернуться… Настигло меня. А может, это особый метод, которым партия воспитывает своих детей? Так или иначе, но он преданный боец партии и должен воспринять все это как должное. Его свадьбу старина Вэй почтил присутствием. Многие товарищи не изменили своего дружеского, нормального отношения. «Размежевание» – вещь преходящая, возникшая под давлением, давление спадет, и исчезнут все эти резкие «межи». И рядом с ним Лин Сюэ – внимательная, любящая, с удесятеренной нежностью согревающая его израненное сердце.
Всех «правых» давно уже раскидали по деревням «перестраивать себя в труде» (Чжун Ичэн не любил говорить «трудовое перевоспитание», поскольку это ассоциировалось у него с тюрьмой), а Чжун Ичэну старина Вэй велел ждать. Говорили, что его дело должны пересмотреть. Это давало какую-то надежду. А он и помышлять не смел о таком счастье, точно так же, как раньше в голову не могло прийти, что с ним произойдут такие ужасы. Ему снилось, как вызывает его секретарь парторганизации. И ставит в известность об изменении меры наказания: два года под контролем партии. Тоже сурово, и все же проснулся он со слезами облегчения, вся подушка промокла. Уже полгода он вставал по утрам полный надежд, а вечером ложился, уповая на следующий день. Наступит завтра, рассеются тучи, все будет хорошо, наступит завтра, и, забыв все беды и обиды, он улыбнется широко и спокойно. Надежды, однако, оборвались сухим извещением: «В этой кампании пересмотра не будет». Как же так? Во всех предыдущих были – «тигров», выловленных во время «трех зол» и «пяти злоупотреблений», после пересмотра выпустили, – а сейчас вдруг запретили пересмотр.
– Прошлое осталось в прошлом, желаю тебе славно потрудиться, и если сам ты постараешься перестроить сознание, то непременно вернешься в ряды партии, – так напутствовал его старина Вэй в канцелярии перед отправкой в деревню, и на душе потеплело.
И вот он сидит в поезде. И все еще видит на перроне Лин Сюэ, изо всех сил пытающуюся изобразить улыбку.
– Попутного ветра! – Голос ее дрогнул, когда тронулся поезд. И такой печалью отдалась эта дрожь в сердце Чжун Ичэна.
– Прости меня, Лин Сюэ, я виноват перед тобой! – Он едва не расплакался…
Стучали колеса, гудел паровоз, тяжко вздыхая, выпуская густые клубы дыма, судорожно подрагивая на мостах, в туннелях погружаясь в непроглядную тьму (проводники забывали зажечь свет), громкоговорители сотрясали вагоны лозунгами «большого скачка», зовущей к свершениям песней «Обскачем Англию, Америку догоним», проводники боролись за обладание Красным знаменем и не только постоянно наводили чистоту и разносили кипяток, но еще и декламировали частушки-куайбань, продавали газеты, вели агитацию с помощью рупоров, а то и просто голосовых связок. Барабанной дробью отдаваясь в сердце Чжун Ичэна, все это заглушало память о городе, о Лин Сюэ; пусть же прошлое останется в прошлом, жизнь, могучая, пламенная, зовет вперед, а мне только двадцать шесть, все впереди – и время, и будущее, так что всем сердцем – вперед! Так бормотал он себе под нос. В сущности, он начал внушать себе это еще на вокзале, но лишь сейчас, в вагонном гомоне, свистопляске света и тени, отгороженный от мира оконным стеклом, жадно следя за мелькающими, отлетающими прочь полями, дорогами, дамбами, строениями, – лишь сейчас с болью, радостью и волнением по-настоящему ощутил: прошлое – прошло, начинается новая жизнь!
Он еще молод, силы есть, здоровье в порядке, руки, ноги на месте, голова работает, революция, жизнь – все впереди. Так цветок, только-только собравшийся раскрыться, дать завязь, встречает разрушительный ураган. Ведь назначение цветка – благоухать, переливаться красками, раскрыть лепестки, и если наделен он добрыми корнями и бутонами, если любят и ласкают его солнце, почва, воздух, вода, тогда обогрей его костром, окури дымом, окучь да полей, ведь не погибли же совсем его корни, не умерло сердце цветка, он выживет, впитает солнце и дождь, ласку земли, пустит новые побеги, раскинет свежие листья. Вот смотри, от глаз давно разбежались глубокие морщины, лоб избороздили скорбные складки, запал рот, особенно в улыбке, выдавая боль и страх, и все же глаза, как и прежде, светятся надеждой, задиристо вздернут нос, высоко поднята голова, а поезд мчит вперед, выбивая барабанную дробь в его сердце, и загораются в глазах огненные искорки.
Приближалась станция, и поезд, то прячась в туннеле, то выскакивая под голубое небо, наконец остановился, прижатый горами к обрыву над рекой.
Обломив толстую ветку, чтобы легче было идти, Чжун Ичэн с солдатским вещмешком за плечами двинулся по неровной горной тропе вверх. Над головой кружил орел, вверх по склонам уходили сосны и грецкий орех, по обочинам черными тиграми прилегли камни, в узком ущелье резвился бурный поток, а Чжун Ичэн – откуда только силы взялись – летел и летел вперед. Попутчиков у него не оказалось, ибо всех «элементов» давно поразбросали, он один задержался в городе, уповая на пересмотр. В нем бушевали великие силы, торопившие, подгонявшие его. Он не мог задерживаться, на дороге перестройки надо было пришпоривать коня. Страна рвется вперед, еще пара лет, и уничтожим «три неравенства» – между городом и деревней, рабочими и крестьянами, умственным и физическим трудом, – войдем в коммунизм, Китай станет цветущей, самой богатой в мире, передовой державой, а он – доколе пребывать ему в зловонном буржуазном болоте? Когда страна достигнет коммунизма, ты, Чжун Ичэн, из своего болота ничего и не увидишь, над тобой будут смеяться, как над старой рухлядью. Воля его не подточена, страха нет, смотрите, есть еще силы три часа, пять часов шагать по горной тропе, не сбивая дыхания, и пусть по спине течет пот, он очистит его, смоет позор прошлого, пот – это лишь начало. Юность – бесценное сокровище, у юности неисчерпаемые силы и нет страха; что в том, что двадцать шесть лет оказались ошибкой, преступлением, прожиты впустую? Разве не отпущено ему еще пятьдесят – начать жизнь сначала, вновь включиться в революцию, вновь стать солдатом коммунизма? Разве пятидесяти лет не хватит на множество дел, нужных партии и народу? Разве за пятьдесят лет не сумеет он сотворить себя заново? Его исключили, отстранили от партийной работы, ладно, он готов выучиться на строителя или на математика, в школе он всегда любил математику и физику, да, он переменится, вложит в себя новую душу, лишь бы это было нужно партии. Но нет, все не так, прежде надо перестроиться, заработать право быть гражданином, человеком, и вот он прибыл в эти горы, которым надлежит отдать свою юность, свою горячность.
Пот стекал ручьями, заливал глаза. Репьи да колючки облепили штанины. Ботинки припорошила пыль – красные, желтые, черные, белые пятна. Чжун Ичэн карабкался по склонам, где добывали глауберову соль и рос грецкий орех, жужуб, персик, груша, абрикос, хурма, боярышник. Только оранжевые плоды хурмы и пламенели еще на ветках. Карабкался по черным, как тушь, горам с неглубокими угольными карьерами, из которых выталкивали вагонетки шахтеры в одних штанах, с обветренными торсами. К ним Чжун Ичэн ощутил какую-то особую близость. Проходил мимо пепельно-желтых известняковых скал и изумрудных склонов, поросших сосной, и наконец поднялся на Пик Гусиного Крыла, господствовавший надо всем.
Распаренный, потный, обдуваемый прохладным ветром, он смотрел на бескрайние просторы, на горы, громоздившиеся у его ног. Проследил за всеми извивами серебристой ленты реки. Вдали, у горизонта, чуть заметные, вились, клубились дымки, смутно вырисовывались поселенья и деревья, точно корабли в океане, то взмывали на волнах, то низвергались в пучину. А у самых ног курились очаги, лежали поля, расчерченные межами, стояли палатки да сараи строителей, что-то там возводящих. И дорога… Всего лишь несколько часов в хорошем темпе – не только город, но и целая равнина осталась далеко позади. Глядишь с этой высоты: четкие штрихи горных рек, земля и небо распахнуты и такой простор, что душа ликует. Он смотрел во все глаза и вдруг испуганно вздрогнул: ему показалось, что он бывал тут, все ему знакомо, все это он когда-то встречал, видел – эти просторы, этот пейзаж, горы и реки, деревья и луга, селенья и стройки. Но он же тут впервые в жизни, о чем говорить, и не только на Пике Гусиного Крыла, но вообще в первый раз выбрался в горы и долы, так откуда же возникло ощущение, будто близок ему, знаком, прикипел к душе этот пейзаж. Не иначе, в каком-нибудь романе описание вычитал? Или кадр такой увидел в фильме? Или во сне тут бродил? А может, партия подобрала для него именно те бескрайние просторы, к которым он много лет стремился, искал, на которые уповал?
Я пришел к тебе, новая жизнь, прошлое – навеки в прошлом, отсюда начнем новый отсчет. Хотелось кричать, петь, свистеть, но пора преодолевать мелкобуржуазную восторженность, чрезмерный ажиотаж до добра не доведет… Он вспомнил, какой совет дала ему Лин Сюэ перед отъездом: «Прошу тебя, не горячись. Многого мы пока не поняли, надо обмозговать, чтобы постичь. Коммунисту необходим не только огненный энтузиазм, но и холодная голова…» Правда, трезво она взглянула на жизнь лишь после всего, что произошло с Чжун Ичэном, но куда уж дальше? До чего ж они строптивы, эти женщины, ведь Лин Сюэ все еще считает себя коммунистом, ей кажется, что она видит мир как коммунист, чувствует как коммунист, говорит как коммунист… А ведь резолюция уже наложена, Лин Сюэ исключена. Добрый товарищ, она с детства познала труд, включилась в революцию, никто никогда не мог к ней придраться. Политическая смерть в наказание за верность их «комприветной» любви… Ах, компривет, компривет, компривет! Из глаз его вдруг хлынули слезы.
1979 год
Бедняга, говорит ему серая тень. Как же это ты не сумел раскусить те времена и с восторгом дурачка отправился на трудовое перевоспитание? Распахни глаза, ничему же нельзя верить…
А обрел ли ты, мой серый друг, право «раскусывать» да сомневаться? Прыгнул ли ты в стремнину жизни или все еще топчешься на берегу? По ее ли бурным волнам плывешь ты, ведомо ли тебе, что такое тонуть и выплывать? Как смеют судить о воде, критиковать, отрицать воду те, кто ее и не коснулся? Ах, как ты умен, как бережешь себя, сидя равнодушно в сторонке, разбазаривая, растрачивая жизнь, а вот одряхлеешь, поседеешь, потеряешь зубы, начнешь шамкать, да еще острый аппендицит прихватит, вот тогда застонешь. Жизнь твоя – всего лишь ошибка, вопль ужаса, стихийное бедствие, не ко времени случившееся. Что же ты сам себя-то не раскусил? Как жить дальше будешь?
1970 год
Так что? Любишь партию, говоришь? А где же твой партбилет, коли любишь? Как можно любить партию без партбилета?
Гениальная логика – мощный поток, низвергающийся по черепичному желобу, острый тесак, рассекающий бамбуки! Но что есть партбилет? Или в дополнение к талонам на зерно, мясо, ткани, масло в обращение пустили еще и талоны на партию, то бишь партбилеты? Ну и как его оценивают? Сколько дают на черном рынке?
Так что? Любишь партию, говоришь? А что ж на тебя ярлык навесили, коли любишь? Оправдаться пытаешься! Отбить атаку и рассчитаться с нападавшими!
Ну, подумайте, что пользы стране, если в ней станет на одного врага больше? Поднимется качество стали? Увеличатся проднормы для крестьян? Нет же; так к чему все эти фокусы, превращающие человека в законченного врага?
Искупить? Какую же вину собираешься ты искупать? Со старыми долгами не расквитался, а уже в новые лезешь, если все суммировать, твои злодеяния небо захлестнут, и смертью не расплатишься!
О несчастная вдова Сянлиня! Так жаждала жить – и не сумела избавиться от «грехов», которые на тебя навесили. Но отчего же судьба коммуниста, чистого, доброго молодого человека, полного жизненных сил и живущего в социалистическом новом Китае, так напоминает судьбу героини старого лусиневского рассказа?! О великая и многострадальная нация – китайцы!
А ну-ка, мы тебя – да на крючок, подвесим!
Зачем подвешивать? Что же такое Чжун Ичэн? Шапка? Пальто? Бутыль с соевым соусом?
Сначала бабахнем, а затем переварим, тут же, на месте…
Так что же они все такое? Пампушки? Пирожные на тарелке? Или витки из щавелевой муки, которыми без зверского аппетита и не соблазнишься? Ну, переварили, а дальше что будет? Фекалии да моча? Отрыжка, газы?
«Чистильщики» сформулировали так: «Чжун Ичэн, пол мужской, родился в 1932 г. в городе П. Происхождение: из городской бедноты. Социальное положение: учащийся… Сознание означенного Чжуна с детства было ультрареакционным, в 1947 г. из неблаговидных, корыстных побуждений пролез без положенных формальностей в партийную организацию, в которой заправляли подручные Лю Шаоци… В 1957 г. осуществил нападки на партию посредством стихотворения… Вины своей не признал и от разоблачения преступлений лжекоммунистов, подручных Лю Шаоци, отказался… Фактически отнесен к неперестроившимся буржуазным правым элементам…»
Год не установлен
Черная ночь, клейкое желе, подкрашенное тушью, вязкое, дрожащее. Где-то есть, наверное, у нее границы; но где? Сквозь это желейное дрожание бредет, опираясь на посох, седой Чжун Ичэн с широко раскрытыми – два высохших колодца – глазами. Свистит, срываясь с беспредельных высот, безумный ветер и несется по бесконечной степи, растворяясь в безграничном море мрака. То ли молнии вспыхивают? То ли земные огни? То ли зарницы? То ли могилы светятся? Озаряют костистый лоб Чжун Ичэна, изрезанный застарелыми морщинами. Он приподнимает посох, простукивает пустоту, рождая деревянный отзвук, будто стучит в какую-то ветхую дверь: бам, бам, бам.
Чжун Ичэн, Чжун Ичэн, Чжун Ичэн!
Отчетливо и далеко разлетелись звуки, звонкие и пустые, как эхо, рождаемое пустым чаном, когда наклонишься над ним и крикнешь.
Чжун Ичэн, Чжун Ичэн, Чжун Ичэн!
Черная ночь вращалась, качалась, колебалась, плыла. Срывался, вопил, летел, рассыпался во все стороны безумный ветер. Накренялась мачта в волнах, сползала с вершины снежная шапка, низвергался со скалы водопад, и метались по улицам головы людей…
Чжун Ичэн, Чжун Ичэн, что с тобой?
Он умер, Чжун Ичэн, Чжун Ичэн.
Вспышка молнии, кромешная тьма.
Ни звука. Ни просвета. Ни шороха.
Едва-едва, словно за сто километров, попискивают сто скрипочек, или в ста километрах посверкивают сто свечечек, или сто Лин Сюэ за сто километров зовут Чжун Ичэна…
Компривет, компривет, компривет… Что скажешь ты обо мне?
Они ускользают от меня, и компривет, и ее советы, надо поднять эту неподъемную, сжатую голову, надо распахнуть глаза и прозреть дали дальние…
В новой вспышке молнии Чжун Ичэн видит себя уже рядом с Лин Сюэ, он вздымает факел. Нет, не факел – сердце, страдающее, пылающее сердце.
1978 год, сентябрь
Дневник Чжун Ичэна
«Сегодня утром написал апелляцию, впервые за двадцать один год высказал партии все, что лежит на душе. Как жаль, что жизнь дается человеку только раз. И со всем, что встречается человеку на пути, он вступает в бой неподготовленным, без опыта. Если бы все начать сначала, мы бы намного меньше глупостей натворили… И все же, оглядываясь на рытвины да колдобины двух с лишним десятилетий, я ни о чем не жалею и не ропщу ни на небо, ни на людей. И не ощущаю пустоты, не считаю все, что было, невообразимым кошмарным сном. Шаг за шагом брел я сквозь эти десятилетия, твердо веря, что ни один шаг не был сделан зря. Единственное, на что я уповаю, – не забудется урок, оплаченный кровью, слезами, невообразимыми страданиями, и история запечатлеет те дни, восстановленные в своем истинном облике…»
6
1958 год, ноябрь – 1959 год, ноябрь
Труд, труд, труд! Сотни тысяч лет назад труд создал из обезьяны человека. Спустя сотни тысяч лет в Китае физический труд продолжает демонстрировать свои великие возможности в деле очищения сознания, перестройки душ. Чжун Ичэн глубоко верил в это. Свою горячую любовь к родным просторам и народным массам, которым жаждал отдать всего себя, исступление, с каким пытался искупить свою вину, всю энергию юности, неисчерпаемый поэтический восторг, постоянно возобновляемый и обновляемый жизнью, – все вложил он в тяжелый физический, можно сказать, первобытный труд в горной деревне. Он таскал на загорбке нагруженные доверху корзины с катышками овечьего помета – удобрять террасированные поля в горах, и уже через пару секунд с него начинал лить пот, как вода из соевого творога, когда на него накладывают сверху тяжеленную каменную плиту. Карабкался по хребтам да склонам, петлял по извилистым горным тропам. Спина выгнулась – наклон (градусов семьдесят) помогал сохранять равновесие, – ноги раскорячены – ну, совсем старик крестьянин. Руки расслабленно опущены, словно в полном блаженстве. Порой он весьма благочестиво скрещивал их на груди. Или обхватывал себя кольцом, как в позе дыхательной гимнастики цигун – в полуприседе перед прыжком. Он ощущал, как при каждом шаге напрягаются ноги и поясница, да, он крепко стоял на земле, на реальной почве, и свои силы, свой энтузиазм, равно как и удобрения, полные столь необходимых сельхозкультурам азота, фосфора, калия и органических веществ, нес полям вскормившей нас Республики.
Подбирал навоз. Для него это было честью, и тяжелый запах даровал душе покой. Всякий раз, перемешивая навозную жижу с желтоземом, он приходил в умиление. Вот она перемешивается, бродит, фильтруется, желтозем чернеет, глина разрыхляется, а потом все это нагружают на телеги, везут на поля, разбрасывают, ветер поднимает навозные комочки, и они, бывает, попадают в рот. Даже это было ему приятно, ибо мать-земля вот уже двадцать с лишним лет кормит его, а он свои дары впервые принес ей лишь сейчас…
По весне он рыхлил, ничего, кроме земли, не видя и не слыша, всю силу мышц и порывы души вкладывая в три повторяющихся движения: распрямившись, приподнять лопату, вдавить ее ногой в землю, перевернуть землю и опять, распрямившись, приподнять лопату… Он превратился в рыхлительный механизм, и никаких движений, кроме этих трех, в его жизни не существовало. Они сливались в одно непрерывное, словно приводимое в действие электромотором, и он торопился, будто участвовал в международных соревнованиях. Поясница ныла, ноги становились как ватные, он злился и до боли стискивал зубы. Когда силы иссякали, он принимался подпрыгивать, всей тяжестью тела наваливаясь на лопату, и лишь так, весом тела, с выдохом, медленно вгонял ее в землю… Гудит голова, он работает уже не размышляя, механически, обреченно ускоряя свой трехступенчатый круговорот. Самозабвенный труд, и тяжкий, и радостный. Час, три, двенадцать ускользают прочь как миг единый, пока он перелопатит огромный пласт! Влажные бурые комья хранят след лопаты. У тебя нет желания пересчитать, сколько лопат ты перекидал? Уж конечно, больше, чем волос на твоей голове… Вот на что, оказывается, может сгодиться человек. И уж этих-то дел никто в одно прекрасное утро не перечеркнет, честя его так, что живого места не останется…
Летом он жал пшеницу, пригнувшись, сбросив рубаху, подставляя спину солнечным лучам. Серп-то, оказывается, отличная штука – живая, ловкая, что твои искусные пальцы, им можно не только подрезать колосья, но и подпирать, собирать, подтаскивать. Чжун Ичэн выучился владеть серпом, и не просто так, а весьма виртуозно: вжик – и обнажается полоска земли, вжик – и еще полоска. А брови-то, брови разлюбезные, как здорово придумано, что у каждого их по паре, иначе пот залил бы глаза. Поле засажено густо, между колосьями ветру не пробраться, а распрямишь поясницу – и оно вдруг распахнется перед тобой, и видишь крестьян, работающих на дальнем его краю, горы, речку. Освежая, налетает ветерок. Да, можно собой гордиться…
Осенью, обмотавшись вокруг пояса веревкой и сжимая в руке серп, он отправлялся на заготовку терновника. Несколько месяцев к серпу не прикасался и сейчас обрадовался, будто встретил старого друга, от которого давно не было вестей. Он взбирался на рискованные кручи, по бездорожью шел как по равнине. За год полюбил горы, освоился тут. Глаза стали зоркими, как у охотника; ага, вон там, между грудой камней и разнотравьем, подходящий кустарник, как раз нужного роста, ветки как на подбор – одинаковой толщины, чистые, ровные, уже достаточно отвердевшие, но еще не старые. Он напрягается, душа ликует. В несколько прыжков Чжун Ичэн добирается до кустарника, левой рукой зажимает его, чуть взмахивает правой, вжик – и пучок отменного терновника, срезанный серпом, уже в кулаке, тут же перевязан, приторочен к поясу; он поднимает голову и видит новую цель и опять ловко, как джейран, проворно, как олень, карабкается вверх, зорок и могуч…
Трудились они вместе с крестьянами и городскими ответработниками, отправленными на перевоспитание, но «элементы», и он в том числе, брались, по своей ли воле или по принуждению, еще и за сверхнормативные работы. Среди ночи, часа в три, не успев привалиться к подушке, вскакивали на «утренний бой», таскали навоз вверх на террасированные поля, а вниз – орехи, финики, батат, редьку. Шли узкими тропками под ночным небом, и звезды казались совсем рядом, протяни руку – и сорвешь. В полдень пожуют пампушек и соленых овощей – и в «дневной бой». Вечером выхлебают пару плошек жиденькой кашицы – и в «ночной бой». Ночью время тянулось медленно, бывало, стряхивая полузабытье, не могли сообразить, в каком они «бою» – ночном или утреннем. Кроме движения звезд, никаких иных перемен их жизнь не знала. У каждого, конечно, были свои чувства, но когда сверхурочную работу именуют боем, это вкладывает в нее необычный смысл – революционный: они как бы шли в бой, в сражение, вели огонь по буржуазии, по вражеским элементам собственного сознания, и какое тут может быть разгильдяйство, коли вопрос стоит так: либо ты меня, либо я тебя прикончу? Работать так работать, и еще соревноваться, и еще критиковать и поощрять, как свободная минутка, так начинают сравнивать и по ранжиру расставлять, кто как трудится и дисциплину блюдет: первая категория – перевоспитываются как надо, вторая – так себе, третья – неважно, а четвертая – безнадежные, те, кто свои антипартийные, антисоциалистические гранитные башки собираются, видимо, унести с собой на небеса. Такая классификация явно стимулировала работу. И в итоге крестьяне поражались, как остервенело, чуть ли не панически трудятся «элементы», будто стараются «втереться в доверие», на них страшно смотреть: в гору с грузом бегут, под гору скачут, за версту дыхание слышно. И это бы еще ничего, если бы каждую свободную минуту они не мусолили собственные провинности, гадая, сумеют ли, с такой силой вкалывая, как следует разглядеть собственный звериный облик и отблагодарить партию за спасение…
Чжун Ичэн вышел из городской бедноты, достатка с детства не знал, между одиннадцатью и четырнадцатью, когда растет организм и, можно считать, закладывается личность, еды частенько хватало лишь на один раз в день, так что был он невысок и тощ, особенно в запястьях и щиколотках. После Освобождения погрузился в работу, совещания, так и не познав положенных для молодого человека удовольствий, отдыха, спортивной закалки. И в горном районе питание было не ахти, крестьяне еще могли кое-что прикупить себе в кооперативе, а «элементам» не разрешалось. Поддерживала Чжун Ичэна какая-то непонятная, поразительная внутренняя сила, которая не позволяла ему рухнуть от такого жестокого труда, а многие из сосланных ответработников, работая гораздо меньше, чем «элементы», то ложились в госпиталь, то коротенький отпуск выпрашивали, уезжали в город, и по полгода о них ни слуху ни духу, он же стискивал зубы и шел напролом, в жестоком труде обретая новое наслаждение и новое успокоение. Ему даже начинала казаться никчемной, зряшной та его прошлая жизнь, в которой не было физического труда. Только теперь его конечности, внутренности, все тело, дух обрели подлинное освобождение. Долой догматы, которые держали его в плену: после еды не стоять и уж тем более не работать, спать не меньше восьми часов в день, не лезть потным в холодную воду и так далее… Как-то дали им редкостный деликатес – лапшу, так махонький Чжун Ичэн за один присест слопал шесть мисок – полтора цзиня. После такого напряженного, тяжелого, отупляющего труда он стал ощущать себя крестьянином. Те говорили ему:
– Когда мы увидели тебя в первый раз, испугались, что порыв ветра тебя сдует. Кто бы мог подумать, что ты станешь так вкалывать!
Нередко крестьяне, жалея, наставляли его:
– Уймись, побереги себя, покалечишься, а потом что?!
А другие шепотом приглашали:
– Плюнь на режим, заходи, опрокинем чашечку-другую винца, сварю тебе яичек, а то вон как исхудал!
На душе у него теплело, да только ему ли, преступнику, принимать любовь и заботу стариков крестьян?
Особенно хорошо относился к Чжун Ичэну один мальчуган лет тринадцати по имени Лаосы: то горсть фиников ему притащит, то поймает кобылку-кузнечика и зовет поглядеть, словно Чжун Ичэн – его приятель-сверстник. Испекут дома пару картох – тут же несет одну. Нашел ему слой ваты на заплечную корзину, чтобы спину не так натирала. Чжун Ичэна переполняла благодарность и… страх перед этим великодушием, и он говорил Лаосы:
– Ты ж еще маленький, а так внимателен ко мне.
На что тот отвечал:
– Разве ж я не вижу, как вы все тут страдаете!
И слезы наворачивались на глаза.
– Нет, – спешил растолковать ему Чжун Ичэн, – мы не страдаем. Ведь мы преступники!
– А разве вы еще не перевоспитались? Да ведь, если бы у вас в головах были неправильные идеи, вы бы не смогли так трудиться, так честно жить!
– Да нет, – мямлил Чжун Ичэн, не зная, что и сказать, – мы недоперевоспитались…
Четыре дня в месяц считались выходными, но «элементы» частенько работали по два месяца без перерыва. Объявление о выходном обычно заставало врасплох. Бывало, утром, позавтракав, возьмутся за лопаты, как вдруг начальник выкрикивает:
– Сегодня отдых, возвращаться вовремя, не зевать…
Неожиданности, полагали, способствуют перевоспитанию. Когда смена Чжун Ичэна закончилась и ему объявили об отдыхе, он стиснул зубы и обратился с просьбой:
– Я не стану отдыхать…
Лин Сюэ в письмах вовсе не корила его за отказ от отдыха, напротив, писала:
«Очень рада была узнать, что ты здоров и хорошо работаешь. Но отчего перестал писать стихи? Почему их нет в твоих письмах? Ты же говорил, как здорово жить в горном районе! Верю, что в самом деле здорово. И что труд всегда сладок, сколь бы ни был тяжел (хотя о лишениях ты не пишешь). Ты часто вспоминаешь меня, верно ведь, да? Так пошли же мне стихи об этом горном крае, о физическом труде. Напиши специально для меня. Не забывай, что я всегда твой первый и самый искренний читатель. Сейчас, вероятно, единственный. Но в будущем, может, их у тебя появится много-много… Тебе по-прежнему нужны мои советы? Тогда я скажу тебе: ты должен писать стихи. Не падать духом, не убиваться, пусть даже все пришлось начать с нуля, я верю в тебя…»
Письма Лин Сюэ возвратили Чжун Ичэну уверенность, чувство собственного достоинства. Все познав и все одолев, он вернулся к стихам – то совсем коротеньким, то побольше – и отсылал их Лин Сюэ, получая в ответном письме новые живительные советы.
1959 год, 23 ноября
Прошел год, и первые радости, первое удовлетворение физическим трудом, самоочищением стали прошлым. Чжун Ичэн привык к сельской жизни, работе. Усох, обгорел под солнцем и вид имел весьма бодрый. Обучился всему, из чего складывалась тут жизнь: ходил за плугом, запрягал повозку, ухаживал за скотиной, полол, поливал, плел корзины, обмолачивал, просушивал, скирдовал, провеивал зерно, овладел повседневным деревенским ремеслом – колол дрова, ловил рыбу руками, обрывал стручки с вязов, копал травы и дикий лук, солил да мариновал, прессовал лапшу из вязовой муки с кукурузной добавкой… Даром что вырос в городе и поначалу к здешней работе подходил с опаской, да еще и очки носил, так и хотелось шмякнуть ими об землю, и все же чем дальше, тем больше походил он на крестьянина. И по горным тропам ходил, и держался как заправский крестьянин. Уносилось, однако, прочь время, и истаивал былой энтузиазм трудовой перестройки, нет-нет да и проступала сквозь напряженность физического труда духовная пустота. Они-то перевоспитываются, не щадя живота, а кого интересует, как это их перевоспитание движется? Они жаждут по собственной инициативе отрапортовать о переменах в своем сознании, а их никто не хочет слушать. Тех, кто пас перестраивающихся ответработников, ничто не интересовало – лишь бы не воровали, не плутовали на работе да не бегали в кооператив за ореховым печеньем. Никто уже не спрашивал, за какие идеологические грешки зачислили их в «элементы». У всех на физиономиях клеймо – «правый». Какие тут могут быть вопросы? Раз противоречия между ними и народом враждебные, антагонистические, значит, необходимо следить за этими «элементами», чтобы блюли порядок, не разбалтывались, если что – приструнить, чтобы вовсе не сошли с платформы. Что им еще требуется?








