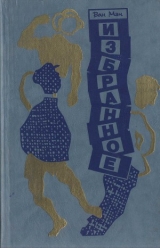
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Ван Мэн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 51 страниц)
Ни Учэн часто вспоминал эти слова, а вспомнив их, принимался хохотать. Он находил их смешными. Иронизируя на свой счет, он заявлял, что они сильно его позорят.
В 1958 году, во время кампании Большого скачка, Ни Учэн несколько раз порывался участвовать в физическом труде. Он во всеуслышание заявил, что давно созрел для участия в великой, славной и прекрасной трудовой деятельности. При этом ссылался на слова Павлова – о любви к труду умственному и физическому, но больше – физическому. Заодно он привел пример со знаменитым голландским мыслителем Спинозой, который всю свою жизнь обтачивал линзы. Поначалу он искренне восхищался трудовой деятельностью, но, когда дело дошло до настоящей работы, проявил полную неспособность к труду. В деревне он то и дело брал отгулы по болезни, а когда оказывался в поле, то отлынивал от работы, большую часть времени «перекуривая». Понятно, что на него стали коситься. Тогда он принял позу старого революционера со стажем, что он делал довольно неумело, и, растягивая слова, заговорил: «То-ва-ри-щи! Ленин указывал, что тот, кто не умеет отдыхать, тот не умеет и трудиться. Вот вы, да, вы, думаете только об отдыхе, а не о работе». Понятно, что человек, к которому он обращался, сразу же терялся и честно признавался: «И верно, это мой большой недостаток». А Ни Учэн заливался смехом. Но однажды произошел печальный случай, когда его с температурой 39°отправили на рисовое поле полоть сорняки. Проработав минут двадцать, он упал в лужу и весь измазался в глине. Несколько человек бросились к нему на помощь, окружили, но кто-то ехидно бросил, что он это сделал нарочно, он, мол, заляпал грязью славный почин интеллигенции, участвующей в кампании по «перевоспитанию идеологии трудом». После того случая во время собраний, проходивших под знаком «разговора по душам», он всякий раз рассказывал о том, как упал в воду. Он говорил, что история вскрывает определенную закономерность материалистической диалектики, ибо произошло превращение количества (температура человеческого тела) в качество. Одновременно он вспоминал про свои «дурные корни» и заявлял о необходимости, начиная с яслей, давать детям «дополнительные уроки». (Эта изобретенная им формулировка, по его мнению, была более конкретна и действенна, нежели расплывчатый тезис «учеба с самого начала».) При этом он вступил в спор с руководителем трудового отряда, потому что тот посмел его покритиковать, когда Ни Учэн пошел к кому-то из местных крестьян выпивать и есть собачатину. Ни Учэн разволновался: как можно так не понимать вкусов крестьян!
Трудности с продовольствием, возникшие в 1960 году, повергли Ни Учэна в смятение. Он лежал на кровати, оглашая воздух стонами и жалуясь, что скоро умрет от голода. При виде любого предмета, который подходил по размеру для его рта, он начинал страшно таращить глаза. В 1961 году у него снова появилась возможность обедать в дорогом ресторане. Он старался есть там не переставая: ел, и ел, и ел. В конце концов он заработал язву двенадцатиперстной кишки. Ему сделали операцию, после которой он постарел еще больше.
В 1966 году разразилась «культурная революция». Некоторые из тех, кого Ни Учэн считал героями типа А-Кью, руководствуясь «Шестым параграфом Положения об общественной безопасности», заявили, что, поскольку Ни Учэн является контрреволюционером с историческим прошлым, он не имеет права участвовать в революции. Ни Учэн сильно расстроился. От волнения у него обострилась катаракта и поднялось глазное давление. Но он по-прежнему повсюду твердил, что нынешняя революция, мол, самая последовательная и глубокая, что он мечтал о ней, он желал ее, он давно был к ней готов. В ней якобы воплощается гегелевская «абсолютная идея» и «абсолютный дух». Поэтому сейчас важно создавать особый и абсолютный авторитет человека. Между тем буржуазные интеллигенты боятся такой абсолютизации, что является их самым жестоким недостатком. Ни Учэн высказал свое уважение к лидерам «культурной революции», среди которых, само собой, упоминалась и «уважаемая товарищ Цзян Цин». Он произносил это имя с каким-то особым чувством и с огромной почтительностью, но в то же время с осторожностью. Когда он заговорил о своей готовности поддержать необходимость борьбы со старой идеологией, старой культурой, обычаями, привычками – то есть необходимость сломать «четыре старых», – с его голосом начинали происходить странные изменения: голос дрожал, в нем слышались еле сдерживаемые слезы. Ясно, что Ни Учэн был готов вступить с «четырьмя старыми» в решительную схватку, не на жизнь, а на смерть, потому что он, Ни Учэн, «является их самым непримиримым противником». Только Мао Цзэдун и компартия способны бросить великий клич и поднять массы на борьбу против омерзительного наследия прошлого. Что касается меня самого, то я являюсь ярким порождением «четырех старых», я насквозь пропитан затхлыми идеями и нахожусь в их власти. Я страдаю от них, но никак не могу с ними разделаться. Они убивают людей, из-за них Китай «изменил цвет» и стал ревизионистской страной. Они поставили страну на грань гибели. Если в этой борьбе возникнет необходимость моего физического уничтожения, устранения из жизни, я первый подниму обе руки и проголосую «за». Стремясь к гуманности, я стараюсь обрести ее в жизни; я иду на смерть без всякого сожаления. Клянусь до смерти защищать и поддерживать эти принципы. Десять тысяч лет им жизни! Десять по десять тысяч лет!
Хунвэйбины и «золотые дубинки», все эти А-Кью, которые бдительно внимали его речам и следили за каждым словом, разинули рты от изумления. Что касается разного рода «дурных элементов», зачисленных в этот разряд согласно «Шестому параграфу», то они совсем растерялись, не зная, с какого конца подступиться к взволновавшему всех «революционному выступлению» Ни Учэна, хотя обычно они критиковали каждое слово выступающего, сопровождая его многочисленными комментариями, – критиковали так, что от человека оставалось мокрое место. В конце собрания руководителю «группы диктатуры» осталось только выдавить несколько фраз и признать, что позиция, занятая Ни Учэном, «можно сказать, хорошая». Однако сейчас для таких людей, как ты, самым важным является другое – признание своей собственной вины и перевоспитание. Не ты должен совершать революцию, а другие должны вершить революцию над тобой. Тебе не следует забывать о своем происхождении. Одним словом, знай свое место и меру, не болтай, что придет в голову, и не дури. На этом собрание закончилось. Если бы оно не закончилось, Ни Учэн, по всей видимости, выступил бы с новой революционной речью, еще более возвышенной и взволнованной.
После 1978 года его старшая дочь Ни Пин, как-то желая уязвить отца, сказала ему (он в ту пору почти полностью потерял зрение), что все его левацкие разглагольствования в начале «культурной революции» свидетельствуют лишь об одном – он на самом деле является «шутом»[171]171
«Шут истории» – распространенная уничижительная кличка тех, кто подвергался критике в 50–60-е годы.
[Закрыть]. Ни Учэн стыдливо захихикал и заявил, что он вполне искренне поддерживал идею «разрушения четырех старых» и надеется до сих пор, что такое разрушение рано или поздно произойдет: меня действительно гнетет мысль, что мы так и не смогли по-настоящему сломать «четыре старых».
Если говорить объективно, то стремление Ни Учэна к прогрессу выражалось не только в его революционных разглагольствованиях, которые многих изумляли и приводили в недоумение. Вовсе нет. Например, много усилий он тратил также и на чтение книг по теории марксизма-ленинизма, причем наиболее усердно штудировал ленинские работы «Материализм и эмпириокритицизм», «Философские тетради». Несколько раз он принимался читать «Капитал», но, по всей видимости, так и не смог проникнуть в его суть. Зато философские труды Ленина он читал весьма старательно, охотно и «со вкусом», с красным карандашом в руке, разукрашивая текст галочками и кружками, делая на полях комментарии и ставя в тексте восклицательные знаки, свидетельствующие о его безграничном восхищении и безмерной радости. Прочитав самую малость, он считал, что уже постиг суть прочитанного, и это приводило его в состояние радостного возбуждения.
Он старался как можно скорее поделиться своими мыслями с окружающими. Иногда он бежал к общественному телефону и, не пожалев четырех фэней, звонил кому-нибудь из многочисленных приятелей после чтения марксистско-ленинских трудов. Он рассказывал о них своим детям, если они по случаю заходили к нему, а также землякам, которых обычно не видел по многу лет, при этом старался избегать всех правил и этикетов, положенных при встрече. Как-то он позвонил Ни Цзао, который в это время находился на очень важном заседании. У меня сегодня самый радостный день, сообщил он. Я познакомился с ленинской критикой «физического идеализма». Должен тебе сказать, что это самая фундаментальная проблема, которая касается решительно всех и помогает людям найти свое место в жизни. Конфуций в свое время сказал: «Если утром услышишь о Дао, то вечером можешь спокойно умереть». Я нынче еще раз «услышал о Дао». Как я счастлив! Надеюсь, что в течение этой недели мы вместе с тобой сходим в ресторан «Величественная радость» – «Канлэ» и отведаем крабов. Потом он принялся ругать каких-то людишек, которых он сравнивал с А-Кью и Бородатым Ваном. Все они сейчас пишут, теоретизируют, разглагольствуют о марксизме-ленинизме, а раньше так же громко голосили о моральном законе Чэнов и Чжу Си[172]172
Имеется в виду философское учение о «моральном законе» (неоконфуцианство), которое проповедовали сунские философы Чэн Хао (1032–1085) и Чэн И (1033–1107), а также мыслитель Чжу Си (1130–1200).
[Закрыть] о субъективном идеализме епископа Беркли. Их ограниченные возможности, их низкие достоинства… Они не могут даже плавать, не то что понять существо марксистско-ленинских идей!
Нервы Ни Цзао не выдерживали нытья отца и его непрестанных сетований на то, что он «хуже маленькой монашки», что он всего-навсего «домохозяин» и прочее, и прочее. Надоедали и его бесконечные теории, выспренние на словах, но лишенные всякого смысла. Ни Учэн же относился к сыну весьма доброжелательно, вероятно потому, что Ни Цзао был единственным человеком, способным выносить его стенания и теоретизирования. Если Ни Учэн чувствовал себя хорошо, он сам приходил к сыну, отчего Ни Цзао нередко испытывал большие неудобства, и ему приходилось заранее прибегать к некоторым непозволительным уловкам. Порой он отказывал отцу во встречах, а если тот все же приходил, то сын не уделял ему внимания или отправлял домой, иначе отцовская надоедливость непременно отражалась бы на работе, учебе, жизни и отдыхе сына. Недаром есть поговорка: «Захватив вершок, решил отхватить целый аршин».
В последние годы отец не мог прожить без сына ни одного дня, но Ни Цзао по причине своей занятости иногда не появлялся у отца по месяцам. Понятно, что, навещая отца после длительного перерыва, Ни Цзао испытывал чувство некоторого смущения и старался загладить вину своим вниманием к жизни отца или рассказами о самом себе. Ни Цзао к тому времени был уже давно женат, имел ребенка, у него были свои заботы и свои невзгоды, но это нимало не смущало отца, который при встрече сразу же начинал молоть всякую чушь. Как говорится: «На востоке молоток, на западе скалка», отец тараторил, не давая сыну возможности вставить слово, даже справиться о его. Ни Учэна, здоровье. Например, он часто говорил сыну, что похож на джинна из сказки о рыбаке из «Тысячи и одной ночи». Джинна, как известно, загнали в бутылку, которую бросили на дно океана. В первые пятьдесят тысяч лет джинн клялся, что отдаст все золото мира тому, кто его спасет. Он прозябал в унынии все эти долгие годы, но его так никто и не освободил. Протекали следующие пятьдесят тысяч лет, и джинн уже клялся отдать своему спасителю все драгоценности мира. Но и эти годы пролетали впустую, а спаситель так и не появлялся. И тогда добрые намерения джинна обращались в лютую злобу и ненависть, а его надежды сменялись отчаянием. Именно в этом и состоит диалектика по Гегелю, что впоследствии было подтверждено экспериментами Павлова. Так, джинн, загнанный в бутыль, терзаясь от горя, без проблеска надежды на спасение впустую прождал сто пятьдесят тысяч лет. И тогда он решил: я сожру того, кто меня спасет!
Последнюю фразу Ни Учэн произнес как-то особенно взволнованно, с большим подъемом. Затем помолчал и добавил: холодное отношение к человеку и равнодушие, с которым один заставляет напрасно ждать другого, – это издевательство над человеческой природой, это антигуманно. На мой взгляд, это самое тяжкое преступление из тех, что совершаются человечеством… При этих словах сердце Ни Цзао начинало учащенно биться, но потом постепенно успокаивалось и в конце концов становилось каменным. Тем временем Ни Учэн с необыкновенной легкостью успевал перевести разговор на Юма и Фейербаха, попутно разоблачая глупость махизма. Затем он заводил речь о смелости своего деда, который выступил некогда против старых традиций, рискнув проповедовать в своей деревне теорию «природой данных ног». Ни Учэн изрекал, что знания – это сила, однако, к большому сожалению, он сам до сих пор не сумел полетать на самолете, но надеется, что еще успеет это сделать. Затем заходил разговор о вреде табака, о достоинствах диссертации Маркса, после чего Ни Учэн заявлял, что ему сейчас крайне необходим помощник, что он собирается диктовать ему свою будущую книгу – популярное изложение философии. Он спрашивал у сына, принес ли тот ему приличных сигарет, потому что те, которые он курит сейчас (четвертого сорта), необыкновенно гадкие.
Разговоры заканчивались воспоминанием о юных годах, когда Ни Учэн еще не «пристрастился к пользованию туалетной бумагой»…
Подходила пора прощания. Ни Цзао хорошо понимал, что отцу очень не хочется с ним расставаться. Мысль о том, что отец не может без него существовать, вызывала у него чувство беспокойства, но большего внимания отцу он, увы, уделить не мог, как не мог дать ему и большей теплоты или вселить в его душу надежды. С трудом ему приходилось сейчас выслушивать отцовские речи. Всякий раз, приходя к отцу, он испытывал все большее сожаление и ему все меньше хотелось приходить сюда вновь. Ни Цзао не хотел становиться той соломинкой, за которую отец в последние годы своей жизни цеплялся в океане безнадежности.
Последние годы жизни Ни Учэна совпали с «хорошей политической атмосферой» в стране. Прежде всего, получила признание революционная деятельность Ни Учэна в Освобожденных районах в 1946 году, а потому с него было снято подозрение в предательстве и обвинения в том, что он будто бы являлся международным шпионом. Ни Учэн удостоился почетного статуса ветерана – ганьбу, удалившегося со службы на покой. Поэтому каждый месяц он получал не семьдесят процентов от своей зарплаты, а все сто. Его настойчивые требования прислать помощника были наконец удовлетворены: помощник приходил ежедневно на полдня. Он записывал со слов Ни Учэна текст научного трактата. Встречи продолжались больше недели, пока помощник не прекратил своих визитов, так как перестал понимать логику и смысл того, что вещал Ни Учэн. На смену первому помощнику появился второй, более покладистый и терпеливый. Так претворялась в жизнь политическая установка о заботливом отношении к старым кадровым работникам и интеллигенции. Новый помощник удостоился в доме Ни Учэна необычайно теплого приема, в свою очередь сам он проявил к хозяину и ко всем окружающим большое почтение. Но творение Ни Учэна так и не было завершено.
Однажды Ни Учэн с каким-то особым чувством поведал о случае, который произошел в «Школе 7-го мая». В ту пору Ни Учэн еще не потерял зрения из-за своей неуемной приверженности к «босоногим врачам» – «новому явлению эпохи социализма». Вместе с ним в «роте» трудилась одна женщина, работник культуры, имевшая некоторую известность. Она часто рассказывала ему о своей жизни в Яньани. Вспоминая Яньань, она всякий раз восклицала: «О, это был золотой период моей жизни!» Ни Учэн задумался над этими словами. Он спросил себя: а когда был его «золотой век»? «Наверное, мой золотой век еще не начался!» – заключил он.
«Какое страшное открытие», – подумал Ни Цзао. Разве можно жалеть такого человека? Отцу скоро будет семьдесят лет, он потерял зрение, у него не двигаются ноги. Бездарно, впустую он потратил лучшие годы своей жизни, и вот сейчас вокруг него пустота. А он смеет утверждать, что золотая пора для него еще не наступила, он надеется, что завтра или послезавтра, в будущем году или через год все вокруг него зацветет, засияет… Что это, скепсис или оптимизм? Увы, все это не вызывает ни сочувствия, ни сострадания, потому что это чистейшей воды пустозвонство и глупость – сущая чепуха!
Спустя несколько лет, уже после смерти отца, Ни Цзао, вспоминая его, задавал себе вопрос: что же все это означало? И всякий раз его охватывала непонятная дрожь. Кажется, солидный человек, интеллигент, учившийся за границей, побывавший в Освобожденных районах… Как он умудрился дойти до такого состояния? Однако, чтобы ответить на этот вопрос, у Ни Цзао не хватало ни слов, ни знаний. Ни Цзао так и не мог решить, к какому сорту людей относился его отец? Кто он? Интеллигент, обманщик, юродивый, дурень, добряк, предатель, старый революционер, Дон Кихот, левый радикал, крайне правый, демократ, паразит, заживо погребенный, тряпка и рохля, наивный старикашка, Кун Ицзи, А-Кью, псевдозаморский черт, Рудин, Обломов, ловкач и торгаш, хитроумный коммерсант, жалкая личность, змея, дезертир, крайний авангардист, гедонист, подонок, мещанин, книжный червь, идеалист?.. Все эти определения проносились в голове Ни Цзао. От напряжения он даже покрывался испариной.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
В один из дней последней декады июня 1967 года по дороге, петлявшей в глубоком ущелье приграничных гор Северо-Запада, с натугой тащился, кряхтя и задыхаясь, междугородный пассажирский автобус, в котором жарились Ни Цзао и его тетка Цзинчжэнь, сменившая после Освобождения свое имя на Цзян Цюэчжи. Ее лицо, покрытое дорожной пылью, было горестным и страдальческим… Еще в пятидесятых годах Ни Цзао, ставший жертвой одной из политических кампаний, попал в эти места, на бескрайние просторы северо-западной равнины. Сейчас он приехал в Пекин, чтобы забрать к себе тетю, которая смогла бы помочь ему по дому. Четыре дня и четыре ночи тетка и племянник тряслись в поезде, а затем еще три дня добирались автобусом. В поезде они занимали жесткие места. Тетя, заснув ненароком, несколько раз съезжала на пол, усеянный плевками, шелухой от семечек, яичной скорлупой и прочим мусором. Но, даже очутившись на грязном полу, она продолжала спать.
Путешествие в автобусе, который двигался только днем, было куда приятней поездки в поезде. И вот в последний день своего путешествия они ехали среди гор, по дороге, тянувшейся вдоль густого леса, бежавшей через луга, раскинувшиеся по склонам долины, на которых виднелись хижины, паслись стада домашних животных, возле них расхаживали пастухи с лошадьми. Вдали белели снежные шапки гор, тянулись вверх высоченные ели, блестели горные озера и родники. Все здесь радовало глаз и душу. «До чего же здесь хорошо, какой простор! И не говори! Я так рада, так рада, что приехала сюда! Я чувствую здесь себя свободной! Вот уж никогда не думала, что я, твоя старая тетя, отважусь ехать в этакую даль. Не надеялась, что когда-нибудь попаду к тебе… Не знаю, о чем я могла бы сейчас еще мечтать и о чем вспоминать… Я потеряла цель в жизни, не знала, как буду существовать дальше… И вдруг неожиданно получаю твое письмо. Надо же! Всю жизнь мне, дуре, не везло, и вот, пожалуйста, судьба улыбнулась…» Возбужденная Цзинчжэнь не переставая восторгалась всем, что видела вокруг. «До чего далеко заехали! А какие здесь высокие горы! Озера… взгляни, какие они чистые, никогда не видела такой прозрачной воды!.. Знаешь, я уже решила: больше не думать о доме. Конечно, на родине хорошо и в Пекине неплохо. Только мне-то что с того?.. Нет, поедем дальше, и чем дальше, тем лучше, чтобы забыть прошлое – забыть все напрочь!.. По-моему, с того дня, как я появилась на свет, в моей жизни не было ничего хорошего. Лишь нынче я нагнала свое счастье: забралась с племянником в этакую даль, залетела чуть ли не под самые облака – на край небес, за тридевять земель. Вот здесь, на северо-западных окраинах, я и найду свою могилу…»
Ее лицо горело от возбуждения, брови то и дело взлетали вверх. Сейчас она походила на ту прежнюю госпожу Чжоу из рода Цзян, которая в далекие годы ежедневно совершала свой утренний туалет, читала стихи и оглушительно чихала.
Ни Цзао лишь тихонько посмеивался. Трудно сказать, чего больше было в его смехе: грусти или радости. На протяжении десяти и более лет их отношения не отличались особой теплотой. Правда, в детстве тетка, обожавшая племянника, проявляла о нем большую заботу и учила его уму-разуму. В канун сороковых годов, когда Ни Цзао вступил на революционный путь, он стал относиться к тете и другим родственникам враждебно и даже с некоторым презрением, и делал это вполне сознательно. Не особенно задумываясь, без колебаний, он причислял родных к представителям разложившегося класса помещиков. Само собой, все они боялись революции, а приближение Освободительной армии приводило их в трепет, в чем Ни Цзао усматривал проявление классового нутра. После Освобождения, благодаря занятиям политучебы, у Ни Цзао еще более обострилось «классовое чутье» и он еще решительнее обрушил свой критический пыл на «помещичьи элементы». Он вспомнил ту жестокость, с которой они эксплуатировали других, их враждебность к революции. Критика «помещиц» стала для него целью учебной практики и итогом идейного роста. На собраниях группы он часто рассказывал об «отвратительном облике» двух представительниц класса помещиков – тети и бабушки, – и его взволнованная речь дышала искренностью. Этой позиции отчуждения по отношению к родне придерживался не только он, Ни Цзао, но и Ни Пин и даже его мать Цзинъи – она же Цзян Инчжи.
Бабушка и тетя жили тогда лишь надеждой на взаимную поддержку, потому что все экономические источники существования были исчерпаны. Еще в 1947 году они продали в деревне все недвижимое имущество и на полученные деньги купили в Пекине дом из нескольких небольших строений, почти развалюх, но после Освобождения они тем не менее сдавали эти лачуги внаем и таким образом кормились. Само собой, это было паразитическое существование. Они, как и прежде, растапливали угольными шариками капризную печурку, с каждым днем приходившую во все большую негодность. Казалось, неосторожного дуновения на нее было достаточно, чтобы она развалилась. Они по-прежнему питались паровыми пампушками-вотоу. Бабушка, готовя их, любила положить в тесто побольше соды, отчего пампушки приобретали зеленоватый оттенок, но зато делались более пышными, хотя по-прежнему отдавали отрубями. Когда такая пампушка оказывалась во рту, казалось, что жуешь жесткую гречишную мякину, которой набивают подушку. Соду бабушка добавляла и в маньтоу[173]173
Пресные лепешки.
[Закрыть], поэтому их цвет мало чем отличался от вотоу.
В середине пятидесятых годов вышла замуж Ни Пин, и у нее родился ребенок. Цзинчжэнь стала нянчить внучатого племянника, поэтому ее положение в семье упрочилось по сравнению с бабушкиным. Чем больше они нищали, тем большая тревога их охватывала. Они боялись, что кто-нибудь другой захватит отвоеванные ими привилегии в хозяйстве. Поэтому мать и обе дочери с большим рвением хлопотали у плиты. Странно было видеть, как суетятся, отпихивая друг друга, женщины этого небольшого родственного коллектива.
Пища, которую готовила бабушка, была, вероятно, самой невкусной и скудной, что, однако, нисколько не смущало и не огорчало старую женщину. Она чувствовала себя вполне счастливой оттого, что после Освобождения наконец воцарилось спокойствие. В пятидесятых годах, во время первых выборов, имя бабушки было внесено в списки избирателей, как, впрочем, и имя Цзинчжэнь, что побудило Ни Цзао связаться с жилищным комитетом и предупредить о классовом происхождении своих родственников. В то время он твердо стоял на классовых позициях. Правительственные органы были не готовы к выяснению исторических корней его родни, существовавшей до 1947 года за счет арендной платы за землю. Даже в шестидесятых годах, во время движения «четырех чисток» или, как его еще называли, «движения за социалистическое перевоспитание», бабушку и тетю не тронули, хотя и было соответствующее указание о бдительном отношении к социальному происхождению всех горожан.
Бабушка заметно постарела. В конце шестидесятых годов ей уже перевалило за восемьдесят. Голова у нее почти облысела, и, чтобы скрыть это, она выкрасила ее кожу дешевой краской. Вид у нее был довольно смешной. В разговоре с соседями она часто говорила: «Смерти я нисколько не боюсь, потому как жизнь потеряла для меня всякий смысл… Пошла я как-то в конец переулка, чтобы купить на два фэня уксуса. Купила, возвращаюсь обратно, подхожу к дому, а дома вовсе не замечаю, прохожу мимо, иду аж до поворота, где стоит старая акация. Встала под деревом и думу горькую думаю: куда мне деваться с этим самым уксусом? И вообще, что я сейчас делала? Зачем к этой акации пришла? Думала, думала… потом хлебнула немного уксуса из плошки и вдруг вспомнила. Ну не дура ли? Для чего же я с этим уксусом сюда притащилась? Понятно, повернулась и поплелась обратно. Иду медленно и наконец нахожу свои ворота. Ну, думаю, на сей раз не проехала мимо – станция! Дома заглянула я в плошку с уксусом, а его там почти нет – весь расплескался. И где только я его расплескала? Вот и соображайте: к чему мне дальше жить? Потому и не боюсь я умереть, ничуть не боюсь. А пугает меня другое – что не умру вовсе. Только навряд ли! Разве такое бывает, чтобы человек вечно жил на этом свете?»
Небесная сеть необъятна, и хоть редки ее ячеи, да ничего из этой сети не выскользнет!
И вот разразилась «культурная революция». Хунвэйбины, крушившие и уничтожавшие «четыре старых», ворвались в мрачную, грязную лачугу, насквозь пропахшую какой-то кислятиной. Бабушка встретила гостей так, будто давно их поджидала. И действительно, с момента Освобождения она все время ждала того дня, когда за ней придут, хотя соседи ничего не знали о классовом происхождении двух женщин и не проявляли к ним интереса. И когда хунвэйбины вломились в дом, старая женщина тут же грохнулась на колени и принялась отбивать перед ними поклоны. Ее лысая голова, в пятнах темной краски, с громким стуком касалась пола, в деревне это называлось «громким поклоном». Госпожа Чжао отбивала такие поклоны в суде перед чиновником еще в ту пору, когда судилась из-за наследства Цзин Юаньшоу. После Освобождения она все время ждала того момента, когда ей вновь придется совершать «громкие поклоны», но до сих пор сделать это ей не удавалось.
– Господа хунвэйбины! – голосила она, отбивая низкие поклоны. – Я помещица, мне давно пора в могилу… Вот так-то, именно так. – Она подняла голову и взглянула на Цзинчжэнь: что еще ей надо говорить? Цзинчжэнь подсказала: «И после смерти останутся мои грехи!» Старуха снова ударилась головой об пол и запричитала: – И после смерти останутся мои грехи!
Хунвэйбины поняли, что старуха кается в своих злодеяниях вполне искренне. Но тут вперед выступила одна активистка в очках, более «сознательная» и просвещенная, чем остальные. Называть хунвэйбинов «господами» – это значит их оскорблять и порочить, заявила она. Разве могут хунвэйбины Мао Цзэдуна быть «господами», да еще для какой-то помещицы? Не утверждаешь ли ты, что хунвэйбины сами помещики? Допрос с пристрастием так перепугал бедную старуху, что она обмочилась. Хунвэйбины не прислушались к идейному замечанию соратницы в очках. Вид неопрятной старухи, от которой исходил чудовищный запах, значительно сократил их пребывание в доме. И все же недорезанная помещица была достойна кары. Но какой?
Хунвэйбины долго соображали, что им предпринять. Конфисковать имущество? Но в доме не было ничего ценного. Может, стоило влепить ей пару затрещин? Но какая у нее ссохшаяся физиономия! Глядишь, оплеуха и не получится звонкой, но очкастая активистка не растерялась. Ей попался на глаза глиняный таз с остатками грязной воды, в которой старуха мыла спеленатые ноги. На ногах быстро вырастали мозоли и образовывались «шпоры», и старая женщина была вынуждена по нескольку раз в день делать ванночки. Хунвэйбинка приказала: пей! Она, вероятно, рассчитывала, что старуха не выполнит приказа, потому что воды в тазу оставалось довольно много, а старуха была такая тщедушная. Стекла очков зловеще блеснули – она перевела взгляд на Цзинчжэнь.
– Я не помещица! – отрезала Цзинчжэнь. Ей нельзя было отказать в смелости, что называется: «Съела медвежье сердце и закусила печенью барса». – До Освобождения я работала в женском Профессиональном училище в Пекине – заведовала библиотекой и отвечала за лабораторные приборы! У меня есть свидетельство!
И Цзинчжэнь удалось избежать унизительной процедуры, а бабушке пришлось ее выполнить. Она принялась пить грязную воду и облилась. Но таким образом один из этапов «культурной революции» она преодолела. После этого случая старая женщина стала где придется расхваливать хунвэйбинов: уж такие они хорошие, такие вежливые. Недаром про них говорят – «небесные полководцы»!
Затем у старухи начался понос, и она слегла. Мама! Болит живот? – спрашивала Цзинчжэнь. Нет не болит! А где болит? Нигде. Все хорошо. Чувствую себя вполне сносно…
В последние минуты перед смертью старуха попросила дочь перевернуть ее на другой бок, назвав при этом дочь старым именем – Цзинчжэнь. Ее новое имя она забыла. Бабушка так и не решилась взглянуть на стену, где висел небезызвестный портрет и изречения. Она умерла.
Хоронила мать одна Цзинчжэнь, так как Цзинъи прийти побоялась. Она старалась теперь избегать родных, причисленных к категории закоренелых помещиков. Цзинчжэнь потом рассказывала, что в день кремации на покойнице была кофта, подбитая мехом енота, – единственная сравнительно ценная вещь, сохранившаяся с прошлых времен, наряд, который мать привезла с собой еще из деревни и носила лет пятьдесят. Кто-то посоветовал Цзинчжэнь перед кремацией снять кофту с покойницы, но она, усмехнувшись, отвергла предложение. Нет, этого я не сделаю!
Ни Учэн много лет спустя услышал историю о том, как хунвэйбины заставили бабушку пить грязную воду из таза. «Так ей и надо! Она же из помещичьей семьи!» – сказал он. В это время сам он носил ярлык «контрреволюционера с историческим прошлым». Он полностью одобрил революционные действия «маленьких полководцев», так же как в свое время, в период земельной реформы, он поддерживал все радикальные мероприятия, мыслимые и немыслимые. Ни Учэн всегда отличался исключительной последовательностью.








