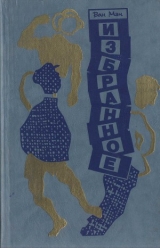
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Ван Мэн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 51 страниц)
Скривившись, тень цокает язычком:
– Все, мать твоя, шелуха; что воспитание коммуниста, что дух революционного бунтаря, то ли перегоним Англию за три, Америку за десять лет, то ли и за пятьдесят никого не догоним, что этот ваш компривет, что хунвэйбиновские здравицы, что горячая любовь, что «ура» на десять, сто тысяч лет, то ли настоящие коммунисты, то ли пробравшиеся в партию буржуа, что других «чистят», что тебя «почистят», все эти ваши «18 августа», «5 апреля» – все шелуха, блеф, пустота…
– Что же тогда настоящее? – возражает Чжун Ичэн. – Что-то ведь и тебя волнует, заставляет жить – не умирать?
– Любовь, юность, свобода – пустое. Ни во что, что не могу потрогать руками, взять в личное пользование, не верю.
– Ну что ж, выпьем за дружбу! Я давно прозрел и обрел свободу. В пятьдесят седьмом выставили меня на открытое судилище, да ни слова не вытянули. Двадцать с хвостиком проваландался, ни книг не читаю, ни газет, а зарплата идет… Кто рожден китайцем, отравлен с рожденья. Всем миром не разгребешь всего, что тут у нас навалили.
– Моя дочь, – продолжает тень, – подыскала себе тридцать четвертого жениха, и опять не то, мне он не по душе, не позволю…
– Ладно, – прерывает Чжун Ичэн, – не станем пока обсуждать, справедливы ли все эти ваши претензии. Но только скажи мне, вот такие, как ты, – вы хоть палец о палец ударите для родины, народа, ну, хоть для самих себя, своей любви, свободы, друзей, ради рюмки вина хотя бы, ради того, чтобы жизнь твоя не прервалась и у тебя появилась бы возможность разглагольствовать о свободе, ради дочери твоей… да-да, вот хотя бы для того, чтобы нашелся для тебя идеальный зять. Готовы ли вы что-нибудь совершить? Есть ли у вас силы хоть что-то сделать?
– Жалкий глупец! Никак путы разорвать не решаешься, неужели даже страдания не помогли тебе прозреть? – взрывается серая тень, переходя в наступление.
– Да, мы были глупцами. Очень возможно, что и любовь наша была не совсем разумна, и преданность слепа, и вера наивна, и устремления нереальны, и энтузиазм нелеп. А выросла наша глупость на избыточном преклонении, мы и предполагать не могли, что жизнь окажется столь хлопотной, тяжкой. И все же этого у нас не отнимешь; любовь, преданность, вера, устремления, энтузиазм, преклонение, свершения – все это было, зато теперь, расставшись с наивностью, мы внутренне окрепли, возмужали. Пусть растоптали нашу любовь, веру, преданность, у нас остались гнев, боль и надежды, которым не дано умереть. Наша жизнь, наши души были светлыми и станут еще светлее. А у тебя что? Что имеешь ты, мой серый друг? Что совершил? На что способен? Кто ты такой? Нуль.
4
1958 год, март
«И все-таки я верю в партию! Нашу великую, славную, правильную партию! Стольким она осушила слезы, какие горизонты открыла! Без партии я был бы жалким червем, судорожно барахтающимся на краю гибели. Это партия превратила меня в исполина, коммуниста, революционера, поставила на ответственный пост. И я хорошо знаю, что такое наша партия, потому что не втерся в нее, как утверждают, а десять с лишним лет жил жизнью партии, смотрел на все трезво и непредвзято. Читал партийные издания, работал в партийных учреждениях, участвовал в партийных собраниях, сталкивался с массой партийных работников, в том числе и руководящих, и любил их, а они все приветствовали меня. Лучшие из лучших в нации и классе – вот что такое Коммунистическая партия Китая, люди горячие, бескорыстные, переживающие за судьбы страны и народа, взвалившие на себя тяжкое бремя освобождения нации и класса. Читал ли ты „Любимый Китай“ Фан Чжиминя? Стихи Ся Минханя о гибели за правое дело? Мы-то читали, мы-то знали, что это – настоящее, в это можно верить, ибо каждый из нас на месте этих замечательных людей поступил бы так же. Нет у партии иных интересов, кроме интересов класса, нации, народа. Именно это давало ей право, даже обязывало строго спрашивать с каждого из своих членов, а коммунисты должны были самым суровым образом, беспощадно, без утайки спрашивать друг с друга. Я в партии с детства, поэтому-то требовать от меня следовало многого, и я не ждал ни сочувствия, ни снисхождения, ни чьего-то покровительства. Не по чьей-то злой воле, не из чьих-то личных побуждений партия подвергла меня проработке. В смертельной борьбе за дело коммунизма и интернационализма, с мировой и внутренней буржуазией, зарубежным и отечественным ревизионизмом партия не знает жалости! Она велика и могуча! И обязана была принять меры пресечения, даже если что-то, способное принести вред партии, только промелькнуло у меня во сне или возникло в подсознании, а уж тем более если я это написал. Не жалея – исключить из партии! Зачислить в правые! Взять в тиски диктатуры пролетариата! Расстрелять! Как Имре Надя в Венгрии. Если Китаю необходимо расстреливать правых, в том числе и меня, я приму казнь безропотно! Да, меня зачислили в правые, но я еще жив, я еще способен жить, ибо вера во мне крепка, неколебима, как скала, как гора Тайшань!»
Тысяча девятьсот пятьдесят восьмой год, восьмое марта, пять часов пополудни. Под каменный мост через Цзиньбохэ заносимый ветром, залетает дождь, обдавая лица, ноги, одежду Чжун Ичэна и Лин Сюэ, орошая сухое русло реки. Зябко, пустынно. С тех пор как Чжун Ичэна принялись прорабатывать, он стал избегать Лин Сюэ, к тому же несколько месяцев она была в командировке, так что не виделись они долго. А теперь он специально вызвал ее для последнего разговора. Самый тяжкий миг самоотрицания и самоуничтожения уже позади, но оставались еще силы нести эту непостижимую боль и тяжесть, ибо ни на йоту не ослабла, не пошатнулась вера в партию, составляющая корень его жизни, напротив, очищаясь, проникался он еще большей преданностью и любовью, их и словами не выразить. Вот так: дождливые, ветреные весенние сумерки, каменный мост через Цзиньбохэ, патриархальный пейзаж, казалось не тронутый рукой человека (на самом-то деле только мост и не тронут, а вокруг все преобразилось, домов понастроили)… И хотя юных коммунистов, некогда отважно защищавших этот мост, один за другим превратили в «элементов» и душа его кровоточит, а по сердцу как ножом полоснули, но партия, освободившая и этот город, и этот мост, все еще существует – не только в горкомах и райкомах, в деревнях и на заводах, но и в сердце Чжун Ичэна, существует во всей своей благородной высоте, величии, блеске; скальпелем можно иссечь его сердце, но никому не дано исторгнуть из него образ партии, затуманить ее облик. Вот почему говорит он с Лин Сюэ, как и прежде, громко и внушительно. А говорит он вот что:
– До чего я, оказывается, отвратителен – и вообразить невозможно! Душа с детства заражена микробами индивидуализма, личного геройства. В школе выпендривался, все экзамены хотелось получше сдать. Не от чистого сердца в партию вступил – прогреметь жаждал, имя, видите ли, в истории оставить! Да еще эгалитаризм, либерализм, прекраснодушие… В ответственные моменты социалистической революции все эти «измы» отталкивают от партии и социализма, что и превратило меня во врага партии внутри самой партии! Подожди, Лин Сюэ, сначала выслушай! Вот, скажем, товарищи утверждали, что я до мозга костей полон ненависти к социалистическому строю, а до меня не доходило, но ведь чего проще: коли не понимаешь – помозгуй, потрудись, когда-нибудь дойдет. Потом мне вспомнилось, как в позапрошлом феврале мы с тобой забежали в гуандунский ресторанчик около книжного магазина «Новый Китай», битый час просидели, пока нас обслужили… И что же я, помнишь? Вскипел! Ты меня еще успокаивала, а я разошелся: «Ну что за безобразная работа, совсем не то, что было у частников!» Ведь это же типичное недовольство социалистическим строем, да? Я сам рассказал об этом случае, и правильно меня раскритиковали… Да не качай ты головой, Лин Сюэ, не сомневайся, пойми, как можно быть недовольным партией! Крохотная крупица недовольства, как семя, прорастет в твоем сердце, пустит корни – и вот уже ты готов вступить на путь преступлений против партии. Я отвратителен, я враг, я с самого начала был нечист, а потом и вовсе пал. Откажись от меня без тени колебаний, отмежуйся, возненавидь! Я же предал твою любовь, осквернил наш компривет! Как партия вычеркнула меня из своих рядов, так и ты навеки вычеркни меня из сердца!
Чжун Ичэн замолчал. Острой горечью обожгло горло, он всхлипнул, из глаз брызнули слезы, покатились по лицу. Он поспешно отвернулся. Не собирался ведь открывать своей боли. Все эти дни, пока его прорабатывали, он постоянно думал о Лин Сюэ, вспоминал, как они вдвоем гуляли, заходили в столовые, в кинотеатры, пели песни – дружным дуэтом или каждый про себя. Не молчать, если другой не прав, – вот на чем строилась их любовь, на взаимных комприветах. Когда-то он написал стихи о любви, потомки, наверное, не поймут их, посмеются, но писал он искренне, проникновенно. Стихотворение называлось «Мне нужны твои советы». Вот оно:
Мне нужны твои советы.
Чтобы совершенней стать.
Мне нужны твои советы,
Чтобы жизнь была чиста.
Мы свирепым ураганам
Детство отдали с тобой,
Спорили, как буревестник,
С громом, молнией ночной.
Революции великой
Посвятили жизни рань,
Каждый жаждал быть героем,
Словно Зоя, Лю Хулань.
Чтобы делу коммунизма
Послужить еще верней,
Жажду я твоих советов,
Жажду критики твоей,
Что зажжется мне в ночи
Фонарем,
И прольется над пустыней
Дождем,
И взойдет звездой
В небеса,
И наполнит мне
Паруса.
Друг мой милый, на любой совет
Я любовью дам тебе ответ.
Ведь от чистого сердца писал! Пусть не поверят, пусть посмеются, пусть отнесутся свысока потомки, подумают, что ничего мы не смыслили в поэзии, в чувствах, а также в догматизме и левачестве, но Чжун Ичэн не забывал это стихотворение и, даже попав в «правые элементы», все черпал в нем доброту и красоту, полноту и тепло жизни.
Увы, все это ему больше не принадлежит, все кончено, взорван фундамент, угас костер, никаких больше комприветов, дружеской критики («Мне нужны…»), хватит. Он понял, что им с Лин Сюэ остается одно – расстаться, незамедлительно, без всяких колебаний, решительно и навсегда. Категорически, не то она станет возражать, ей будет трудно расстаться, если услышит горечь в его голосе, он только причинит ей боль, корни обрублены, да ветви-то еще переплетены, и кончится тем, что дурной своей славой, поганым обликом он запятнает, осквернит чистую Лин Сюэ, а такому страшному преступлению прощения нет. И потому – никаких слез. Да он, наверное, и не сумеет заплакать. Иссякли все слезы, ибо черна его душа, реакционно сознание и преступны антипартийные деяния. Увы, не все происходит так, как мы предполагаем. Заранее он представлял себе, как совершенно логично, гладко объяснится с ней в двух-трех словах, и конец. А сегодня, сейчас он смотрит на такое близкое лицо Лин Сюэ, на ее мягкие, черные, родные волосы, чуть отдающие запахом мыла, милый, задорный, глянцевый носик, на аккуратную простенькую одежду, слышит ее голосок, чистый, ровный, мелодичный, ощущает ее дыхание, тепло ее тела и плачет, выкладывая все то, что несчетное число раз прокрутил, прорепетировал в мозгу, бестолково рыдает, и мало было ему холодного ветра и дождя, еще и душа погрузилась во мрак. Откуда-то издалека, из-за горизонта как будто доносится этот зов: компривет, компривет, компривет – хор ушедших голосов, луч догорающей зари, последняя радуга, а он – он летит, низвергается на дно бездны, в черную пустоту. Соленая и горькая вода – слезы с дождем – сквозь приоткрытые губы затекает в рот.
– Нет, нет, не смей так говорить. – Лин Сюэ, потрясенная, кружила вокруг Чжун Ичэна, ловя его ускользающий взгляд, вцепилась в руку, забыв обо всем и обо всех, нежно провела пальцами по лицу, волосам, а потом повернула его голову, чтобы он смотрел ей прямо в глаза. – Что с тобой, что? Ошибся – повинись, исправься, что же еще гнетет тебя? Какую чушь ты несешь! Не знаю, почему дело приняло такой оборот, я в полной растерянности, но не верю, не могу поверить, что ты – враг. Верю лишь в то, что есть на самом деле и убеждает самим своим существованием, а всем этим умственным вывертам не верю… Не сгущай краски, не поддавайся минуте, не занимайся словоблудием, не принимай всерьез все, что о тебе наговорили. Твою «Исповедь озимых колосков» критиковали идиоты! Считать тебя правым – заблуждение, они что-то напутали. Пусть другие болтают что хотят, но сам-то ты неужели не знаешь себя? Не знаешь ты, так знаю я. Ты не веришь – я верю! Если тебе не верить, если не верить самим себе, во что тогда вообще верить? Как дальше жить? Ну а все, о чем ты говорил, не понимаю, не знаю. Ни о мирах по ту сторону Млечного Пути не знаю, ни о том, что было двадцать тысяч лет назад и что будет через двадцать тысяч лет, и даже не все из того, что происходит сегодня с нами, с партией, знаю и понимаю. А не знаю – значит, не знаю. Не понимаю – значит, не понимаю. Но не может же так быть вечно, слишком все это серьезно, пойми, это же дикость какая-то, людям, в сущности, даже думать об этом не позволяют. Чжун, милый, прости меня, тебе и раньше было неприятно такое слушать, но ведь это правда, ты молод, даже слишком, ты даже, скажу я тебе, маловат еще, ты слишком чист и горяч, перебарщиваешь с фантазиями да анализом. И уж если что-то в тебе не совсем созвучно требованиям партии, то как раз это, а не что-нибудь другое. Слишком много ты размышляешь и все лезешь в какие-то темные глубины. Зачем? Черное не назовешь белым, хорошего человека за негодяя не выдашь, а ведь они такое нагородили, будто ты уж и не Чжун Ичэн! Ты принадлежишь партии! И мне, а я – тебе… Так давай… поженимся! Мы уже несколько лет рядом, теперь будем вместе навсегда и вместе примем страдания, коли уж так необходимо пострадать. И вместе обмозгуем все эти вещи, в которых мы с тобой пока не разобрались… Быть может, все это одна большая ошибка, вспышка ярости. Ведь партия – родная мать для нас с тобой, она вправе и отшлепать свое дитя, но сын не должен держать зла на мать. Накажет – и простит, и обнимет, и поплачет вместе с ним. Может, это какой-то особый метод воспитания, чтобы ты стал бдительней, сосредоточенней, после встряски перестройка лучше пойдет… Может, через месяц будет новая проверка, и пересмотрят твое дело, поймут, что перестарались несколько, ведь, как говорят, не перегнув – не выправишь, ну а выправят, все и вернется в нормальное русло… Ничего, ничего, давай-ка… ведь уже столько лет мы с тобой рядом, тебе сейчас так тяжело…
Ее слова, голос, нежность вызвали поразительный прилив сил, и Чжун Ичэн стал, похоже, успокаиваться. Мир все так же светел и прекрасен, и незыблемо стоит древний мост через Цзиньбохэ, чисты и открыты люди, и душа, окаменевшая в потоке грязных и злых слов, раздавленная тяжелыми, как гора Тайшань, беззакониями, в весенних лучах этой мягкой и верной любви начала оттаивать, возрождаться к жизни. И вновь, едва не погибшая, услышала зов далекого хора: «Компривет, компривет, компривет!», увидела радугу в полнеба и зоревые лучи, вызволившие ее уже почти из бездны. Невозможны страдания в этом мире, пока есть в нем Лин Сюэ. Ни предательства, ни кривды, ни поклепа не может быть в мире, где есть Лин Сюэ. Спрятав голову на груди Лин Сюэ, он забывает обо всем, тонет в море любви – все такой же незамутненной и безграничной вопреки всем преследованиям и унижениям.
1951–1958 годы
Мы – дети света, и любовь у нас светлая. И никому не дано погасить свет, убить любовь в наших сердцах. Младенчество – тьма, в которой мы барахтаемся, и путь из детства в юность – это путь от мрака к свету. Ночь так черна, так мрачна, что утром, встречая сияние мириадов лучей, мы ликуем, вприпрыжку устремляемся к свету и, купаясь в нем, забываем, что тьма еще не убита. Нам кажется, что тьма ушла вслед за ночью, растворилась и теперь с нами вечно пребудет солнце, сияющее в ранний утренний час.
Нас переполняла любовь – к партии, красному знамени, «Интернационалу», Председателю Мао, Сталину, Ким Ир Сену, Хо Ши Мину, Георгиу-Дежу, Пику, ко всем вождям коммунистических и рабочих партий мира, к каждому коммунисту, каждому руководителю, парторгу, секретарю. Мы любили каждого труженика и все, что создано его руками: магазины и кинотеатры, тракторы и комбайны, линии электропередачи, улицы, здания, любили красные галстуки на ребячьей груди, молодежь, плечом к плечу шагающую с песнями и улыбками, нежную поросль весенних ив, поскрипывание зимнего снежка, воду и ветер, колосья пшеницы и лепестки хризантем, урожайные поля; все это было достоянием партии, народного правительства, новой жизни, все это принадлежало нам. От любви становилось еще светлее, а любовь на свету росла и крепла.
И друг друга мы любили – еще с той вечерней лекции старины Вэя о самовоспитании коммуниста. Выйдя из зала, решили одну остановку пройти пешком, а прошли полгорода. Наши тени, освещаемые фонарями, то укорачивались, то удлинялись, то отставали от нас, то убегали вперед. И в таком же непрестанном движении находились наши чувства. Мы шли долго, поеживаясь в порывах ночного ветра, но сердца наши пылали.
– А за десять лет большевизируемся?
– Ну, не за десять, так за пятнадцать.
– А как бы нам побыстрее разделаться с индивидуализмом?
– Слушай слово партии – станешь хорошим коммунистом.
– И чего это я тогда повздорила с тем человеком? «Товарищ» – какое замечательное слово… А я…
– Буду держать ориентир на старину Вэя, чтобы стать таким же зрелым, скромным, выдержанным… Когда только получится?
– У тебя получится, получится, непременно получится!
– Неужели можно помышлять о чем-то еще, кроме того, как стать настоящим, полноценным коммунистом, выполнить все задачи, что поставит перед нами партия? Мы же готовы сложить голову, пролить кровь за партию, так неужто не найдем сил покончить с собственными недостатками?
– Ну разумеется. Вот только, боюсь, можем не понять, не осознать, что это недостатки, а уж если поймем, то, конечно, выправим, не щадя себя. Какой же ты коммунист, если видишь, а исправить не хочешь?
– Да только нелегкое это дело – себя перестроить, тут уж сам должен силы приложить, а товарищи помогут.
– Вот ты и помоги, мне нужны твои советы…
– Советы?..
– Ну ты же у нас молодчина и плохое не предложишь, все твои советы приму. Но и ты уж меня слушай…
Если я не прав, посоветуй, излечи меня своей любовью. Смешно? Догматично? А не потому ли дорожим мы любовью, что таятся в ней могучие силы, от которых и люди, и сама жизнь становятся полней и прекрасней? В душевных глубинах зарождается жажда света, и человек отправляется на поиски этого света. Отчего такие густые и нежные ветви у ивы? Так величава, умиротворенно раскидиста софора? Изысканно приветлив платан? Отчего голубеет небо, алеют знамена, загораются фонари? Отчего на всех наших лицах – твоем, моем, его – улыбка неземного счастья? Каждый человек должен стать прекрасней, и тогда прекрасным станет весь мир. Сначала стань достойным любви, а тогда и сам полюбишь, и тебя полюбят. Распахни навстречу свету душу – и поймешь, в чем смысл нашей жизни, за что мы боремся, что вершим. Потому-то и нужны советы друга, помощь в преодолении недостатков. Это необходимо как воздух. И когда мы писали друг другу письма, вместо «целую» ставили «компривет!». Ребячество? Детская болезнь «левизны»? Потомки не поймут? Да ведь мы вскормлены молоком партии, и в головы наши крепко засела вера в партию, и горячая кровь, что течет в наших жилах, готова пролиться по первому зову партии, и взоры наши устремлены на партию, и слух наш настроен только на слово партии, и сердца наши пульсируют вместе с партией; коммунисты, как сказал Сталин, сделаны из особого материала, и нам надлежит стать такими коммунистами, взаправду сделанными из особого материала, ведь, не будь партии, не было бы ни тебя, ни меня, ни нашей жизни, ни нашей встречи и безусловного доверия друг к другу (и пусть завидуют нам, встретившим друг друга и верящим друг другу, и предки, и потомки!); так как же можем мы отказаться от партийного приветствия, не радоваться этим особенным словам, не гордиться ими, не любить их всей душой?
Работа, партийные задания… Мы не могли часто встречаться, бывало, договоримся, а кто-нибудь прийти не может. Как-то один ждал другого у дверей кинотеатра. Не важно – кто: Чжун Ичэн или Лин Сюэ, поскольку в подобных ситуациях оказывались оба. Друг опаздывал, занятый операцией по разоблачению реакционной группы Игуаньдао[184]184
Одно из старых реакционных тайных обществ.
[Закрыть], даже позвонить не сумел. Примчался лишь через полтора часа. А тот, первый, ждал, не волнуясь, ни в чем не усомнившись.
– Извини, извини, – суетливо бубнил опоздавший.
– Что ж тут извиняться? Я ведь понимаю, нет – значит, занят, работаешь, значит, надо стоять, ждать, ты ведь не станешь халтурить, чтобы прийти поскорей!
Как раз кончился сеанс, они шагали рядом с теми, кто вышел из кинотеатра, фильм смотрели другие, и все равно они были довольны жизнью и радовались даже больше, чем зрители, которые обсуждали понравившийся фильм.
А как-то один прождал другого семь часов. Читал все это время Председателя Мао. Семь часов, целый день. Смеркалось, потом и вовсе стемнело, наступил вечер, на смену солнцу высыпали звезды. Скрип каждой двери заставлял встрепенуться – не идет ли, всякий шорох казался приближающимися шагами любимого. Он уж и не знал, что подумать. Взялся за устав партии: «КПК – авангард рабочего класса Китая… организованный отряд… высшая форма классовой организации…» Лишь на следующий день узнал, что другого перед самым свиданием отправили в горком на собрание: к ним в город с инспекционной поездкой собирался прибыть Председатель Мао. Когда назавтра, уже после всех треволнений, ему стало известно об этом, он возликовал и запрыгал от восторга…
Все годы после Освобождения мы были вместе, вдвоем обошли каждую улочку города, не раз с волнением обсуждая свою счастливую судьбу в рядах великой партии, благодаря которой мы так быстро нашли друг друга и не колебались, не сомневались друг в друге, не выдвигали никаких условий, не требовали никаких гарантий друг от друга. Словно так нам было суждено с рождения. Никогда ни одному из нас не приходила мысль, что жизнь могла быть иной.
Люди научились говорить, чтобы передать словами, описать, запечатлеть прекрасное и тем самым сделать его еще прекрасней. И люди словами же, грубыми, жестокими, обидными, пытаются разрушить прекрасное, убить сердца, обращенные к прекрасному. И значительно преуспели в этом. Но свет и любовь, схороненные в тайных глубинах души, пульсирующие в крови, уничтожить совсем не удастся никогда. Мы – дети света, и любовь у нас светлая. И никому не дано погасить свет, убить любовь в наших сердцах.
1958 год, апрель
Канун Первомая. Прекрасная, пьянящая пора. Истомленные долгой зимой, вновь засияли солнечные лучи. Зеленеющие на ветвях нежные листочки спешили расти, чтобы сокрыть небо над улицами города, и все было такое свежее, такое чистое, будто вчера только на свет появилось. Девочки под деревьями торговали земляникой, алой, сочной, кисловато-сладкой земляникой, отдающей запахом травы, яркой и соблазнительной, как и этот праздник, и этот город. Люди меняли одежды, хотя упрямые старики еще не расстались с тупоносой войлочной обувью, а те, кого ослабили болезни, кутались в толстые шерстяные шарфы, зато молодежь, откликаясь на зов жизни, приближающегося лета, уже облачилась в яркие свитера и светлые мягкие курточки. В эти-то ясные весенние дни и поженились Чжун Ичэн с Лин Сюэ.
Светел мир, грандиозна борьба, жизнь прекрасна. Все тверже, все крепче верил в это Чжун Ичэн. Что сотворено человеком, человек вынесет. Трудно вынести счастье, но не зло. Не раз слыхивал он в детстве, что так утешали себя, подбадривали товарищи отца, бедняки. Не будь так, смог бы он пройти сквозь критику, разносы, ярлыки «элемент», «смертный враг», сквозь разоблачение его «злобной физиономии», исключение из партии и тому подобное, и все это одно за другим? Боль трудно терпеть, пока она не смертельна. Главное тут, как правильно сказала Лин Сюэ, верить. Не рухнешь сам, и ничто, даже смерть, тебя не уничтожит. Может, и совершил он серьезные ошибки – «преступные действия», как их назвали, – а может, ошибки его не столь уж серьезны и не так уж он «зловонен», как пытались представить те, кто с этим «зловонием» боролся. Что-то во всей этой ситуации все же оставалось непонятным для него. Одно не подлежит сомнению: надо жить дальше, участвовать в революции, перестраивать сознание, чтобы стать настоящим солдатом коммунизма. И он сделает это, ибо ощущает в себе жгучую потребность именно в этом, и ни в чем ином.
И он воспрянул, к нему вернулись здоровье, энтузиазм, оптимизм. За месяц с лишним, что они с Лин Сюэ готовились к свадьбе, у них накопилось немало фотографий. На собрания его больше не вызывали, в «ожидании решения» у него появилось время для любви, и свидания больше не срывались. В назначенный час они встречались – фотографии сохранили немало мгновений счастья. Вот он стоит на вершине, вспотевший, куртка сброшена с плеч, он придерживает ее рукой, подбоченясь, кудри растрепаны ветром, на лице блики заходящего солнца, за спиной изломы гор. Фотография удивила, даже, можно сказать, ошеломила его: сколько в нем, вопреки обстоятельствам, энергии, свободы, горделивости, устремленности, счастья!
Таким и надо быть. Да он и был таким всегда. Буревестник, не устрашенный ураганом. Орел, раскинувший крылья в небесных высях. Весенний цветок, купающийся в лучах солнца. Не появится на его лице гримаса страха и фальши, лести и пошлости, которая свойственна «помещикам, кулакам, реакционерам, негодяям, правым элементам». Никогда не будет он походить на настоящего правого.
Но показывать фотографии кому-нибудь он не решался, как вообще не смел рассказывать, что они с Лин Сюэ каждое воскресенье фотографируются. Свой свет и свою чистоту приходилось скрывать.
…В тот вечер они отмечали женитьбу. Никого не позвали, кроме нескольких родственников. Да и из тех кое-кто, подыскав предлог, не явился. А с утра на фабрике (Лин Сюэ после школы поступила в техникум, а закончив, пошла на фабрику) начальник провел последнюю «душеспасительную беседу» с Лин Сюэ. Во время кампании она не участвовала в обличениях, поскольку категорически отказалась отмежеваться от Чжун Ичэна, так что сейчас, когда его прочно окрестили правым – и об этом знали все, – ей пришлось пять раз в течение месяца обращаться к руководству за разрешением на брак. Но и последним «спасением души» Лин Сюэ пренебрегла, так что руководству пришлось пойти на дисциплинарные меры: после обеда созвали партсобрание и Лин Сюэ исключили из партии.
Не согласившись с таким решением, Лин Сюэ при голосовании руки не подняла. Когда записывали мнения, твердо поставила «против». За что получила еще и выговор: «упорствует», «наказание надо усилить».
Через два часа после этого она облачилась в бордовую кофточку с зелеными пятнышками, желтый свитер, серые шевиотовые брючки, черные туфли на невысоком каблучке, вскочила в автобус и отправилась «замуж».
Свадебная церемония была малолюдной, пугающе, надо сказать, малолюдной. Никаких гостей, лишь обе матери (отцы давно умерли), малолетки братья да сестры и двое соседей, подсобные рабочие с улицы. Тыквенные семечки, леденцы, вяленые фрукты да чай – вот и все угощенье. Плюс события, утренние и послеобеденные, о чем она сразу же рассказала Чжун Ичэну. Ей вовсе не казалось это препятствием к их браку, напротив, придавало ему особое значение. Чжун Ичэн побледнел, нахмурился. К своим-то бедам он притерпелся, но удары по Лин Сюэ выносить было трудней. А в уголках стиснутых губ Лин Сюэ таилась не скорбь – улыбка, глаза излучали не гнев – нежность, в каждом движении сквозили не тоска и печаль, а радость и счастье, переполнявшие ее. И Чжун Ичэн улыбнулся в в ответ. Семь лет они рядом, но не вместе – как это было трудно! А теперь соединились навеки, и он благодарил судьбу за искреннее чувство Лин Сюэ, благодарил солнце, луну, землю, каждую звездочку.
К девяти вечера комната опустела. Из приемника звучали бодрые песни. Лин Сюэ выключила его и предложила:
– Давай споем наши любимые, начиная с детских. Знаешь, я никогда не вела дневник, а события запоминала по песням, каждая у меня связана с каким-то временем, стоит запеть ее, как тут же вспоминается все, что тогда было.
– И у меня так, – воскликнул Чжун Ичэн, – точно так же.
– С какого года начнем?
– С сорок шестого.
– Что мы пели тогда?
– «Катюшу», в сорок шестом я как раз и выучил ее.
– Давай, а после – «К солнцу, к свободе, братья».
– А в сорок седьмом что?
– В сорок седьмом я любила вот эту, пела ее, вступая в партию:
Мы леса насадим,
И пути проложим,
И до неба зданья возведем…
– А я тогда напевал ее, бегая по переулкам, и весь мир, казалось мне, был где-то там, внизу, у моих ног…
– А в сорок восьмом пели «Светает, но небо мрачно, трудно идти по дороге, много камней под ногами…».
– А в сорок девятом?
– О, куча песен: «Нет без партии Китая», «Взметнулся флаг, и небо заалело…».
– В пятидесятом – «Колышет ветер пятизвездный флаг», «Со временем наперегонки».
– В пятьдесят первом – «Мужественно, бодро», «Гряда за грядой поднялся Чанбайшань…», помнишь, как все мы тогда рвались в Корею…
Они запели чистыми, звонкими голосами, возмещая все, что было отнято у них, и зазвенели в песнях свет и счастье волнующей весны. Так прошлись они по прошлому, вспоминая его, исполненного чистоты и пафоса, подбадривая друг друга, заглушая боль своих сердец, израненных, но все так же полыхающих жаром и светом.
Увлеченные пением, они не услыхали ни стука, ни скрипа отворяющейся двери. Хватились, когда уже раздались шаги и восклицания «Чжун», «Лин», – словно спустившись с небес, перед ними стояли гости. Трое: секретарь райкома Вэй со своей болезненной женой и его шофер Гао.
Политическая кампания иссушила старину Вэя, под глазами набрякло, резко обозначились морщины у рта. Его жена была из крестьян, потом работала в женских организациях, исхудала, почернела, но ни разу не вышла на трибуну, когда «боролись» с Чжун Ичэном, и память его сохранила ее взгляд, полный сочувствия, утешения, сомнения, недоумения. Всякий глоток воды, поданный ему в те дни, когда подвергали его «критике и борьбе», каждый кивок головы при встрече, чуть заметная улыбка, более мягкое, чем у других, слово, произнесенное с трибуны, – все с бесконечной признательностью запечатлело сердце. Супруги Вэй принесли с собой дружеские чувства и теплые улыбки, лишь шофер, молодой парень, всем видом выказывал нетерпение, переминаясь с ноги на ногу.








