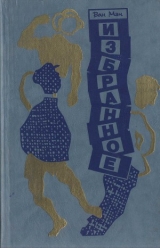
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Ван Мэн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 51 страниц)
2
1949 год, январь
Город был на краю гибели. От древней истории, старинной культуры, былого расцвета остались лишь бледные фантомы. Горы мусора на улицах и переулках, даже на перекрестках, еще оживленных. Целыми днями копошились тут бедняцкие дети, наскоро сварганенными железными крючьями перебирали, перекапывали мусор, разыскивая сокровища: недогоревшие угольки, съедобные листья, бобы или рыбьи головы, облепленные зелеными мухами. Отравившись гнильем, целыми семьями умирали бедняки, и газеты пестрели такими сообщениями: «Тринадцать душ, стар и млад, в одночасье расстались с жизнью». И все же голодные дети охотились за этими «сокровищами». Всюду, как лейтмотив городского бытия, слышалась заунывная мольба нищих: «Подайте, добрые господа, что есть, на пропитание!» Ту же тональность обрели свистки полицейских, перебранки, потасовки на улицах, хрипы продавцов мышьяка, хор диковинных кошек, будто почуявших весну, и вой бесхвостых собак; все эти звуки складывались в какой-то причудливый городской шлягер. Трехлетние детки подпевали: «Ах, женщина – что атомная бомба», двадцатилетние парни голосили: «Два куска лежат на сердце…» Похолодало, и попрошайки в лохмотьях, сверкая голыми телесами, расшибали о камни впалые бока, раздирали в кровь лица, чтобы хоть кто-нибудь посочувствовал им. А мимо них фланировали женщины с ярко накрашенными губами, покидая отдельные кабинеты шикарных ресторанов и появляясь в залитых светом стеклянных дверях под ручку с толстопузым торгашом или чиновником…
Но в этом зловонном гнойнике зарождались здоровые клеточки, новые жизненные силы. То была партия, ее подпольные ячейки, множество подпольщиков, а также окружавшие партию члены демократической лиги молодежи. Во вражеском гнезде, под боком у армейских, полицейских, жандармских трибуналов, наделенных правом казнить «бандитских агентов» на месте, вели революционную деятельность серьезные молодые люди вроде Чжун Ичэна и даже помоложе, обложенные сетью шпиков, познавая тюрьмы, дубинки, пытки на «тигровых скамьях». Они помогали Освободительной армии. Еще дети, они жадно впитывали все уроки, какие давал им великий наставник – жизнь. Голод, нищета, угнетение, унижение, террор – вот что стало первым уроком этого мира, и необходимость ненавидеть и бороться они усвоили, конечно, лучше всего. В детских сердцах, полных ненависти и уповающих на борьбу, партийцы из городских подпольных ячеек возжигали факел революционной правды. Труды просветителей Цзоу Таофэня и Ай Сыци, общественно-политические брошюры, изданные «Новыми знаниями», «Жизнью», «Чтением», прогрессивные книги из Гонконга и Шанхая будили сознание, несли свет, звали к борьбе за свободу и счастье, были созвучны народным чаяниям. А потом юные революционеры стали получать сводки агентства «Новый Китай», записи передач радиостанции Северной Шэньси, основные положения Закона о земле и даже статьи Мао Цзэдуна «О коалиционном правительстве», «О новой демократии» – все это тщательно пряталось под обложки популярного чтива «Путешествие Лао Цаня» или «Позолоченный род». Они взрослели, становились серьезней, и рождалась в них жажда отдать свои силы созиданию нового мира на обломках империи прошлого. Они ясно представляли себе все опасности революционного пути, были готовы жертвовать собой – и жертвовали, когда приходило время, – и вступали в партию еще до восемнадцати лет (а Чжун Ичэну и вовсе было пятнадцать). Чтобы сделать организацию жизнеспособной, в одном учреждении приходилось создавать несколько параллельных ячеек, никак не связанных между собой, такова уж специфика подпольной работы. Партийные организации множились, и во главе ячеек порой ставили кандидатов в члены партии – детей, в сущности наивно и поверхностно представлявших себе и революцию, и партию; и все-таки они были коммунистами – без слабинки, без страха, сознающими свою ответственность.
Завершились бои за освобождение города П., и через три дня Чжун Ичэна пригласили в актовый зал университета на общегородское собрание коммунистов. Подмораживало, а на нем был сшитый матерью ватник, который он носил с тринадцати лет – уже четыре года. Давно уж стал ему тесен, в рукавах короток, в подмышках узок, руки не поднять. Мех на штанах свалялся и облысел. От уличных попрошаек или ребятишек, копавшихся в мусорных кучах, он отличался лишь тем, что из верхнего кармана торчали обломанная самописка да блокнотик. Но из-под коротких густых бровей светились полные гордости глаза, в движениях сквозили деловитость и уверенность: мы победили, и отныне город и весь Китай – наши. Он шагал по улицам, смотрел на старые хибары да развалюхи и думал: все преодолеем. Заметил армейские грузовики, вывозившие мусор. Не успели отгрохотать пушки, как армия вступила в новый бой – за чистоту, и двадцать четыре часа в сутки грузовики вывозили мусор – видно, решили разом покончить со всей грязью, все вычистить. В свое время гоминьдановские власти трижды обсуждали, что делать с мусором в городе П., трижды принимали решения, собирали «пожертвования на чистоту», выделяли «специальные средства на гигиену», и все это проверялось да перепроверялось ревизорами центрального правительства, в итоге чиновники поглотили все отпущенные средства, а мусор поглотил город. И вот не прошло и трех дней после Освобождения, а мусора уже почти нет, мусор потерял свою устрашающую силу; это мы, ликовал Чжун Ичэн, победили его. Несколько тощих, кожа да кости, ребятишек дрожали на ветру. Дайте только срок, подумал Чжун Ичэн, вы станете у нас культурными, зажиточными, здоровыми людьми и всем будете нужны. У ворот университета, где стояли бойцы со знаками отличия Народно-освободительной армии на груди и повязками «Штаб гарнизона города П.» на рукавах, он торопливо достал свой красный пропуск, еще издали помахал им: я, дескать, партийный. Непростой был пропуск – говорящий, он словно салютовал бойцам: «С комприветом!» И те уважительными улыбками отвечали юному подпольщику: «Мы вместе!» – «Вы спасли нас от арестов и казней!» – растроганно улыбнулся им Чжун Ичэн. Что они будут обсуждать на этом партсобрании? Может, думал Чжун Ичэн, подходя к залу, решим послать людей на Тайвань? Мы же подпольщики со стажем и по возрасту подходим для тайной деятельности. И вновь – штыки гоминьдановских солдат, полицейских, жандармов; возобновлю давнее знакомство с Ц. Ц., завяжу контакты с Центральным статистическим управлением гоминьдана… Славно было бы, непременно запишусь первым.
Он вошел в зал – и остолбенел.
Сколько коммунистов, чуть не тысяча, от голов черно все! В двухмиллионном городе – тысяча коммунистов; потом, когда партия возьмет власть в свои руки, такая цифра, может быть, покажется мелочью, но до Освобождения роль партии не сводилась лишь к атаке с оружием в руках, к рытью оборонительных окопов – во мраке вражеского логова каждый коммунист был на вес золота! Потому-то и ограничили контакты, так что Чжун Ичэн никого из партийцев, кроме непосредственного руководителя своей ячейки, не знал (четыре дня назад и его бойцы знакомы друг с другом не были). Ну как тут было не поразиться сегодня, не возликовать, увидев в огромном зале могучую армию товарищей по революции? Так малыш, тихонько плывший себе на резиновой лодочке по крохотной речушке, вскарабкавшись на океанский лайнер, вдруг оказывается в беспредельности свистящих ветров и гороподобных валов. Это ощущение и возникло у Чжун Ичэна в тот миг.
И можно представить себе его состояние, когда в зале в довершение всего зазвучал величественный гимн:
Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов…
Какой-то товарищ в военной форме (конечно, тоже член партии!) размашисто дирижировал, отбивал такт, организуя стройное пение «Интернационала». О подобном могучем хоре Чжун Ичэн раньше только читал – в советских книгах большевики так поднимались на восстание.
Вздувайте горн и куйте смело,
Пока железо горячо…
Какие слова, ритм, какой хор тысячи героев-коммунистов, бывших голодными, клеймеными рабами, чья жизнь недавно и гроша медного не стоила, а нынче кующих, «пока железо горячо», свое будущее. От этих строк кровь у Чжун Ичэна закипала.
Никогда прежде не слышал он такого величественного, такого взволнованного, прочувствованного пения, оно звало в ряды демонстрантов, хотелось разбрасывать листовки, громить тюрьмы, срывать оковы, с оружием в руках выйти на «последний и решительный бой» со старым миром… Обливаясь жаркими слезами, Чжун Ичэн крепко сжимал кулаки. И смотрел на два красных партийных знамени над трибуной и большой портрет вождя партии товарища Мао Цзэдуна между ними. В дымке слез портрет терял четкие очертания, увеличиваясь в размерах, излучая ослепительное сияние.
Актовый зал имел вид довольно обшарпанный. Потолочные перекрытия рухнули, и глазам представали перекладины, балки, стропила, в перекошенных оконных рамах вместо выбитых стекол – доски или кирпичи. У подножия кафедры смастерили две большие печки из старых керосиновых канистр, уголь был низкосортным, а дымоход отсырел, и носы пощипывало от дыма. Но огромные, вознесенные ввысь алые партийные знамена, и славный, благородный, добрый Председатель Мао на портрете, и могучий, дерзкий, вдохновенный «Интернационал» – все это придавало совсем иной смысл происходящему, сообщало ему особое очарование: в лучах партийной славы он обрел величественность.
В президиуме сидели командиры и политработники полевых частей, освободивших город, первый и второй секретари нового горкома, сформированного на базе подпольного, руководители вышедших из подполья союзов – Ученического, Рабочего, Крестьянского, председатель и заместители председателя военно-контрольной комиссии НОА в городе П. – ее образовали еще в ходе боев… Поношенная армейская форма травяного цвета, серые кители ответработников – все стандартное, мешковатое, мятое, стирать да гладить-то было некогда… После дальнего пути да бессонных ночей глаза у всех красные, воспаленные. Старшему из них не было и пятидесяти, все больше тридцати-сорокалетние, а то и моложе (почтенные, пожилые люди, как казалось тогда Чжун Ичэну), народ преимущественно крепкий, закаленный, энергичный, ловкий, ни тучных среди них, ни дряхлых, ни глупцов, ни упрямцев твердолобых. Если не знать, кто это, ничего особенного и не заметишь, ну разве что большая, чем у прочих, сила духа. А были это известные военачальники, о «гибели» которых не раз писали гоминьдановские газеты, с присущей этой прессе бесстыдной лживостью выдавая желаемое за действительное. Но, «расстрелянные» гоминьдановскими газетами, прямо из порохового дыма они вышли на трибуну города П. – победителями, освободителями – и приветствовали бойцов второго эшелона.
Один за другим выступали руководящие товарищи. С хунаньским, сычуаньским, шаньсийским, дунбэйским акцентами. Говорили о настоящем и будущем, о разрухе, оставленной гоминьдановцами в городе П., о трудностях, стоящих перед нами, и путях их преодоления… Четко, ясно, откровенно, деловито, убежденно и убеждающе, с бьющим через край энтузиазмом, соединенным со строгим расчетом, научным анализом; страстность фронтовой агитации вместе с бухгалтерской дотошностью в большом и малом; никакого формализма, еще вчера разъедавшего тут всё и вся, никакого разлагающего нытья, пустой демагогии, лживого тумана и бессильных стенаний. Был это уже не шепоток в укромном углу, не шифровка, не намек, не тайно переданные документы и указания, а громкий голос, открыто заявленная воля партии, продуманная и четкая установка. Как губка, впитывал Чжун Ичэн мудрость и силу партии, преклоняясь перед новым для него содержанием, убеждениями, словами, формой изложения, и, казалось, каждая фраза учила его чему-то новому, возвышала, он рос, взрослел.
Незаметно стемнело, но кто там следил за временем? Зажгли лампы. Как здорово, что коммунисты организовали рабочих в отряд по охране электростанции, не допустив повреждения оборудования, и меньше чем через двое суток после завершения боев сумели дать ток, которого не было уже месяц. Какие яркие лампы, какой светлый город!
Вспыхнул свет, и Чжун Ичэн понял, что голоден. Днем он так спешил, что не успел поесть, прихватил лишь по пути в лавчонке горсть арахиса, а теперь вечер – как тут не проголодаться!
И как бы в ответ на его мысли зампред военно-контрольной комиссии, председательствовавший на собрании, прервав очередного оратора, объявил, что собрание продлится еще часа три, поскольку секретарь горкома должен выступить с большим обобщающим докладом, так что, видимо, пора сделать небольшой перерыв, чтобы «разрешить противоречия в желудке», – два джипа, посланные за продуктами, как раз вернулись.
По залу поплыли блинчики с мясом, оладьи с фруктами, хворост, пампушки из чумизы, нашпигованные солеными красными перчиками, витки с крутыми яйцами. В решетах для провеивания, корзинах, мешках, на подносах. В чем только не привезли продукты из частных лавчонок, чего там только не было, верно, не один придорожный буфет очистили. Чжун Ичэн сидел рядом с проходом, прекрасно все видел, у него слюнки текли, ведь в его жизни, полной лишений, такие деликатесы, как блины в масле, встречались нечасто. Но, забыв о себе, горячо и радостно принялся он помогать армейским товарищам, передавая блинчики и хворост – все такое простое и вкусное – в задние ряды коммунистам освобожденного города, только что вышедшим из подполья. Все улыбались, весело восклицая: «Не зевай», «Давай-ка сюда», «Про меня забыли». Первый в городе П. товарищеский ужин революционеров, партийцев; такой оживленный, проведенный с таким размахом, он запечатлелся в их памяти намного глубже, чем все обильные банкеты в роскошных залах. По-солдатски торопливо, грубовато, по-детски открыто, бесхитростно, по-домашнему дружно, родственно… Да, нам необходим коммунизм, и мы сумеем построить его.
Но, передавая продукты из рук в руки, Чжун Ичэн сверх меры увлекся самим процессом (казалось, источающим ликование), и в результате три корзинки показали ему донышко, четвертая уплыла куда-то в другой конец зала – и все, больше нет, ему самому ничего не досталось. Голодные, а еще больше возбужденные, люди жадно набросились на еду, молниеносно подмели все вчистую, как ветер рассеивает тучки, и принялись вытирать руки и губы, а Чжун Ичэн по-прежнему был голоден. Витали в воздухе ароматы кунжута, лапши, мяса, а его желудок, похоже, подтянулся к горлу, собираясь заглотнуть собственное тело. Чжун Ичэн не находил в себе сил отвести взгляд от куска лепешки в руке старательно жующего товарища.
В этот самый миг, когда радость и душевный подъем омрачились нестерпимыми муками голода, чуть не лишившими его рассудка, чья-то рука сзади протянула ему золотистую, маслянистую лепешку.
– Бери.
– Это ты?
Лин Сюэ, оказывается. И смеется:
– Сижу совсем рядом, сзади, но твой взор устремлен только вдаль. Смекнула, что ты в таком ажиотаже, что, верно, про собственное брюхо забыл…
– А ты как же?
– Я-то… Да уж сыта.
Не похоже на правду, и он мягко отстранил ее руку; в результате они разломили лепешку надвое. Чжун Ичэну было чуть неловко, но радостное волнение охватило его. Глотая кусочек за кусочком, он давился от смеха, и Лин Сюэ тоже улыбалась.
Что-то прохрипел микрофон, и зал начал затихать. Лин Сюэ отправилась на свое место. Чжун Ичэн не поворачивался к ней, увлеченный докладом, но всем своим существом чувствовал, что сзади сидит товарищ по революции, друг.
…За временем никто не следил, расходились уже глубокой ночью, крупными хлопьями падал снег. В дверях какой-то командир обратил внимание на куцый ватничек Чжун Ичэна, торчавшие из рукавов узкие запястья.
– Мерзнешь, юный товарищ? – зычно спросил он, сбрасывая с себя новенький армейский тулуп с меховым воротником и накидывая на плечи Чжун Ичэна.
Увлекаемый к выходу шумной толпой, Чжун Ичэн даже поблагодарить его не успел.
1957–1979 годы
Не раз за эти два с лишним десятилетия вспоминал Чжун Ичэн то партийное собрание, знамена, портрет Председателя Мао, «Интернационал», все тогда было для него впервые, он вспоминал и тот радостный ужин, тулуп, подаренный стариной Вэем, тогда еще вовсе незнакомым человеком, – это позже он пришел к ним в райком секретарем, – вспоминал партийцев, славших друг другу комприветы. Что-то уходило из воспоминаний, уносилось временем, но кое-какие световые пятна обозначались все четче, ярче, сочней. За эти два с лишним десятилетия было в его жизни немало тревожного и ранящего, многие кумиры лишились нимба, было осмеяно и растоптано достойное, мыльными пузырями лопались прекрасные, чистые мечты, его самого подозревали, оскорбляли, унижали, но стоило ему вспомнить то партийное собрание, весь путь партии за десятилетие с сорок седьмого по пятьдесят седьмой год, как исчезала пустота в душе и сердце вновь переполнялось гордостью, неколебимой убежденностью. Нам нужен коммунизм и всемирное братство, оно возможно, и мы уже начали тогда строить новую, наполненную светом, справедливую (пусть еще в чем-то противоречивую, хлопотную) жизнь – мы ее непременно построим. Революция, кровь, энтузиазм, трудности, страдания – ничто не было напрасным. Путь, который он избрал: в тринадцать – подпольщик, в пятнадцать – коммунист, в семнадцать – секретарь ячейки, в восемнадцать – профессиональный партийный работник, – этот путь был верным, путь борьбы за высокие идеалы. За эти идеалы, за право на участие в том первом партийном собрании в городе он сполна заплатил унижением, непониманием, крушением жизни; и даже если суждено ему погибнуть с чудовищным ярлыком, если ремнями и цепями забьют его эти милые семнадцатилетние юные полководцы революции, если падет он от пули своего же товарища, пущенной во имя партии, – все тот же свет пребудет в его сердце, ни в чем не станет он раскаиваться, ни о чем сожалеть, кого-то ненавидеть и уж тем более не презрит мирскую суету. Навсегда останется он частичкой великой, широко шагающей партии и будет гордиться этой причастностью и славить партию. Его веру в партию, в жизнь, в людей не поколеблют ни тот мрак, который временно окутал партию, ни человеческие пороки, на которые он достаточно насмотрелся. Опора ему – то давнее собрание, и, пока оно не ушло из памяти, он силен, он счастлив! Он не персонаж из трагической пьесы!
3
1950 год, февраль
Как только Чжун Ичэну стукнуло восемнадцать, его перевели из кандидатов в члены партии. На партучебе он слушал лекции старины Вэя:
– Только самозабвенно отдавшись революционной борьбе, коммунист станет чистейшим, совершеннейшим партийцем, большевизируется. Партийная организация оружием критики и самокритики поможет ему перестроить сознание, преодолеть индивидуализм, мелочное геройство, либерализм, субъективизм, тщеславие, зависть… все эти пережитки идеологии мелкой буржуазии и эксплуататорских классов. Вот, скажем, индивидуализм. У пролетария его нет, поскольку нет собственности и потерять он может лишь свои цепи, а обрести – весь мир. Чтобы освободить себя, он должен освободить человечество, его личные интересы неотделимы от интересов класса, всего человечества, он бескорыстен и смотрит далеко вперед… Индивидуализм же – мировоззрение мелких собственников, эксплуататоров, следствие имущественного и классового расслоения… По самому существу своему индивидуализм несовместим с идеологией политической партии пролетариата… Закоренелый индивидуалист, не желающий перестраиваться, неизбежно придет к Чан Кайши с Трумэном или к Троцкому с Бухариным…
«Верно! До чего верно!» – едва не восклицал Чжун Ичэн. Как грязен, как постыден индивидуализм, покрытый струпьями, размазывающий сопли; индивидуалист – таракан, муха навозная…
А секретарь Вэй тем временем продолжал:
– Коммунист – боец пролетарского авангарда, освободившийся от мелких частных расчетов и низменных интересов, он решителен и смел и высшее счастье жизни видит в самоотдаче делу партии. Он мудр, ибо сердце его открыто и не осквернено эгоистическими побуждениями. Перед ним широчайшие перспективы, поскольку его способности, его ум закаляются и развиваются в борьбе миллионов. Его высший идеал – построение коммунизма во всем мире. Могуч его дух, ради интересов партии он снесет любые тяготы. Велика его гордость, и указующий перст вельможи ему не закон. Безгранична его скромность, и перед ребенком готов он склонить голову. Не исчерпать его радостей, ибо приносит их малейший успех партийного дела. Не поколебать его воли, ради дела партии без страха взойдет он на гору, утыканную мечами, погрузится в море огня…
Когда закончилась лекция, Чжун Ичэн вышел из зала вместе с Лин Сюэ. Ему не терпелось поделиться с ней.
– Меня уже приняли, я теперь полноправный член партии, и в лекции старины Вэя я вижу особый смысл. Словно он лично ко мне обращается: а хватит ли у тебя сил? Я уже разработал программу на десять лет, чтобы преодолеть индивидуалистическое геройство, полностью расстаться с пережитками непролетарского сознания, большевизироваться и стать, как только что говорил старина Вэй, настоящим бойцом пролетарского авангарда. Поможешь мне, Лин Сюэ? Мне нужны твои советы.
– Что-что, Чжун? – прищурилась Лин Сюэ, будто не расслышав. – Я думаю, чтобы стать настоящим, полноценным коммунистом, потребуется вся жизнь, а десяти лет… хватит ли?
– Конечно, надо будет крепко взяться за учебу, на полную перестройку может уйти вся жизнь, но ведь надо ставить и такие цели, как первичная большевизация, и если десяти лет окажется мало – продолжим.
1957 год, ноябрь
Через семь лет на Чжун Ичэна навесили ярлык антипартийного, антисоциалистического буржуазного правого элемента.
На три с лишним месяца растянулась огромная работа, политический, идеологический, психологический процесс. Кропотливо и терпеливо подбирался к своим, правда заранее предопределенным, выводам товарищ Сун Мин, Чжун Ичэна вынуждали писать самокритику, с каждым разом все более и более мелочную, политизированную, и сводить в ней концы с концами становилось все трудней. Массы критиковали его поначалу беззлобно, но затем, под воздействием лозунгов, весьма резко, а кое-кто, дабы продемонстрировать революционность, взвизгивал и выискивал слова побольней. И наконец, как совокупный итог изысканий Сун Мина, возжаждавшего утопить Чжун Ичэна, – самокритика пострадавшего Чжун Ичэна, его самого приводящая в ужас, да еще более накалявшаяся политическая атмосфера, превратившая критику в удар, в безжалостную, все сметающую атаку… – родился вышеупомянутый ярлык.
Зачисление в правые весьма походило на хирургическую операцию. Ведь у Чжун Ичэна с партией, с товарищами по революции, с молодежью, с народом была единая кровеносная и нервная система, единый костяк, единая плоть. Он был частицей тела партии, а хирурги вроде восходящей критической звезды и товарища Сун Мина, взвесив ситуацию, нашли, что частица эта подверглась канцерогенным изменениям. Тотчас же вооружились скальпелем и искусно, со знанием дела бесповоротно отсекли, отторгли ее, и теперь, пусть даже впоследствии обнаружится ошибочность диагноза, плоть эта – отсеченная, отторгнутая, кровоточащая – в мусорном ведре, она уже никому не нужна, и даже сам Чжун Ичэн не мог подавить отвращения к себе и желания спрятаться подальше от глаз порядочных людей.
Операция эта стала для Чжун Ичэна «полостной», ибо партия, революция, коммунизм были его алым сердцем, и вот теперь, именем партии, сердце извлекли из груди, а он, привыкший любить партию, верить ей, уважать ее, поддерживать, во всем слушаться, сам взял скальпель в руки и принялся расширять подходные пути, советовать, где резать: «Вот тут вскрывайте, тут…»
После операции на Чжун Ичэна взглянула из зеркала бледная физиономия человека, лишившегося сердца, и…
Небо погасло, померкла земля! Я – «элемент»! Враг! Предатель! Преступник! Подонок! Шакал! Оборотень! Брат злобного Хуан Шижэня, сват Мяо Жэньчжи, диверсант, подосланный Трумэном и Даллесом, Чан Кайши и Чэнь Лифу. Нет, мне и в самом деле предназначена зловещая роль, которая и американо-чанкайшистским агентам не под силу. Я – китайский Имре Надь[183]183
Политический и государственный деятель, сыгравший отрицательную роль в контрреволюционных событиях 1956 г. в Венгрии.
[Закрыть], меня следует забить дубинками, расстрелять, чтобы после смерти я превратился в омерзительную падаль, блевотину, туберкулезную бациллу…
В троллейбусе я не смею поднимать глаза на кондуктора и пассажиров, боясь встретить взгляды, полные презрения и ненависти. На почте у меня темнеет в глазах и начинают дрожать руки, когда беру я конверт с маркой, на которой изображена центральная площадь Пекина Тяньаньмэнь, ведь я считаюсь врагом, жаждущим покончить с социализмом и Китайской Народной Республикой, сорвать пятизвездное красное знамя, взорвать лучезарную площадь Тяньаньмэнь! По утрам в столовой я не решаюсь взять даже соевой бурды – я недостоин есть ее, приготовленную из сои, которую вырастили крестьяне, горячо любящие партию и социализм, смололи рабочие, горячо любящие партию и социализм, а работники столовой, не менее горячо любящие партию и социализм, сварили, посахарили, разлили по мискам и подали, такую белую, такую сладкую! Газеты сообщили о выпуске новых денег Народным банком, и я наблюдаю, с каким любопытством, с какой радостью люди спешат потрогать, подержать монетки в один, два, пять фэней, полюбоваться ими, показать их другим, приветствуя расцвет народного хозяйства, развитие социализма, стабилизацию цен, валютное обеспечение, блеск, красоту, долговечность монет. Я тоже раздобыл одну пятифэневую монетку и радуюсь, любуюсь гербом, пятизвездным знаменем, воротами площади Тяньаньмэнь, колосьями пшеницы, годом выпуска, и не хочется расставаться с ней… И вдруг чудится мне, что на монете отпечатался мой звериный лик… Что дало мне право радоваться успехам экономики социалистического Китая? Ведь я же враг республики, моль, пожирающая социализм! Разве мои разногласия с родиной не считаются вражескими, непримиримыми, антагонистическими, смертельными? Сказано же мне, что Китайская Народная Республика погибнет, если не отбросит, не растопчет меня. И место мне отведено лишь среди изменников, агентов, предателей. А те разве приветствуют твердую валюту, выпущенную Китайской Народной Республикой?
О, Председатель Мао, что же происходит?! Что же? Наяву ли все это? Наяву ли?
Чжун Ичэн не спал ночами, почти не ел, не пил, постоянно обливался потом и бегал в уборную. Каждые двадцать минут. Через пять дней сбросил вес со ста двадцати четырех до восьмидесяти девяти цзиней, изменился до неузнаваемости. Встретив его, товарищ Сун Мин ободряюще воскликнул:
– Перерождаешься, перерождаешься, вот оно, настоящее начало твоей жизни!
1967 год, март
Массы выволокли старину Вэя на митинг борьбы. Он в центре, справа Чжун Ичэн, слева Сун Мин, тоже подпавший под критику, Чжун Ичэна бросили на колени, чтобы отделить: они подпадали под разные политические категории преступников.
Вперед вышел «революционный бунтарь».
– Вэй, ты использовал трибуну партийной учебы, чтобы выпускать яд, размахивать черным знаменем «самовоспитания» Лю Шаоци, распространять всяческие теории «послушного орудия», «слияния общественных и личных интересов», «больше выгоды, чем убытка»… Ты, каппутист, вовлек и использовал в своих целях лжекоммуниста, а на самом деле правого элемента Чжун Ичэна и теоретика ревизионизма и контрреволюции Сун Мина…
– Навсегда покончим с Вэем! Долой Сун Мина! Никогда никаких свобод для Чжун Ичэна!
– Размозжим собачью голову Вэя! Сун Мин, не признаешься – задавим!
– Левые бунтари, не позволим правым опрокинуть небо! Если ты, Чжун Ичэн, помышляешь о реабилитации, понюхай-ка железный кулак пролетарской диктатуры!
Тревожно Чжун Ичэну, больно, ведь при конфискации имущества у него отобрали подробные конспекты лекций старины Вэя на партучебе в 1951 году, из-за этой тетрадки революционные бунтари подрались с пролетарскими революционерами, пуская кровь, разбивая головы, один получил тяжелое ранение, семеро отделались ушибами. В результате драгоценная тетрадка фигурирует на этом митинге борьбы как «негативный материал». Тревожно и больно. Чжун Ичэн не находит себе места, а руки бунтарей, что сжимают ему голову, еще жестче сдавливают и все ниже пригибают ее, если он пытается ее приподнять.
В тот же день, вечером, товарищ Сун Мин покончил с собой. Страдая нервным расстройством, он всегда имел под рукой снотворное. На Чжун Ичэна это подействовало болезненно. Он верил, что Сун Мин человек неплохой. Тот ежедневно читал Маркса, Ленина, Председателя Мао, до глубокой ночи просиживал над партийными изданиями и документами ЦК, с жаром анализировал взгляды окружающих, прибегая к силлогизмам и дедукции, он из каждого семечка старался вытянуть арбуз и при этом считал, что помогает людям. В пятьдесят седьмом вцепился в то самое стихотворение Чжун Ичэна, всесторонне, веско, скрупулёзно подверг анализу каждое слово или, точнее, каждую строчку и доказал, что Чжун Ичэн с головы до пят буржуазный правый.
«Вольно или невольно, намеренно или нет, но твои классовые инстинкты обнаружили себя, и твои высказывания, дела, поступки, их объективный, независимо от субъективной воли проявляющийся характер оказались, по сути, антипартийными, антисоциалистическими, – сделал Сун Мин вывод. И привел пример: – Ну, вот ты очень любишь всех спрашивать: „Будет сегодня дождь?“ И в одном твоем стихотворении есть такая строка: „Не знаю, завтра будет пасмурным иль ясным“. И что же это означает? Типичное смятение гибнущих классов…»
От такого анализа Чжун Ичэн онемел, остолбенел, скукожился. Правда, во всем, что не было связано с работой и политикой, Сун Мин продолжал опекать Чжун Ичэна, в столовой подливал уксус к пельменям, в дождливые дни предлагал плащ, а потом, когда все уже «определилось», крепко, от души пожал руку. «У тебя все впереди, душа должна стать другой. И даже задница. В общем, весь должен перестроиться, полностью. Отбрось свое крошечное „я“, устремись в горнило революции!» – с верой и жаром советовал он. Вполне дружелюбно, казалось Чжун Ичэну, ведь другие с ним вообще не общались. А сам-то Сун Мин на поверку оказался слабаком, выбрал путь, который никуда не ведет, ураган культурной революции лишь слегка потрепал его, а он не выдержал, возжаждая покоя – вечного.
1979 год
В комнату, где спал Чжун Ичэн, прокралась серая тень в обличье щеголя в териленовой рубашке с короткими рукавами, клешах со стрелочкой, длинноволосая, с сигареткой, приклеенной в уголке рта, с гавайской электрогитарой под мышкой, с портативным магом с записями «шикарных» гонконгских шлягеров в кармане. Молодой человек, да и только, а самому под пятьдесят, веки припухли, у губ морщины, на зубах, языке, пальцах бурый табачный налет, изо рта разит перегаром, на физиономии – благодушная улыбочка; большие под крупными веками глаза, весь вылизанный, отутюженный, к своему питанию и туалету, конечно, весьма внимательный, связями, разумеется, дорожит, а на лице этакая надменность и в глазах пустота. Мгновение – и вот кажется, что это уже женщина, не по летам истаскавшаяся, до времени поседевшая, и то у нее болит, и это, занудина. И вновь другой облик… А в общем все та же серая тень, частый наш гость конца семидесятых.








