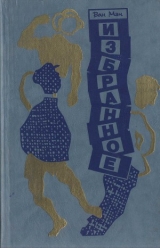
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Ван Мэн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 51 страниц)
В глазах и голосе девочки Ни Учэн заметил что-то странное, неестественное, как у слабоумной. Ее слова заставили его вздрогнуть. Откуда в юном, чистом сердечке такая скорбь? Она сказала, что они ему не нужны. Откуда эти слова, что они означают? Ясно откуда, их вложила в детские уста их мать, Цзинъи! Но ведь это настоящее преступление! Молодое поколение должно расти в здоровой и культурной обстановке, непрестанно соприкасаясь с наукой. Ни Пин нужны игрушки, она должна в них играть. Нет, ей все же лучше научиться играть на фортепьяно, танцевать, плавать, кататься на коньках. Она должна хорошо и обильно питаться, а поскольку она девочка, то ей следует хорошо одеваться, носить украшения. Как она сейчас одета! Прямо оборвыш! Никуда не годится!
– Папа! Почему тебя никогда не бывает дома? Почему мы тебе не нужны? Ты хочешь жениться на чужой плохой тетке? – Губы девочки дрогнули, она расплакалась.
Ни Учэн почувствовал, что весь мир дрожит. Случилось то, чего он больше всего боялся. Тяжкое бремя их поколения, их боль и страдания передались следующему поколению. Ни Пин всего девять лет, а девятилетней девочке надо видеть только цветы и играть в заграничные куклы… А он, почему же он все-таки позвал не ее, а Ни Цзао?
На глаза навернулись слезы. Опустившись на корточки, Ни Учэн взял ее за ручку, погладил девочку по голове. Они разговаривали, глядя в лицо друг другу. Его глаза были влажны от слез, голос звучал мягко, задушевно. Он успокаивал дочь, как мог. Нет, я вовсе не собираюсь никуда уходить, Ни Пин. Разве я могу без вас жить: без тебя и твоего братца? Ты хорошая, очень хорошая девочка, и я никогда тебя не обижу. Я не доставлю тебе разочарований, я не позволю тебе больше плакать, моя милая дочка… Но какой же он отец? Он не в состоянии купить своей дочери не только пианино, но даже цветов или куклу. Своей маленькой, глупенькой дочурке, которая до сих пор говорит на местном наречии, он принес одни лишь слезы, а ведь они никогда не должны появляться на ее детских глазках. Если кому-то суждено умереть, то пусть умру я, если надо разрубить кого-то на мелкие куски, пусть этой жертвой стану я! Пускай убьют меня, но не моих детей. Я этого не допущу, потому что вся вина во мне, а не в детях!
Он обещал дочери непременно вернуться минут через десять, нет, через пять. Надо купить чаю и печенья.
– Сегодня вечером, завтра и послезавтра я буду дома, я никуда не уйду. – Клятва отца звучала с большой искренностью.
Ни Учэн ушел, а девочка, словно потерянная, медленными шагами вернулась в дом. Глаза у матери были красные. Все это время она наблюдала сцену из окна.
– Какое доброе сердечко у нашей девочки! – вздохнула она. – С раннего детства она всегда была такая! – Бабушка и тетя согласно закивали головой.
Три женщины принялись рассматривать захваченные во время обыска «трофеи». Детей устранили, дабы не замарать чистые души, – их отправили делать уроки. Цзинчжэнь вышла за дверь и тут же вернулась с пиалой горячей бобовой похлебки. Она то и дело дула на нее, стараясь остудить.
Деньги подсчитаны и сложены вместе. Лицо Цзинъи сияет от счастья… Негодяй! Как аукнется, так и откликнется!.. Пожалуй, месяц можно прожить без забот, а там, глядишь, появятся арендные деньги, которые привезут Ли Ляньцзя и Чжан Чжиэнь. Можно будет выкупить назад японскую чайницу. Надо же, дали за нее всего несколько цзиней муки и лапши. До чего мало! Дешевка! А это что за бумажка, ничего не разглядеть. А вот еще одна – квитанция за часы, из ломбарда. Прохвост! Квитанция откладывается в сторону. А вот какое-то письмо. Цзинъи смотрит на него с подозрением… Ни Учэн по своим повадкам ни дать ни взять настоящий барин: едва что-то прочтет, тут же выбрасывает прочь. Почему же это письмо оказалось в кармане?
Как только она открыла конверт, из него выпала фотография довольно смазливой, но вульгарной девицы. Каждая клетка Цзинъи наполнилась возмущением. Она развернула письмо. Иероглифы написаны очень коряво. В начале письма – сущая чушь, белиберда.
Цзиньчжэнь отодвинула в сторону пиалу с горячей похлебкой и взяла в руки письмо. Поскольку ее способности в чтении, равно как и в письме, намного превосходили способности сестры, она быстро обнаружила несравненную важность одного места этого послания. Точно так же орлица, обозревая зорким глазом пустыню, находит в ней жертву…
… Господин Ни, кажется, вы просили меня познакомить вас с какой-нибудь девушкой. Вот взгляните на эту, как она вам покажется? Ее зовут Крошка Линлун… Она большая хохотушка. Если вам удастся ее развеселить, она будет смеяться без умолку, пока не упадет в ваши объятия!
Тьфу! Цзинчжэнь в сердцах плюнула, плевок полетел на пол.
В очах всех трех женщин полыхало яркое пламя.
В этот момент во дворик вбежал Ни Учэн. Он задыхался от ярости, глаза метали молнии. Он походил на буйвола, который остервенело мечется в огненном кругу.
– Цзян Цзинъи! – заревел он. – А ну выкатывайся сюда!
Цзинъи сама находилась на грани взрыва. Она давно ждала этой минуты, неудовлетворенная мирной картиной предшествующей сцены. Цзинъи привстала, чтобы броситься в бой, но не успела. Как говорится: «Быстрый гром не успел достигнуть ушей!» Ее опередила Цзинчжэнь. Одним пинком ноги она распахнула дверь и швырнула в лицо Ни Учэна пиалу с горячей бобовой похлебкой, явившейся тем грозным оружием, которое она загодя подготовила, чтобы в нужный момент пустить в ход. Как видно, она принесла похлебку в комнату вовсе не для того, чтобы ее съесть, а чтобы метнуть миску в лицо врагу, дабы свести с ним последние счеты.
Вслед за миской из дома, как пуля, вылетела Цзинъи.
Ни Учэн попытался уклониться в сторону, но пиала ударила его в левое плечо. Бац! Горячая жидкость брызнула в лицо, залила шею и потекла за ворот. Цзинь! Упавшая на землю пиала разбилась, расколовшись на две половинки. Обожженный горячей жидкостью, Ни Учэн взвыл от боли. Он едва разглядел бросившуюся в этот момент на него жену; та головой боднула его в грудь, так что он зашатался, но все же успел дать ей крепкую затрещину. В руках Цзинчжэнь оказался табурет, который она не замедлила метнуть в супостата. Ни Учэн попятился назад. Он хорошо знал, что родственница способна на любое злодейство, даже смертоубийство. В дверях показалась старуха мать, госпожа Чжао.
– Живее зовите полицию! – завопила она. – Пускай арестуют бандита!
Старуха сильно уважала авторитет власти, какой бы эта власть ни была.
Из комнаты доносился громкий плач детей.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Жестокая битва затихла. Ни Учэн исчез из дворика, покинув поле сражения. Цзинъи сидела с распухшими от слез глазами и всхлипывала. Как ненавидела она сейчас свою судьбу, мужа, незнакомую мерзавку, которая собиралась познакомить мужа (это при законной жене!) с «подружкой» – Крошкой Линлун. Мать и сестра, привыкшие к ее частым слезам, лениво убеждали ее не расстраиваться из-за какой-то шлюхи, а потом перестали обращать на нее внимание. Ни Пин, сидевшая рядом с матерью, помогла ей вытереть слезы. Как боялась она слез близких ей людей! Она почему-то считала (но объяснить не могла), что человек, который долго плачет, своим плачем непременно расстроит свой дух и подорвет тело, а потом умрет. Ей казалось, она почти верила в то, что ее мать самый несчастный человек на свете, а она, Ни Пин, живет в самой что ни на есть несчастливой семье.
– Мама, не плачь! Мама, перестань!.. – Она не успела закончить фразу, потому что снова увидела полураскрытый в беззвучном плаче рот матери. Сердце девочки разрывалось от боли. Ее лицо приняло такое же выражение, как и у матери.
Ни Цзао какое-то время сидел рядом с Цзинъи. Сначала ему тоже хотелось плакать, но, видя, что плачет сестра, он решил, что ему плакать как-то уже неудобно. Он смутно чувствовал, что выражение его скорби может оказаться никому не нужным. В глубине его души рождалось какое-то неприятное чувство. Какой жалкой выглядит мама. Что за жизнь она ведет! Почему-то он верил (откуда появилась эта уверенность – неизвестно), что будущая жизнь будет непременно светлой и прекрасной. Именно такая счастливая жизнь ждет тех, кто сейчас еще мал. А как же тогда взрослые? Вряд ли они дождутся светлой и прекрасной жизни. Если это так, значит, все нынешние слезы и потасовки никому не нужны. Значит, напрасно плачут, шумят, осыпают себя проклятьями, пускают в ход кулаки мама с папой, бабушка и тетя! Но как все это страшно! И как их жаль! Взрослые наверняка очень несчастны, что, конечно же, понимают молодые, которые будут по-настоящему счастливы. Как жалко маму! На кого она только похожа – вся заплаканная!
Он не раз пытался утешить мать, но чувствовал себя как-то неловко. Впрочем, он хорошо знал, как можно быстро успокоить мать. С тех пор как себя помнил, он всегда утешал мать. Ему просто надо сказать: «Мама, не плачь! Подожди, пока я вырасту. Я буду за тобой ухаживать и сделаю все, чтобы ты жила хорошо!» Стоит ему произнести эти слова, как лицо мамы тотчас озарится улыбкой.
Он искренне верил в то, о чем говорил. Ведь мама для него делает решительно все. Она готовит для него обед и даже подает миску с едой прямо в руки. Если он скажет, что еда невкусная, она сделает печальное лицо, будто провинилась перед ним. Однажды она испекла лепешки с луком (в то время в семье еще оставались небольшие деньги), но он сказал, что есть их не станет, потому что они подгорели. Тогда мама с двух сторон отломила подгоревшую корочку и дала ему сердцевину, белую-белую и очень мягкую. Он ковырнул и опять сказал, что невкусно. Тогда она взяла себе мякоть, а ему протянула поджаренную хрустящую корочку, на которой остались следы жира. Кажется, ему тогда было лет пять, а может быть, и четыре, но, во всяком случае, не шесть, так как он еще не ходил в школу. Когда он подрос, он вспомнил этот эпизод, и ему стало стыдно за то, что он постоянно (как ему казалось) мучил свою маму – единственного человека, которого нельзя обижать.
Ведь у мамы в жизни не было никаких радостей, она просто не знала, что такое радость. Однажды, примерно полгода назад, папа взял Ни Цзао в ресторан. Он решил, что сын должен непременно попробовать европейскую кухню. Они расположились на диванах с высокими спинками, похожих на сиденья в купе поезда. Спинки дивана отделяли столики друг от друга, поэтому посетители как бы находились каждый в своем купе. Напротив них за столиком сидела женщина, сейчас он уже не помнит, какое у нее было лицо. Единственно, что он запомнил, так это желтоватый пушок над верхней губой, красивые, ярко накрашенные губы и белые зубы. Голос ее звучал тихо и нежно, совсем не так, как у мамы, тети и бабушки. Во время разговора ноздри у нее то сжимались, то раздувались, что показалось ему очень забавным. Кожа на крыльях носа была очень тонкой: почти прозрачной, с голубоватым оттенком. Папа называл женщину «мисс Лю». Разговаривали они с папой очень быстро, обмениваясь короткими фразами: один бросит фразу, другой тотчас ее подхватит. Женщина часто смеялась. Ее смех был чист и звонок, но в нем слышалась натянутость. Наверное, так люди не должны смеяться.
Они ели кушанья, которые ему раньше никогда не доводилось пробовать и названия которых он не знал. Что-то белое, желтое, красное, зеленое, коричневое, клейкое, мягкое, а еще сладковатое и немного соленое. Он помнил еще что-то острое и очень пахучее. Все блюда ему понравились. Они ему показались не просто удивительными, но прямо-таки таинственными. А вот последнее кушанье, похожее на черную микстуру, он пробовать не стал. Оно называлось «кофе».
Потом они прошли по улице Сидань. Идти ему было нелегко, потому что он коротконожка и ему то и дело приходится догонять взрослых. И еще ему было очень холодно. Брр! Впрочем, так часто бывает в апреле. Когда отец взял его с собой, то на улице ему было жарко, и он даже вспотел. Но сейчас стемнело и подул холодный ветер. В ресторане ногам было тепло, а едва он вышел на улицу, ноги тут же озябли.
Папа продолжал разговаривать с той женщиной. Потом папа сказал: взгляни, мы сейчас с тобой вместе и с нами малыш. Мы похожи… Однако Ни Цзао не расслышал, на кого они похожи. Но он хорошо помнит, что мисс Лю с особенным нажимом и вполне отчетливо произнесла: «Чепуха!» Она как-то причудливо растянула слово, и звуки странно изменились, отчего слово прозвучало необычайно красиво. Потом они говорили еще о чем-то, но он уже их не слышал, потому что в его глазах, когда он бежал за ними, то и дело мелькали фонари, которые уже зажглись на улице. Когда появились огни, он сразу же подумал о доме и маме. Хорошо бы поскорее вернуться домой и очутиться рядом с мамой, вместе с сестренкой болтать скороговорку, слушать песенку, которую напевает тетя. Он уже не прислушивался к тому, о чем говорили взрослые, однако ему несколько раз показалось, что он опять услышал красиво растянутое слово: «Чепуха!» На самом деле, до чего же здорово оно у нее звучит!
Когда он вернулся домой, его ноги походили на две льдышки. Мама теплыми ладонями стала их растирать, стараясь согреть. Он рассказал о вечере, мама стала ругаться; но что именно она говорила, он уже не слышал, потому что очень устал. После этого вечера он понял, что папа наверняка часто бывает в ресторанах, где ест вкусную иностранную пищу. И он тоже ее попробовал, вот мама никогда ее не ела. Как обидно!
Ему кажется, что мама в тысячу раз лучше отца. Папа постоянно что-то ему талдычит: слово не так употребил или не так повел себя во время игры с приятелями-однокашниками. Когда он ест, отец делает ему замечания: нельзя чавкать или класть локти на стол. И пошел и поехал! А когда Ни Цзао кто-то хвалит (какой умненький мальчик), отец непременно старается чем-то его унизить. Он еще маленький, поэтому не следует, мол, при нем это говорить. И пошел! Папа редко бывает с ними вместе, а если и бывает, то всегда чем-то раздражен.
А вот мама никогда ему нотаций не читает. Она все делает только ради него, она заботится о нем, балует его, никогда не поправляет, разве что иной раз скажет: «Не забывай, что твоей маме очень и очень нелегко. Когда вырастешь, непременно ухаживай за мамой».
Понятно, что он постоянно чувствует близость мамы, а отца он как-то не вполне понимает. Поэтому он никак не может согласиться с выводом сестренки о взаимоотношениях между родителями, так как эти выводы очень ему напоминают ее рассказы о нищих-побирушках – слишком они сомнительные, хотя полностью отрицать их нельзя. Скажем, он решительно против ее слов о том, что «мы папе не нужны, он хочет привести мачеху». Он подсознательно чувствует, что так говорить об отце нехорошо. Может быть, папа в чем-то и виноват, но человек он совсем неплохой. В представлении Ни Цзао дурной человек должен быть совершенно иным.
Однако сегодня он почувствовал, что происходившие недавно события сильно задели его за живое. Например, когда он, стоя у ворот, увидел отца, он внутренне весь затрепетал. И вдруг понял, что это оттого, что очень ждал возвращения отца. Оказывается, он всегда его ждал, потому что папа был ему нужен. Но в тот день он поджидал отца возле ворот вовсе не для того, чтобы при виде отца броситься к нему, взять у него подарки и получить поцелуй, а потому, что он «стоял на посту», готовый в любой момент убежать в дом с сообщением о его появлении. Он еще не привык к этим словам – «стоять на посту» – и не умел с их помощью строить длинные фразы, скажем такие, какие он строил с помощью других слов, например «поскольку то-то и то-то, постольку…». Он мог бы вполне сказать так: «Поскольку… это его мама и папа… поэтому он не может относиться к своему папе, как было бы нужно…» Эта мысль сильно его расстроила, ему стало не по себе и даже как-то неприятно, будто ему кто-то всадил в тело колючку.
Все последующие события сильно его напугали, и он сейчас таращил глаза от страха. Молниеносная операция, совершенная матерью в тот момент, когда отец отправился в уборную, – операция, свидетелем которой он невольно стал, – усилила его страх. Потом он подумал, что мамина вылазка куда более странная, чем выходка тети с бобовой похлебкой. Удар миски с похлебкой напомнил ему (вот смехота!) шлепок бумажной галочки, которую они запускали в классе. «Попала!» – визжали ребята, когда галочка достигала нужного места.
Непонятное ощущение, которое он испытал сегодня, оказалось столь сильным, что он так и не смог вечером успокоить маму словами о своем послушании и о будущей хорошей жизни, как он делал всякий раз по привычке или от чистого сердца, когда видел, что мама плачет, а вместе с ней плачет и его сестренка Ни Пин. Сегодня он ограничился коротким «не плачьте!». Сам себе он говорил: «Какие страшные эти взрослые, какая страшная у них жизнь! Почему она у них такая? В школе и в книгах говорится совсем на так. И учитель говорит совсем иное…»
Возможно, мать почувствовала в словах сына нотки недовольства, она вдруг замолчала и стала жаловаться на жизнь, на горести, которые выпали на ее долю за эти двадцать с лишним лет. Она вспомнила, что ей довелось испытать, когда она попала в семью Ни. Потом разговор перешел на отца: такой, мол, сякой. Никого-то он не любит. Всех выводит из себя. На маму и всех в доме он наплевал, а сам только и знает, что распутничает. Она рассказала, как рожала Ни Пин, а потом через год родила Ни Цзао. Через неделю после его рождения она разругалась с Ни Учэном и ушла от него, взяв мальчика с собой. Сколько она испытала на своем веку! Когда Ни Пин была еще крошкой, у нее началось воспаление среднего уха. Ой, как она плакала! Несколько дней и ночей напролет мама ходила с ней на руках по комнате, пытаясь убаюкать девочку. Несколько ночей подряд! А когда родился Ни Цзао и у него от частого плача вздулся живот и появилась мошоночная грыжа, он тогда очень перепугал маму! Она побежала за врачом, потом в аптеку за лекарствами. Она сама была готова умереть, лишь бы сохранить жизнь ребенку. А когда ему было пять лет, у него вдруг началась дизентерия, наверное оттого, что поел лянфэнь – лапшу из бобового крахмала. В этом месте в разговор вмешалась Цзинчжэнь. В ее голосе слышалось недовольство, потому что ту бобовую вермишель – одно из ее любимых блюд – принесла племяннику она сама. Утверждение, что болезнь вызвана вермишелью – сущая ерунда, так как в тот же день она сама съела целую гору и никакого поноса у нее не случилось, как раз наоборот, после еды она страдала запором. Словом, все это – сплошная провокация, попытка переложить ответственность за болезнь ребенка на тетку… Мама все делала ради него… ради него. Что в мире может сравниться с материнским чувством?
– И мне было нелегко, пока вы не встали на ноги, – вмешалась бабушка. – Поэтому я всегда повторяю: «Первое из десяти тысяч зол – распутство; первое из сотни добрых качеств – почтительность к родителям».
Ни Цзао был очень растроган этими речами, но он все – же очень устал и поэтому уснул раньше обычного. Сквозь сон он слышал, что мама продолжает что-то твердить. Неужели боится, что я перестану ее слушаться, когда вырасту большим? Я ни за что так не поступлю! Только дурные, очень плохие люди не слушаются матерей. Ведь его мама не только растит его, она еще умеет за него сражаться и кричать… Нескончаемые обиды, которые сейчас выплескивает мать, продолжают молоточком колотить по его голове. Увы, жалостливые слова лишь ослабляют силу материнской любви… Я устал. Я хочу спать. Почему мне не дают спать? Ох! Ну зачем… зачем это все?.. И все же, как любят его мама, тетя, бабушка, папа и сестренка. Какие они хорошие, только жизнь у них почему-то неважная. Как все скучно и противно! Наверное, все на свете надо переменить!..
В сознании восьмилетнего мальчика определилась, хотя и не совсем отчетливая, мысль, что на этом свете надо все изменить. Наступила пора, когда без перемен дальше стало жить нельзя.
Теперь остановимся и немного подождем! Вспомним события сороковых годов, наверное не столь уж и далеких от нас, но все же успевших превратиться в нечто давнее, устаревшее. Повествуя о человеческих горестях и глупостях, словом, рассказывая о той тягостной эпохе, на которой лежала печать рока и которую трудно описать обыкновенными словами, я решил снова прийти сюда и навестить тебя…
Тебя, мое маленькое горное ущелье, безмятежное и таинственное, пронизанное солнечными лучами и в то же время сохраняющее тень. На бурой, почти черной коре гледичии виднеются два продольных рубца, оставшиеся от удара ножом. Говорят, что стручки на дереве начинают появляться лишь после того, как на его стволе сделают надрез ножом или секачом. В древности, когда люди не знали мыла, они использовали черные стручки гледичии для стирки одежды.
А вот и ты, моя яблонька-хайтан, похожая на кустарник, с густо растущими ветками. Сейчас мне, вероятно, уже не представить дивную картину твоего буйного цветения, не увидеть, как ты трепещешь под ливнем и как выглядишь после дождя. Но я никогда не забуду строки Вэнь Тинъюня[93]93
Вэнь Тинъюнь (812–866) – известный танский поэт и музыкант.
[Закрыть], который писал: «Цветы хайтана уже облетели, а дождь все строчит и строчит!» Какая простота в этих словах: «Цветы облетели…» Разве ты, яблонька, не ждала моего возвращения? Ты была первая, кто разбудил во мне давно уснувшие воспоминания…
А вы, сплетенные друг с другом ветвями деревья абрикоса, и вы, кусты боярышника, ты, шелковица, дикий орех, стройные деревца хурмы. Серебряные стволы деревьев и безлистые ветви… Все молчит, не слышно даже ветерка. Только-только стала выглядывать из земли зеленая травка, и слабое колыхание робких травинок таит в себе предчувствие весны… «Весенние горы, дуновение теплого ветра. Но травы все знают заранее…»
Откуда в этом крохотном ущелье появились дома, похожие на дворцы? Один, второй… они расположились на склонах горы, как будто им и полагается здесь находиться. Высокие строения-башни с открытыми галереями, колоннами, покрытыми красным лаком, а вокруг мощная стена, сложенная из каменных глыб, с поверхностью, похожей на пятнистую шкуру тигра. Возможно, что эти самые камни я таскал на своей спине… Ярко сияют застекленные окна. А там дальше – подсобные помещения: столовая, кухня с котлом, уборная, свинарник, амбар для кормов, домик, сколоченный из бамбуковых планок.
Все осталось так, как было двадцать восемь лет тому назад, – никаких разрушений, никаких изменений, разве бамбуковый домик стал кое-где подгнивать… «Гость пришел сюда специально, неужели изменений он не увидит? Нет, ничего не забыто – все помнит старый знакомый». Валяются лопаты, мотыги, заступы, сваленные в кучу возле уборной, которой так и не суждено было «распахнуть свои двери». Часть орудий сломано совсем или наполовину, но попадаются и совершенно целехонькие. В бамбуковом домике лежат корыта, из которых кормили лошадей. На кормушках еще сохранились номера и некоторые сведения о животных. А вот каменные столы и сиденья, которые сложили себе те, кто проходил здесь трудовое воспитание. Можно сесть на такую тумбу возле одного из каменных столов и сыграть партию в шахматы или в карты. Ах, если бы была им знакома тогда праздность!
Я спросил мальчугана
У подножья горы,
Где учитель его.
Тот ответил: учитель
Целебные травы в горах собирает.
Эти горы высоки, ущелья так глубоки.
И не знаю, где он сейчас.
Этот стих любил юноша, проходивший в этих местах перевоспитание. Но он покончил с собой, потому что после очередной «кампании» потерял любимую девушку. Интересно, что в период подпольной борьбы этот юноша был моим начальником. Через некоторое время мы оба очутились в этих местах. Во время праздника Весны он поехал в город, а потом снова вернулся в горы. Никто не заметил в нем ничего особенного. Прошло больше месяца, и он снова отправился в город – «на побывку» – и там повесился в библиотеке своего учреждения – шестиэтажного здания, где он когда-то работал. После этого случая в учреждении усилили наружную охрану, чтобы никто из «правых» не смог проникнуть внутрь. Но скоро доступ в здание ограничили и для «левых».
В конце 50-х годов, в период одной из широких политических кампаний, этот глухой уголок, забытый по причине своей отдаленности не только правлением коммуны, но и бригады и даже всеми окрестными крестьянами, облюбовали влиятельные фигуры из города. Так в истории этого захолустья начался весьма оживленный период, наверное самый оживленный со времени мифического Паньгу[94]94
Мифический герой, вышедший из Хаоса и сотворивший Небо и Землю.
[Закрыть]. В крохотное ущелье неожиданно провели электричество. На дороге появились легковые машины – они шли вереницей одна за другой. Каждую ночь рождались глобальные стратегические решения, воплощенные в планиметрические карты, схемы, диаграммы, чертежи рельефа, в планы капитального строительства. Мощные грузовики привозили муку, овощи, инструменты, палатки, саженцы деревьев, химикаты, доставляли лошадей, ослов, мулов и… людей, совершивших разные проступки. Закипела жизнь, ранее никогда здесь не виданная; крохотное ущелье превратилось в трудовую базу крупных руководящих учреждений города. Здесь сажали лес, занимались подсобным промыслом и перевоспитанием людей. Окрестные крестьяне, тараща на все это глаза, дивились тому, с каким пылом трудились люди, старавшиеся искупить свою вину, с какой радостью славили они «новую обстановку и новые формы жизни».
Повсюду кипела, разворачивалась работа. Люди трудились на полях, на лесопосадках, занимались огородничеством, разбивали парки, кормили скот, обжигали черепицу, вели капитальное строительство. Земля вновь и вновь орошалась потом людей. А вечером в недостроенной уборной, которая, кстати сказать, так и не была никогда достроена, проводились покаянные собрания с самокритикой. Все скрупулезно докапывались, вернее, «разрывали» и выкапывали корни своих «преступлений». Люди, занимавшиеся плетением корзин в столовой, пели хором революционные песни: «Социализм хорош, социализм хорош! И „правым“ его никогда не сломить!» Во время пения люди обменивались многозначительными взглядами, как будто в пронзавших сердце словах песни, исполненной духом яростной критики и разоблачения, они находили сладостное удовлетворение. Затем все приступали к «оказанию взаимопомощи», то есть помогали друг другу вырывать с корнем ростки антипартийных и антисоциалистических поступков, мыслей и побуждений. Мощный рев взаимопоношений порой подавлял голоса критиков из левого лагеря. Потом был новогодний фестиваль, во время которого все в исступленном реве заученно повторяли слова песен: «Во имя шестидесяти одного классового брата…», «Вместе разделим горе и радость, сольемся в едином дыхании! Сплотимся в едином порыве!». Так же исступленно пели сочиненные ими самими песни о радости перевоспитания и счастии труда, о том, что «потом своим они смоют грязь со своих душ». Здесь были и песни Великого похода, способные вызвать у слушавшего дрожь. Потом все начинали танцевать, и в танцах проявлялось всеобщее возбуждение. Огромное здание наполнялось звуками музыки, грохотом барабанов и литавр, шуршаньем ног. …Это была весна обновления – огромная, красная, как огонь!
Пришел шестидесятый год, и начался голод. Огненно-красный цвет сменился на пепельно-серый, а все пепельно-серое стало вдруг пухнуть от голода. Исчезли легковые автомобили, прекратились ночные бдения и заседания, перестали множиться схемы и диаграммы. Люди бросали средства производства и предметы быта, завезенные сюда с таким трудом, потому что никто толком не знал, что здесь может произойти в будущем. Началось всеобщее отступление. Уехала сначала первая группа, за ней вскоре ушли все остальные. Потом здешнее хозяйство отдали организации, связанной с газетным делом. По слухам, она устроила там склад бумаги и типографию на случай войны и создала базу трудовой закалки для кадровых работников с целью поддержания их революционного духа. Но затем, в соответствии с очередной политической установкой, землю, на которой уже было посажено множество редкостных плодовых деревьев и растений, вернули коммуне, и все деревья, уже успевшие прижиться на местной почве, так как на их посадку были затрачены чудовищные силы и люди работали как сумасшедшие, работали исступленно, не жалея сил, – все эти плодовые деревья разных сортов («красный банан», «золотой полководец», «красная яшма», «свет отечества»), украшавшие окрестные холмы, одно за другим, роща за рощей, все до единого засохли. На месте бывших парников, где выращивались шампиньоны, крестьяне вырыли ямы для разработки угля, и те из крестьян, кто занимался угольным делом, построили себе жалкие глиняные лачуги возле покинутых хором. Но дорога была в конце концов восстановлена вновь, появилось электричество, и все же вскоре на маленьком руднике что-то случилось с водой, поэтому жить большому числу людей здесь стало уже невозможно. А там началась «великая культурная революция». В те годы здесь нашли свою смерть, покончив с собой, несколько видных руководителей, которые в ту пору вели активную деятельность в этих местах, а потом оказались в опале.
Время шло. Солнце с луной по-прежнему менялись местами, стужа чередовалась с жарой, расцветали, а потом засыхали травы и деревья. Одни люди уступали место другим, все менялось. Наступил 1985 год. Двадцать первое число марта месяца. В этот день автор, спасаясь от городской суеты, охваченный радостными чувствами, решил вновь побывать в здешних горах. Он пришел в это ущелье, когда-то наполненное шумом, а теперь вымершее, поскольку рабочие маленькой шахты не смогли поддерживать жизнь в этих местах. Автор пришел сюда потому, что все последнее время он, подобно безумцу или маньяку или опьяненному крепким вином, писал, писал кровоточащим сердцем, писал сумбурную историю Ни Учэна, постоянно вспоминая и оплакивая при этом свою собственную жизнь. Ныне он находился как раз на половине пути.
…Он все-таки сбился с дороги. По подсказке окрестных мальчишек он пошел совсем не в ту сторону и забрался на самую вершину холма, где находилась штольня, в которой добывали сланец для школьных досок и карандашных грифелей. Только сейчас он понял, что заблудился, и повернул назад, чтобы найти два больших камня, обозначавших вход в ущелье. Наконец он увидел странный каменный монумент, который искал.
Горы, деревья, камни – неужели они все такие же, как были прежде? Кажется, все осталось без изменений, кроме угольной шахты да нового шоссе, которое выпрямило прежнюю дорогу. Пустые здания, освещенные солнцем, излучали теплый свет. Сложенные из каменных глыб и различных деталей древних построек, из кирпичей старой городской стены, украшенные каменными колоннами, помпезные сооружения в заброшенном ущелье производили нелепое впечатление. И все же эти пустующие строения притягивали взор. Да, старые кадровые работники, не лишенные литературного дара и воображения, знали толк в строительстве. Прошло двадцать восемь лет, а эти сооружения стоят как новые. Вот только черепица на крыше подернута сизой пылью времен. Последний штрих, завершивший строительство.








