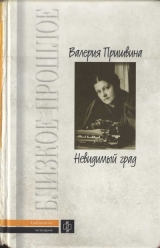
Текст книги "Невидимый град"
Автор книги: Валерия Пришвина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 38 страниц)
Знаю, это важно только мне одной, и все-таки запишу: этот дом был тем самым особняком, в котором ныне расположен музей Л. Толстого. Почему мне это важно вспомнить? Вероятно потому, что достоверность существования и посейчас того дома, зримого, осязаемого, сообщает достоверность и тому моему сопутствовавшему переживанию, которое живет лишь в памяти сердца. И если бы мое сердце остарело, и я забыла бы это пережитое, то вид старинного дома на Пречистенке с несомненностью то мгновенье бы воскресил.
Это новое убеждение как знание, недоказуемое и, тем не менее, неопровержимое, было, по-видимому, той силой, которая «спасла» Наталию Аркадьевну от отчаяния и вернула к жизни. И, кажется, то же чувство клубилось в душе Ляли тогда, у гроба бабушки Наталии Алексеевны.
Первое, что легло резкой чертой между смутным старым и трудным, но ясным новым, был короткий разговор с Высотским. Надо сказать, что после гибели Дмитрия Михайловича Высотский не показывался в их доме и даже не звонил по телефону. И вдруг однажды он как ни в чем не бывало пришел. Ляля открыла ему дверь и тихо, чтобы не слышала мать, сказала: «Не приходите к нам никогда. До самой смерти». И закрыла дверь. Высотский больше не пришел. Потом началась самая трудная в их жизни голодная и холодная зима 1918/19 года. Дома в Москве не топились. В комнатах замерзали вода и чернила. Сидели и спали в шубах, шапках, валенках. Картофельные очистки заменяли хлеб. Александр Николаевич работал врачом и изредка приносил Наталии Аркадьевне то молока, то крупы. Уходя на службу, Ляля и Александр Николаевич оставляли двери в квартиру открытыми, чтоб соседи могли навестить Наталию Аркадьевну, не встававшую с постели. Она таяла на глазах, отказывалась от еды и все время кашляла. Перестилая ее постель, Ляля находила под матрацем куски оставленной ей на день и испортившейся пищи. Ляля сердилась на мать и плакала.
В ту же зиму Ляля поступила на филологический факультет. От попытки бороться за лучшее место в жизни сохранилась только зачетная книжка без единой пометки о сданном экзамене: учиться, работать, голодать и выхаживать умирающую мать было непосильно. Тогда она бросила Моссовет и поступила делопроизводителем сразу на две службы: обе они были рядом с ее домом и, что было главным, давали усиленный военный паек. Это были редакция журнала «Военное дело» и «Пенитенциарные курсы» (ирония судьбы!), возглавлявшиеся Крыленко {48} и готовившие… тюремных надзирателей.
Этой же зимой Ляля нашла в брошенной квартире бежавших соседей книги по философии, которые ей стали еще дороже хлеба (а хлеб был в те дни мерилом вещей). Прежде всего она прочла «Введение в философию» Челпанова {49} . Эта простая, почти школьная книга открыла ей мир строгой мысли, подчиненной своим, независимым от природы формам и законам, столь непохожий на то, чем два года питал ее Высотский. Но кто из молодых людей не стоял в восхищении перед впервые открывшейся им перспективой чистого философского умозрения? Видеть действительность по-разному: по Платону, по Декарту, по Канту, по Гегелю, и у каждого одинаково убедительно, как убедителен в своей художественной выразительности один и тот же пейзаж и у наивного реалиста, и у изысканного импрессиониста.
Успокоив мать и услышав ее ровное дыханье, Ляля забиралась с ногами на свой диван, закрывалась всем теплым, что было в доме, и распухшими руками в перчатках листала страницы книги иногда всю ночь напролет. Собеседников она не искала. Старые друзья Шрамченко и Тагор куда-то уехали из агонизирующей Москвы.
К весне у матери развился туберкулез легких, она погибала. Александр Николаевич и Ляля устроили ее в санаторий под бывшим Сергиевым, и теперь каждую субботу Ляля ехала после работы до Сергиева и оттуда шла несколько верст пешком. Широким полукругом уходили к горизонту холмистые сергиевские дали, ноги легко шагали, летом голод переносился легче, и у молодости был запас скрытых сил. По дороге складывались у девушки строки стихов, ценны они сейчас, конечно, не как стихи – какие это стихи! – а как неподдельный документ жизни.
Всю жизнь мою, в каждом ее биенье,
Всю в руки тебе!
Из дней мимолетных ее выкуй крепкие звенья
Цепи, врученной судьбе.
Радостен будет путь через долину смиренья
Всю в слезах и крови, —
Цепь, что ты сковал, будет не цепь терпенья,
А цепь любви.
Радостен будет путь здесь в стремнине холодной
На цепи, и слепой судьбы.
Когда передастся по звеньям – другой конец, свободный
Бережно держишь ты.
Это была молитва к отцу. К Богу она теперь не обращалась.
Она шла на свиданье к матери, и сердце заливала горячая волна жалости, когда она представляла себе Наталию Аркадьевну у ворот санатория, издали машущую платком. Ляля полюбила теперь мать как своего ребенка. Наталия Аркадьевна отвечала тем же и вверялась своей дочке преданно и самозабвенно. В те дни Наталия Аркадьевна записала на листке то, что с нею произошло:
«Чтобы память сохранила все без изменения до последнего момента моего земного существования, записываю. Приняла это событие как великую милость ко мне Бога. Когда мне бывает особенно тяжело, то я нахожу большое облегчение, мысленно возвращаясь к этому событию.
После постигшего нас горя я заболела экссудативным плевритом на туберкулезной почве. Обстановка для тяжело больного была кошмарная, 18-й год был годом экономической разрухи, вызванной гражданской войной. Дома не отапливались, трубы полопались, я лежала в комнате, в которой замерзали чернила, с высокой температурой, в согревающем компрессе, боясь пошевельнуться, чтобы не охладиться, лежала одна в пустой квартире, так как Ляля и доктор-сосед с утра уходили на службу, оставляя около меня еду – все, что можно было достать, урезая самих себя. Входную дверь оставляли незапертой до своего возвращения в надежде на то, что кто-либо из живущих в этом доме зайдет ко мне.
Через полтора месяца, держась за стенки, я пыталась ходить. Ляле шел восемнадцатый год. С большим трудом и любовью ей удалось устроить меня в подмосковный санаторий (туберкулезный). Пробыла я там несколько месяцев, не входя ни с кем в общение. Мое горе – утрата любимого единственного в мире человека – не ослабевало. Мысли о нем, жалость, обида за него и Лялю, лишенную любимого отца-друга, не могли улечься во мне, терзая дни и ночи. Я жила как бы вне жизни, если можно было назвать мое состояние жизнью. Я все ждала его, и других мыслей у меня не было. За каждым поворотом дорожки я ждала его, а вдруг он покажется!
Уйду в конец парка, молюсь, зову его, прислушиваюсь, вот отзовется, – но все молчит, и я одна, одна, он не слышит, молчит… Но ведь где-то он есть… Плачу, бьюсь головой, жалуюсь Ляле мысленно, уношусь к ней, страдая за ее одиночество: она так любила его! Истерзанная, больная иду в дом, избегая людей.
Вся моя забота, жалость, любовь перешли к Ляле. Я сознавала, что должна жить и бороться за своего ребенка, для нее: все в ней, весь смысл жизни моей, видя в ней его. Я была одна и справиться с собой не имела силы. Поделиться своим горем и мыслями было не с кем: горе меня разрывало.
На моем ночном столике стоял его портрет под марлей, я прикрывала марлей, чтобы не видеть лица, не в силах была смотреть на него, но чувствовала его около себя. Так проходили дни за днями, я заметно окрепла и стала справляться с болезнью.
Теперь подхожу к случаю чудесному и принятому мной как милость Божья мне, грешной и недостойной. Со страхом великим пишу эти строки, но знамение милости ободряет меня.
В один чудный июльский день, как обычно, я ждала мою девочку, это были мои праздники. Я накапливала продовольствия для нее, которое состояло из санаторных капустных котлет. Поминутно выбегала на дорогу, высматривая ее. Она не пришла по какой-то причине. Грустно дотянув до вечера, помолившись за них, легла спать. Рано утром я проснулась, солнышко уже золотило верхушки деревьев в саду за окном. В окно вливалась свежая влага утра, в природе все было неподвижно и беззвучно. В комнате со мной все еще крепко спали, я лежала, и знакомый разъедающий яд одиночества, обида на Бога-отца, допустившего такую несправедливость, – все эти мысли рвали на части душу. Я надвинула капот и, вопреки порядкам санатория, вышла тихонько в парк. Все еще спали, двери на ночь не запирались, с вечера выметенная площадка серела гравием, на него опрокинутые стояли кресла. Вокруг площадки шли клумбы с душистыми цветами и газоны с травой. На всем еще лежала печать сонной ночи, отдыха. Ни одного живого звука. Собака спала в своей будке, природа хранила тайну ночи, царственный покой, и это величие проникало в мою душу, я чувствовала себя как бы на молитве в храме.
Вся лужайка, клумбы, деревья были покрыты обильной росой. Я перевернула одно из кресел, поставила на границе лужайки и села в него. Я была вся во власти своей тоски и разлада с Богом, плакала, молилась о нем, звала. Все молчало, и звуки возвращались в меня обратно, ложась камнем на душу. И вдруг, опустив глаза на траву, я неожиданно увидала на лужайке у своих ног в зеленой серединке сборчатого листа громадную каплю росы, которая весело играла на солнце и переливалась, как бриллиант, всеми огнями. Росой были покрыты все цветы и трава, но эта капля приковала к себе все мое существо. Я впилась в нее глазами, боясь дышать. Сердце сразу забилось, я задрожала и замерла. Всем своим существом слилась я с этой дрожащей каплей, окружающее перестало существовать.
И вдруг я почувствовала, что во мне что-то происходит: в сердце стал вливаться сладостный мир вместо злобного ропота, и кто-то мне сказал: „Это Митя!“
Какой восторг, какая радость всколыхнула все мое существо! Нет таких слов, которыми можно передать чувство того мгновения. Слезы полились из моих глаз дождем, но это были слезы благодатные, до того радостные, что нет радости, которая бы сравнилась с ними. Как будто из моего сердца кто-то вынул страшную боль. Я плакала и смеялась, боясь отвести глаза от листка с капелькой, смотрела на „Митю“, и он смеялся, блистая капелькой, его душа дрожала и радовалась, переливаясь лучами, – это Митя смотрел, он был со мной, любимый, тут, утешал, ласкал свою бедную Наташу.
– Родной мой, счастье мое! – шептала я. – Приласкай меня и нашу девочку!
Я вся дрожала, опустилась на колени над листком, боясь, что капелька-душа исчезнет как-либо, с большой осторожностью наклонилась над землей, перекрестилась и выпила ее, как причастие. Листик же положила себе на грудь, потом и его проглотила.
Я была счастлива первый раз после всех страданий, но счастье это было совсем особенное, не наша радость земная, – это было счастье какой-то близости тишины, которая во мне, со мной, и никто у меня ее не может отнять. Я чувствовала себя царицей, что-то большое принявшей и несущей в себе великую тайну.
Оглянулась вокруг себя и не узнала: все то же и не то, все изменилось какой-то радостью. Краски нежно ласковые, солнышко будто целует все, что обливает своими лучами. Стали просыпаться и птички, защебетали вокруг, точно молясь и сливаясь с моим счастьем. Зашевелились утренним ветерком деревья и кусты, где-то послышались голоса людей. Я стояла будто зачарованная, боясь расплескать в себе эту радость торжественного очарования. Няни показались в окне дома, по дорожке прошел зеленщик с корзиной овощей для кухни, очнулась и я, радостно отправилась в свою комнату. Взяла со стола его покрытый занавеской портрет (до сегодняшнего дня не могла на него смотреть), прижала его к себе, поцеловала, легла с ним счастливая и уснула.
Долго и ярко чувствовала я все пережитое, с каждым днем стали прибывать силы для служения моей дорогой девочке, которая – весь смысл моей жизни, как его продолжение. Ей принадлежит каждая моя мысль и каждая капля крови, которую я с восторгом отдаю ей. Все это святая правда. Благодарю Тебя, Боже!»
Долгая жизнь удерживается в памяти лишь отдельными впечатлениями-пятнами. Такое «пятно» – разговор с больным моряком Сергеем Николаевичем Мелентьевым в один из приездов в санаторий. Они сидят в густой траве на краю поля. Сергей Николаевич часто кашляет и завистливо поглядывает на розовую девочку, полную сил. Знает он или не знает, что должен скоро умереть? Тяжело больные не допускают обычно эту мысль до сознания.
– Мы гадаем с вами, – говорил он, – к чему стремиться, в чем счастье? Будем откровенны, мы оба хотим одного – любви. Я моряк, я жил свободно, был в дальних плаваньях. Мы, моряки – не институтки, я знал много женщин. И понимайте мое «знал» в узком и определенном смысле. Но что дало мне величайшее наслаждение в жизни? Отказ себе в любом чувственном, шире сказать – эгоистическом желании. И, если найдешь в себе силы так поступить, сразу поднимаешься на новую неизведанную ступень и испытываешь наслаждение роста и свободы.
– Я знаю, – ответила Ляля, – у аскетов это называется борьбой со страстями.
– Ну, я не сведущ в религиозных ученьях, – и засмеялся и закашлялся Мелентьев. – Сами понимаете, какой я монах! Без страсти нет ни жизни, ни творчества. Страсть – это источник силы. Страсти надо не подавлять, а преобразовывать, чтоб сохранить их огонь и чтоб уничтожена была их «самость», эгоизм {50} . Это – главное, что я узнал. Успею ли я это в жизни осуществить? Вернее всего – не успею. Но я говорю вам на память и оставляю в наследство. Я не люблю вас и не успею полюбить: я слишком болен и отвлечен болезнью. Но я дышу и наслаждаюсь сейчас нашей совместностью. Вы не забудьте нашего разговора: вам еще долго жить.
Через месяц Мелентьев скончался от внезапного легочного кровотечения. Могилу его мы осыпали последними полевыми цветами.
В 1919 году стояла долгая жаркая огненная осень. Леса сохраняли разноцветную окраску, и листья не хотели облетать. Казалось, они вместе с людьми страшились новой грозной зимы. Ляля шла со станции, и пятна багряной листвы напоминали все об одном, и в голове всплывали стихи:
Как эти зори странно алы.
Как жутко листопад багрян.
Ты душу ныне потеряла
Иль кровью изошла от ран?
А медный осени орган
Поет о стрельчатых порталах,
О непостижных, небывалых
Снах золотых нездешних стран.
Но знойный воздух душен, прян.
Земные ризы темно-алы,
Кровавый стелется туман,
И черны наших душ провалы.
И грудь земли моей родной
Вся в отблесках листвы багряной
Мне чудится одной, сплошной,
Свежо сочащеюся раной {51} .
Этой осенью произошла еще одна встреча, которую я не предам забвенью – так характерно было в ней все для того времени.
На симфоническом концерте – он шел на открытой сцене в Аквариуме – рядом с Лялей сидел странный человек: обмотки и старые опорки на ногах, на плечах кисло пахнущая солдатская шинель, тонкие пальцы из-под рукава рваной шинели непроизвольно движутся в такт музыке. Голубые глаза, по-детски изумленные – человек этот весь ушел в слух.
В антракте Ляля заметила на себе его внимательный взгляд. Этот взгляд беззастенчиво рассматривал ее всю с головы до ног в стоптанных брезентовых туфлях. Наконец глаза поднялись, встретились с ее, возмущенными, и человек этот сказал, добродушно и чисто улыбаясь: «Вы созданы для моей Античной студии!» И тут же все о себе рассказал. Он оказался врачом, недавно вернувшимся с фронта Гражданской войны. Но лечебной практикой не интересуется. Он занят своей теорией создания гармонического человека. Выходит на днях книга, где изложена его система. Сейчас он добивается принятия его проекта «Античной студии», чтобы осуществить на практике свою идею и воспитать артистов-учителей, которые понесут его открытие в народ.
– Вы созданы для моей студии, – повторяет он и записывает четким, изящным, неожиданным у грязного оборванца почерком Лялин адрес.
– Тихон Дмитриевич Фадеев, – представился он ей на прощанье. Девушка тут же забыла о симпатичном докторе.
Кончался срок пребывания матери в санатории. О новой надвигавшейся зиме страшно было подумать: Наталия Аркадьевна ее не перенесет. На глазах у всех девушка боролась за жизнь матери, и нашлись среди наблюдавших эту борьбу люди, захотевшие ей помочь. Она об этом поначалу и не подозревала: все делалось за ее спиной. Главный врач санатория Николай Николаевич Гринчар, его начальники из областного здравотдела… Да, много хороших людей совершало жестокую революцию! Подобралась целая цепочка этих людей, и Ляле предложили место педагога во вновь организуемом детском санатории, куда она могла уехать из Москвы, взяв с собою и мать. Это было спасение. Но не было у нее главного – солидной характеристики с работы. У кого просить? Не брать же с «Пенитенциарных курсов»… Разве что на прежней службе у т. Гриба? Она колебалась. И тут случилось неожиданное и очень странное событие. Однажды Ляля наутро собиралась в очередную поездку к матери. Она была той ночью в квартире одна. На рассвете раздался резкий стук в дверь. Ляля, недолго думая, открыла ее и увидела на пороге двух вооруженных красноармейцев, которые протягивали ей ордер на арест. Понять, отчего Ляля отнеслась к этому событию с легкомысленным спокойствием, трудно, но что-то подсказывало ей: ничего дурного с нею не случится. Она оделась и пошла между двумя молодыми пареньками, которые вели ее зачем-то посередине пустынной ночной улицы, прямо по булыжникам и трамвайным рельсам. Предрассветное небо разгоралось. Природа спокойно встречала утро. Ляля чувствовала прилив бодрости и уверенности. Ее состояние передалось конвоирам. Они удивленно поглядывали на арестантку, и один из них на прощанье сказал, явно нарушив дисциплину:
– Много мы народу важивали, а такую веселую впервой.
Лялю привели и сдали, к ее крайнему удивлению, на знакомый Тверской бульвар в административный отдел Моссовета. В знакомом зале, где происходили у них обычно собрания, теперь сгрудили целую толпу арестованных. Никто ничего не понимал, и все опасливо поглядывали друг на друга. Время от времени выкрикнут фамилии, несколько человек уводят, и они больше не возвращаются… Лялю беспокоила только одна мысль о матери: та ее сегодня ждет. Вдруг отворилась дверь, и через залу под конвоем быстрым шагом прошел т. Гриб, ее бывший начальник. Он был всклокоченный, возбужденный, в грязном белье, шинель в накидку. Рассеянно он скользнул глазами по толпе и узнал Лялю.
– И эту тоже! – воскликнул он досадливо и гневно. – Скоро грудных детей начнете таскать! – И исчез вместе с конвоирами за дверью.
Ляле шел уже девятнадцатый год, но она почувствовала себя действительно несмышленым ребенком. Вскоре выкрикнули ее и повели куда-то. Это оказался кабинет т. Рогова. Сам Рогов сидел в отдалении, а Лялю подвели к незнакомому строгому человеку, который стал придирчиво ее допрашивать и заполнять листок. Вопросы были ясны, скрывать было нечего. Она поняла, что обнаружен какой-то заговор и что в него вмешан т. Гриб. Допрашивавший на каком-то вопросе вдруг смягчился, переглянулся с Роговым, молча наблюдавшим допрос…
– Можете идти, – сказал суровый человек.
– К маме? – наивно спросила обрадованная девушка. Человек нахмурился, ничего не ответил и выкрикнул:
– Следующего!
Ляля вопросительно посмотрела на Рогова, не веря еще столь скорому избавлению. И тут Михаил Иванович впервые в жизни чуть-чуть ей улыбнулся.
– Знаешь, – сказал он, обращаясь к ней на «ты», – тебе учиться надо.
– Меня приглашают в детский санаторий воспитательницей, – ответила Ляля, – там будут кормить и мою маму и будет тепло.
– Пожалуй, это неплохо, – снисходительно ответил Рогов.
– Только нужна солидная рекомендация, – сказала Ляля и осеклась, густо покраснев. Михаил Иванович взял листок бумаги, написал несколько слов и протянул Ляле:
– Вот рекомендация, попробуй себя педагогом.
Так с наступлением поздней осени Ляля с матерью в обществе незнакомых женщин на грузовике отправились по Большой Калужской дороге в бывшее имение недавно бежавших за границу князей Трубецких Узкое, где открывался санаторий для детей без различия их возраста, пола, происхождения, детей, погибавших от государственной разрухи. Для Ляли и ее матери начиналась новая жизнь. Александр Николаевич оставался в Москве, один в пустой квартире.
За несколько дней до отъезда, в сумерки, появился в их темной передней какой-то незнакомый человек. Не раздеваясь, он прошел в столовую, как хорошо знающий расположение комнат. Ляля и Наталия Аркадьевна, опасливо переглядываясь, следовали за ним. Когда он вышел на свет, они сразу узнали в бритом и от этого неузнаваемо помолодевшем человеке Шрамченко. Даже глазки его, радостно смотревшие на них, увеличились от худобы и загара.
– Где вы столько времени пропадали, что с вами было? – бросились Ляля и Наталия Аркадьевна к нему, как к родному.
– Я был на той стороне, в армии генерала Деникина, – ответил Шрамченко. – Сейчас я приехал затем, чтобы увезти вас. Надо торопиться, я ежеминутно рискую. «Там» у меня все оформлено для вас. – Он встал, почтительно вытянулся и сказал с отчаянной решимостью: – Я не смел раньше говорить об этом. Я был бессилен и почти уничтожен. Но сейчас я приехал… просить, Валерия Дмитриевна, просить вашей руки. Поедемте, вы спасетесь из этого ада, и мы будем счастливы!
Ляля грустно смотрела на Шрамченко и молчала. Ей было обидно за его напрасный порыв, почти подвиг, и больно ему отказывать, но она знала, что не любит и некуда ей уйти из своей жизни, такой, как она складывалась сама, не по ее воле. Почему она должна была ее терпеть – этого она не могла объяснить ни Шрамченко, ни себе самой.
Наталия Аркадьевна обняла и поцеловала Шрамченко. Тот все понял. Он опустил черную, коротко остриженную голову, постоял, потом по-военному повернулся на каблуках и исчез так же быстро, как появился. Я никогда ничего не узнала о его судьбе, как не могу сейчас даже вспомнить имени этого человека.
После появления Шрамченко Ляля часто стала возвращаться мыслью к пропавшей своей сестре Клавдии: «Наверно, она тоже „там“». Года через два они получили по рукам шедшее, все истрепанное письмо, в котором Клавдия писала: «Дорогие тетя Наташа и Ляля, пишу наспех, без особой надежды, что вы получите это письмо. Мы все живы. Мы бежали с Кавказа через море в условиях, о которых страшно вспоминать, и вот очутились в Константинополе. Перед тем отец перехватил и прочел письмо от N., которое ему открыло глаза. Я боялась, что с ним будет удар, до сих пор он не может мне простить прошлое. Да, это все уже прошлое… Следы N. потеряны и вряд ли найдутся. А жить надо, денег нет, мама стала разваливаться, отец только храбрится. Короче говоря, я вышла замуж за одного турецкого коммерсанта, очень богатого. Я с ним познакомилась на пароходе во время бегства… Он молодой, красивый, влюблен в меня. Понимаю, как вам тяжело, если только вы живы. Но решаюсь просить, если когда-нибудь узнаете об N., дайте мне знать любыми путями, какие найдете. Ваша всегда благодарная Клавдия». Это было последнее, что Ляля с матерью узнали в жизни о Клавдии.








