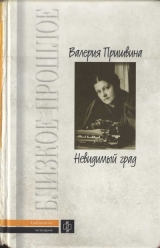
Текст книги "Невидимый град"
Автор книги: Валерия Пришвина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 38 страниц)
Таким путем в течение короткого срока лучшие люди были уничтожены, лучшие силы были выкачаны, буря улеглась, и церковное общество законсервировалось в предоставленных ему государством пределах.
Может быть, митрополит Сергий сделал попытку таким путем спасти храмы от разрушения, паству от гонений? Помню, как свидетельствовал мне в то время один правдивый человек о словах митрополита Сергия, сказанных в частном разговоре: «Весь вопрос в том, кто кого обтяпает». Трудно было понять, как и что, но еще говорили, что, когда предшественник митрополита Сергия митрополит Агафангел освободился из заключения, митрополит Сергий потребовал от него в письме отказа от своих прав на патриарший престол. Не дождавшись ответа, он тут же созвал Совет епископов, на котором Агафангел был лишен прав, завещанных ему Патриархом Тихоном…
Бурной и трагической обещала быть наступившая зима 1927/28 года. Описываемые события были ее зловещим фоном. Московские настроения вскоре докатились и до Кавказа, но друзья наши, принявшие теперь эти настроения, продолжали, однако жить своей прежней отрешенной жизнью, что видно из писем Олега той зимы.
«11 декабря 1927 года. Милая Ляля, третьего дня вернулся из небольшого путешествия, которое совершил вместе с Митрофаном. Пришел домой, послания от тебя нет, но захотелось побеседовать с тобой, вот и пишу.
В моей жизни внешних событий нет, чему весьма рад. Внутри же, в мысленном мире только начинает устанавливаться некоторый порядок после летней забитости работой. Возвращаясь из путешествия, по дороге зашел к знакомому и взял у него сочинения Григория Саввича (или Вар-Савы, как он любил говорить) Сковороды. Только что начал читать книгу, но она уже произвела весьма сильное впечатление. Да, это действительно Сократ русской философии, он достоин этого имени. Много у него удивительных идей. Идея о человеке и его самопознании – главная. Главное в человеке – мысль, мысль же иначе называется сердцем. Слово „сердце“ чаще всего попадается у него. Этого слова я прежде не выносил, ибо оно отдавало сентиментальностью, „чувствами“ и прочим. Оно ведь в литературе доныне ходит в том одеянии, которое ему сшил Руссо – неприятное одеяние, надо сказать.
Но Сковорода говорит, что по природе в человеке сердца вообще нет в строгом смысле этого слова, а дарит его Бог – помнишь, ты это говорила? Сковорода все время употребляет ум и сердце в одинаковом смысле, то говорит, что „человек есть сердце“, то, что „человек есть ум“. Учение его в основе персоналистично. Оно состоит из множества существ, из коих в каждом есть высшее, символическое и внутреннее существо. Между этими внутренними сущностями есть таинственные соотношения „сродности“ (это понятие занимает у Сковороды значительное место). Существа сродные друг ко другу стремятся. Это стремление Сковорода называет постоянно „влюбленностью“. Человек есть средоточие и конец вселенной, и для него есть только один предмет, который он должен любить – Бог. Сковорода вообще имяславец {182} . „Имя Мое и естество есть то же: „Аз есть Сый““, – пишет он.
„Не тот есть богатый, кто верует о том, что золото находится в недрах земных, но кто погнался за ним, влюбляясь в оное, и, собрав, обогатился оным и укрепил дом свой, вверяясь на оное. Так верный христианин не тот, кто верует, что находится в свете Бог, а кто последует Ему, влюбляясь в Него, и основал дом счастья на любви Божьей, утвердив оный соблюдением Его блаженной воли, вверяясь как на твердейший адамант, что дом его не подвижется вовек“. „Во что кто влюбился, в то преобразился. Всяк есть тем, чие сердце в нем. Всяк есть там, где сердцем сам. Сего Единого люблю, таю, исчезаю и преображаюся“.
И много у него удивительных вещей. Но есть одна ошибка: он не понимает плоти. И из этой как будто маленькой ошибки и проистекают все прочие его неясные и ложные мысли. Плоть есть „тлен и дрянь“, плоть есть „телесное чучело“ и т. д. Отсюда какая-то неполнота его любви к человекам, бесплотность ее: „отсутственная дружественная персона похожа на музыкальный инструмент: она издали бренчит приятней“. Отсюда же иногдашние уклоны к пантеизму, отрицательное отношение к обрядам. Значение плоти – только в том, что она есть та текучая река, в которой как в зеркале человек познает себя, а в себе Бога.
Но наряду с этим он верует воплощению Христову, верует в Пречистую Матерь Его: „в руках Ее цвет лилии, а в сердце сияние Святого Духа, задумчив и целомудрен взор…“
Это он описывает образ Ее, который особенно любил. Описанием образа и словами акафиста о Матери Божьей кончается главное его сочинение (кстати, эти слова: „Радуйся, честного таинства двере! Радуйся, премудрых превосходящая разум! Радуйся, верных озаряющая смыслы!“)».
«25 декабря 1927 г. Ляля, дорогая, так досадно и больно, что вот уже сколько времени, как разорвалась между нами вещественная ниточка, существовавшая в виде переписки. Вот уже четыре письма мои к тебе остались без ответа. Ты и не пишешь мне и не отвечаешь, так как не получаешь, и оба мыобращаемся в какое-то неопределенное пространство. Что значит это? Не простое ли обстоятельство, что в вашем доме не все знают вашу квартиру и, может быть, новый почтальон не находит тебя? Не понимаю. Если получишь это письмо, напиши мне, не особенно откладывая, чтобы почувствовать, что ниточка, хоть и тоненькая, восстанавливается. А то осталась только невещественная, но как это ни велико, пока мы в этом мире, хочется иметь и вещественную.
О моей жизни что говорить? Пока хорошо идет. У нас выпал неожиданно снег больше аршина. Приятель мой, живущий здесь более шести лет, говорит, что это в первый раз он видит такое явление, а то обычно снег бывает в феврале и лежит недели две: впрочем, иногда и в феврале не бывает. А теперь лежит уже несколько дней. Я в своей хатке, как на корабле. Понемногу читаю, понемногу, когда устанет голова, работаю над достройкой дома – стены в сарае и во второй комнате еще не забраны. Дома тепло, дров много, провизии натаскали с осени, и потому забот нет. Недавно приходили соседи проведать – жив ли я: Минаич и одна тетенька, трудно было идти им полверсты по аршинному снегу, но добрались, притащили меду. Постоянным моим сожителем является чахлый котишка. У бедного зверька плеврит, он все время хрипит и скрипит. Говорят, на Кавказе кошки все больные, простуженные: это не в пользу кавказского климата, т. е. собственно зимы. Что до меня касается, то, несмотря на мою симпатию к кошкам, я, очевидно, другой породы, и теплая погода на меня действует хорошо. Днем возможно работать в суконной рубашке и хочется держать дверь настежь (это, когда кругом аршин с лишним снегу).
Благодаря заботам Митрофана у меня посажен уже сад, и не очень маленький. Митрофан посвятил меня даже в тайны пекарского искусства, и теперь ем хлеб собственного печения – вкусный и питательный, лучше, чем в любой московской пекарне, так как он из цельной муки.
Всех дорогих и любимых целую. Господь с вами. При сем мысленно представляю, что собрались у тебя с мамой Сережа и А. В. Только что получил твою телеграмму. Послал ответную».
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Разлука
Шло разрушение Церкви, и видно было, что оно касается каждого, перекидываясь на отдельные судьбы: прошлогодний мой сон начинал воплощаться во всех своих подробностях.
Из мира, в котором я сейчас бреду, в этом 1962 году, временами я возвращаюсь в тот, давно минувший. Утраченный? Нет, чем дольше я живу, тем более четкими выплывают из тумана времени его подлинные черты, образы очищаются от случайного и наносного. Я и пишу эту трудную повесть с единственной целью – увидеть эти образы безобманным зрением, воссоздать их в настоящем и то, что окажется достойным, сохранить для будущего.
Сейчас я подошла к самому трудному: нелегко будет мне вновь пережить гибель дорогих людей и свою собственную гибель. Я постараюсь сказать об этом по возможности кратко. Постараюсь также перешагнуть и черную бездну следующего десятилетия своей жизни к 1940 году – году нашей встречи с Михаилом Михайловичем Пришвиным.
Александр Васильевич душевно заболевал. У него начались зрительные галлюцинации. Нет, он не запугивал меня, но и не скрывал своего состояния. Я впервые всерьез задумалась о его судьбе, видя безнадежный тупик, в который он зашел в своем чувстве ко мне и который мы с Олегом так легко обходили. Мы предъявляли своим друзьям невыполнимые для них требования: и Александру Васильевичу, и Сереже. Один Боря, монах по призванию с детства, оказался в силах эти требования осуществить.
Я впервые смутно начинала понимать, что и влюбленность и просто заинтересованность мною – все это опасно, не нужно. Кроме меня, об этом не догадывался тогда никто. Тревогу об этой смуте я желала рассеять путем любой, даже самой жестокой операции над собой и окружающими. Смуту эту поддерживал сам же Олег, монах и художник по дарованию, поджигавший все вокруг себя на костре своего аскетически-поэтического ви́дения. Он не считался с силами окружавших его людей, в первую очередь с силами Александра Васильевича. Впрочем, это давний опыт в истории: что посильно нравственным гениям, то разрушительно для подражателей и учеников.
Упростить, освободить, свести к обычному и незаметному – так диктовала женская прозорливость. Этим простым, казалось, должен был бы стать брак и семья. Но как раз это было мною отвергнуто и мне запретно. Тем не менее Александр Васильевич чего-то от меня молчаливо ожидал, добиваясь своей цели терпеньем. Казалось, ожиданье было для него безнадежным: за столько лет я не полюбила его «женским» чувством и, значит, полюбить не могла. К этому времени у Александра Васильевича появились какие-то новые черты: он утончился, одухотворился, некрасивое лицо его часто теперь называли «оригинальным», он нравился женщинам. Девушка, влюбленная в него уже давно, еще со времен коммерческого института, приехала неожиданно к нему из провинции и с решимостью отчаяния поселилась, якобы, проездом. Александр Васильевич исчез для нас на какое-то время. Наконец он пришел и скупыми словами, застревавшими у него в горле, рассказал, как только он один умел рассказывать – медленно, запинаясь, уточняя, но и так все было ясно без объяснений: не устоял перед искушением. Однако он нашел в себе силы переступить через жалость: не скрыл от девушки, что любит другую, и отправил ее к родным в Румынию. Она исчезла навсегда. Впоследствии он не раз говорил мне, что это был его грех и его ошибка: «Привык бы и непременно полюбил». И какая это была правда!
Были в тот год и другие подобные случаи с Александром Васильевичем, о которых он рассказывал мне, не поддаваясь искушению. Я давала наивные и бессильные советы или отмалчивалась, а самой неотступно мерещилось лицо Николая Николаевича за вагонным стеклом и его беспомощные близорукие глаза. Вспоминались предостерегающие слова Шуры по дороге с кладбища в день его похорон.
В ту зиму пришла ко мне мать Александра Васильевича. Она держалась как-то приниженно, сидела на кончике стула, маленькая, простоватая, вытирала слезы, подозрительно смотрела на меня заплаканными глазами, глубоко посаженными на болезненно-припухлом лице. Она говорила о тяжелом душевном состоянии сына, она умоляла:
– Он запретил нам говорить о вас и сказал, что бросит нас навсегда, если мы посмеем… Никто, никто вас больше, чем он не полюбит! Чего вы ждете?
– Тебе скоро тридцать лет, – говорила мне моя мать. – Я болею, слабею. Олег от тебя отрезан. Ты ведь не оставишь меня, не уйдешь к нему в горы? И вы не можете жить вместе никогда, не навлекая на себя осуждения и непонимания: он монах. А ты – какая ты монахиня? – посмотри на себя.
Отчим Олега художник Буданов в те же дни говорит мне:
– К вам идет это белое платье, вы в нем похожи на сочный и крупный цветок.
«Магнолия? Отвратительный цветок!» – думаю я.
После смерти Николая Николаевича мама теперь месяцами не встает с постели. Выручает меня Шура: она словно по воздуху узнает, когда я попадаю в безвыходное положение. Она появляется всегда неожиданно, без предупреждения, без вызова, на ходу вытаскивает из сумки рабочий передник и без единого лишнего слова берется за тряпку или становится к примусу. Тогда я могу убегать на работу.
Моя мужественная и веселая мама продолжает говорить со страхом о нашем будущем. Она просит меня одуматься, смириться, построить жизнь «как у всех». И я чувствую, как тяжелею и пригибаюсь к земле.
Однажды в детстве я увидала в поле одинокий подсолнечник с желтым цветком на крепком высоком стебле. Он поворачивал в течение дня гибко и послушно свою головку к небу за солнечными лучами, впитывая свет и тепло. Он был как второе маленькое солнце, ответно расцветшее на земле. И вот однажды уже осенью на закате я вновь увидала его. Но, Боже мой, что с ним случилось! Лепестки потускнели и свернулись, сердцевина же стала черной, тяжелой. Стебель потерял упругость и согнулся. Огромное солнце закатывалось на небе, а на земле также склонялось вниз черное маленькое солнце, бывшее так недавно золотым и легким цветком.
Но подсолнечник нес земле спелые семена новых растений. Я же бесплодно пригибалась на стебле, который меня больше не держал. Я начинала взрослеть – это была новая тяжесть женственной зрелости. Что она мне несет – я не знала. И никто не мог помочь мне: один только Олег! Он мог взять меня за руку, увести на любые пути: на всех я с ним была бы счастлива и свободна. Олег был прав, он угадал секрет моего существа: не невестой его была я тогда и не женой – я была проста и счастлива полнотой этой простоты, но только с ним одним. Что значило это во мне? Тоже очень простое: с ним я была всецело женщиной в чистом и высшем смысле этого призвания – с ним я была воистину девственна. Так и прошли бы мы с ним через жизнь рука в руку… Но я нуждалась в этой опоре, и рука его была единственная до конца бескорыстная рука!
Мне нужна была рука, а он уговаривал меня издали словами. Слова оказались тогда бессильны. Вот почему нам нельзя было разлучаться. Кому – нам? Ему – уже постриженному и нищему монаху, и мне, ничтожной советской «служащей» с больной матерью на руках. Никто из нас происходящего не понимал. Понял только один – тот армянин из Сочи, мелькнувший и исчезнувший.
Так проходила зима 1927/28 года. Олег в эти месяцы безотчетно тревожится. Он пишет Михаилу Александровичу Новоселову:
«17 января 1928 г. Дорогой дяденька, хочется высказать Вам еще несколько мыслей в продолжение нашего разговора относительно пострига сестры Валерии, чтобы прибавить еще несколько материала для решения. К мысли о тайном постриге можно подходить с двух концов: от идеи пострижения вообще и отданного человека, о котором идет речь. Когда мы подходим от идеи пострижения вообще, мы, конечно, видим множество серьезных и законных соображений против. Тут верно все, даже соображения о комнате должно быть принимаемо всерьез, хотя все же я чувствую некое внутреннее оскорбление, некое чувство унижения иночества, когда оно связывается с внешним комфортом, тогда как ведь иноки – это те, коим „не дается покоя до смерти“ и которые, как говорили мне отцы и как уже успел испытать я сам, даже строя себе келью своими руками, не рассчитывают в ней жить (в первой своей келье, на которую положил много сил и здоровья, не пришлось мне и переночевать). А о. Даниил за свою жизнь построил более двадцати келий.
Однако нам приходится подходить с другого конца, отправляясь от сестры Валерии, и тогда и общие правила изменяются. Она сама как-то говорила, что как же может быть речь об общих соображениях, о подробностях правил, когда человек стоит одной ногой в гробу. Надо ведь принять во внимание ее жизнь. Вы сами вспоминали те многократные гипнотические опасности, которым она подвергалась, те сопротивления внешнему миру, которые ей приходилось оказывать. И она все время держалась своей мечты об иночестве, но все эти гипнотические влияния, скорби в связи с потерей отца с сопутствовавшими этому событиями, вызвали в ней своеобразную реакцию самозащиты, – она словно выделилась в астрал, потеряла чувство реальности этого мира. Она сама, как я говорил, поняла это как обман, имеющий общий корень с имяборчеством. Но этот больной выход найден ею тленно, потому что замысел иночества не психологически только, а онтологически ей свойственен. Иначе у меня не было бы всей тревоги, боли, иначе я бы и не беспокоился, если бы не опасался, как бы она не сделала поступка, противного ее природе. Пострижение и нужно ей для того, чтобы уничтожить это разделение, дать уверенность в том, что нет никакой двойственности – что она реально существует и что то имя, которое она сознает от Бога ей данным от рождения и от которого никогда не отрекалась, – имя девы – еще раз от лица Церкви подтверждено.
Духовники указывали, что ничего особенно утешительного не приносит практика монашества в миру. Но много ли утешительного приносит наблюдение монашества в монастыре? Далее. Вы знаете добросовестность Валерии в отношении послушания. Уже одна та мысль, что кто-то будет за нее отвечать перед Богом, достаточна для того, чтобы сделать ее столь собранной и внимательной к себе, как немногие монастырские монахини. Ведь достоверно, что в послушании она добросовестна».
Письмо было не закончено и не послано.
Через неделю короткое письмо от Олега получила я.
«22 января 1928 года. Ответь, Ляля, что с тобой делается? О каком существенном для тебя деле думаешь одна – без меня? Чует мое сердце что-то недоброе. Места не нахожу, день и ночь мысль только о тебе. Скажи, не случилось ли чего с тобой 6/19 января около 4 часов дня? С кем-то близким что-то случилось.
Телесного страдания для тебя не боюсь так, как ошибок твоих в твоей собственной жизни. Ответь скорее, так как мучаюсь страхом за душу твою, ни о чем думать не могу, даже дышать трудно. Послал два заказных письма, ответа ожидаю. Господь да управит пути твои. Л.».
Вот что случилось со мной точно в тот день, о котором была написана эта отчаянная записка Олега: в тот день я дала Александру Васильевичу согласие стать его женой.
Под вечер я вышла на площадку нашей лестницы проводить его, уходящего от нас домой. Лестничные своды, не беленные с дореволюции, были тускло освещены. Лампочка высоко висела под грязным потолком, покрытая слоем никогда не сметавшейся пыли. Александр Васильевич привычно поцеловал мне руку и стал было спускаться. Потом неожиданно перемахнул несколько ступеней вверх и приблизил ко мне неподвижное, бледное, страшное новым выражением лицо. Все поплыло у меня под ногами. Потом до меня донеслись дробно стучавшие где-то внизу шаги: это убегал Александр Васильевич. Тут я услыхала собственный голос – только два слова. Я произнесла их совершенно спокойно, очень громко и отчетливо, не думая, что кто-то может услышать, всего два слова: «Я пропала!»
Слова гулко пронеслись по пустой лестнице. Я постояла, шаги внизу замерли. Я вернулась в комнату. Там никто ничего не заметил.
Сколько лет уже прошло, но я мысленно выхожу сейчас на ту площадку, становлюсь спиной к двери, лицом к убегающему вниз бедному моему замученному другу, вижу темные своды, пыльную лампочку наверху, слышу свой спокойно-отчаянный голос так ясно, словно времени, разделяющего мое тогда и теперь, не существует.
Тут можно было бы и прервать рассказ, не дописывая его окончание. Это окончание будет по существу описанием конвульсий утопающего человека. Не все ли равно – медленно или быстро он захлебнется, если ясно, что гибель его уже предрешена.
На следующий день пришло второе письмо Олега. Надо сказать, что письма шли тогда медленными почтовыми поездами. Прочитала я вечером это письмо и ворочалась без сна всю ночь.
«23 января 1928 года. Скоро уже две недели, как не могу превозмочь какой-то тревоги за тебя; и не о внешнем твоем благополучии, конечно, и оно ценно – но о состоянии души твоей. Вижу, что у тебя жизнь идет по двум линиям: тревоги и радости в связи с семейным разладом и заботы в связи с А. В. И ты сама писала, что последняя, главным образом, поглощает внимание, и боишься ответственности за него.
Твое второе письмо с загадочными словами о воле своей и воле Божьей, о „существеннейшем вопросе“ еще больше взволновало меня. Я понял, что ты вновь поддаешься прелести. Снова тебе начинает казаться, что твои мечты об ангельском образе есть твои хотения, а, может быть, Богу угодно, чтобы ты покорно несла ярмо супружеской жизни, кротко и молчаливо трудясь для мамы и А.В. А иначе он погибнет, и ответственность будет на тебе. Что же касается до меня, то это не помешает, так как „наша любовь божественная“, и „между нами не может быть никакая другая любовь“. Зачем написала ты эти слова, что значит „иная“ любовь? Разве стала бы ты говорить так по поводу любви к своей маме? Это подбавило мне тревоги.
Ляля, твой недостаток в том, что ты вмещаешь в себя столько, что не можешь с собой справиться, в тебе, вместе с девственным, есть и свойства женщины, и притом в особой недоброй форме – они очень глубоки. У тебя такая потребность в мужской власти над тобой (помнишь, в детстве: „Выйду замуж за моряка“), что и возлюбив Господа, ты и на Него перенесла свойства жестокого угнетающего Существа, воля которого обязательно должна переживаться как что-то раздавливающее тебя. Тебе хочется девства, а Бог хочет от тебя супружества. Ты не видишь, что тут происходит ужасная подмена: в тебе говорит женский атавизм, это воспоминание о вавилонском идоле, во славу которого каждая женщина обязана была однажды в год отдаваться неведомому человеку перед алтарем его… Я не говорю, что перед тобой стоит этот идол, нет. Ты по-настоящему веришь во Христа, но вследствие не испепеленной до конца падшей природы человеческой, демоническим образом в тебе проявляющейся, ты видишь Лик Христов, освещенным Мелеховым лучом, на Божественном Лике играют для тебя лукавые тени. Его искажающие …
Ты затвердила себе, что воля Божья обязательно должна быть тяжела, сокрушительна и идти наперекор высшим стремлениям человека. Ты забыла, что „иго Мое благо“, ты забыла, что во Христе воля человеческая хотела как раз того же, чего и Божеская, и через крещение и наша воля приобретает ту же способность. Что же, раз мне хотелось ангельского образа, значит, это своеволие? Ты забыла, что естество не способно хотеть девства, и если это хотенье есть, то оно только от Бога, и думать иначе, считать это веяние Духа Святого своеволием – значит высказывать самую страшную хулу на Святого Духа… Знаю, что ты ответишь на это: что ты и не сомневаешься в своем имени, но что нет иного выхода…
Ничтожны эти рассуждения, не бывает так, чтобы не было выхода. Сатана, не имея сил поразить тебя страстными помыслами, действует на тебя двумя путями: жалостью, возбуждающей страсть в друге, и состраданием в тебе, а также и чувством вины (его внушение!). С другой стороны – подменяя лик Христов, возбуждая женственную стихию покорности.
Ты забыла, что сказано:
„Благослови душа моя Господа…
– очищающего беззакония твоя,
– исцеляющего вся недуги твоя,
– избавляющего от нетления живот твой,
– венчающего тя милостью и щедротами,
– исполняющего во благих желание твое,
– обновится, яко орля, юность твоя“.
Так знакомы эти слова, и мы не обращаем на них внимания: „исполняющего желание“. Какое же? О девстве – обновлении юности.
„Первая Дева – Святая Троица“. Как же такому Богу может быть угодна жертва девством? Ляля, эта мысль тебе не простится, если до конца не покаешься.
Вспомни, что твоя особенность в том, чтобы ошибаться и грешить именно так, принимая „сатанинский гипноз“ за высшую волю. „Все ошибки свои я делала с Евангелием в руках… Я думала, что так надо…“ Но потом роковым образом раскаяние, почти отчаяние (опять сатанинское действие) и как план искупления – углубление в пропасть. Это ты ведь осознала, сказав, что твой предполагавшийся брак был бы завершением нисходящей линии. Но нет, ты готовишься сделать самую большую ошибку „с Евангелием в руках“. Детка, бедная, любимая, что мне придумать?
И вот ты надеешься именно на это, когда думаешь о браке – из жалости к любимому (бесстрастно!), в надежде на спасение его души… даже больше сказал бы я, не решился бы сказать, если бы сама не сказала некогда, что в твоих мыслях о браке имел значение и „страх за маму“. Это твои слова в письме. Прости меня, но мне кажется, что и теперь он является, неведомо для тебя, одной из слагающих. Тут в одном А. В. связались обе твои задачи: и мама и А. В., и как будто обе эти задачи решаются…
Странно мне и то, что ты ищешь волю Божью непонятным образом. Где ее искать, как не в Евангелии? Мало его – в житиях святых. В Евангелии обо всем этом не найдешь ничего: найдешь только заповедь о том, что возлюбивший кого бы то ни было больше Господа несть Его достоин…
А ведь ты знаешь, что у меня все поставлено на твое девство. Если оно просияет на Суде – и я с ним… Или ты думаешь, что таинство – было игрой?
Помнишь ли ты, что таинство брака заключает отречение от девства, от имени девы? Если ты отречешься от девства, я исчезну. Я не могу этого вынести. Я или умру физически – до этого недалеко, я ведь всегда „на грани“, и здоровье мое есть следствие настроения. Или же существование мое обратится в непрестанную пытку, и еще здесь я узнаю адские мученья.
Как-то я увидел картину „Опричники у земского“ {183} . Кажется, кого-то из передвижников. Опричники ворвались к боярину и хозяйничают. В комнате все перевернуто, разбросано. Посреди на полу – дочь боярина. С нее сорваны одежды, она без сознания или в исступленной неподвижности, равносильной смерти. Черная коса раскинулась по полу. Боярин привязан веревками к столбику кровати, и на лице его предел безумного отчаяния. Сын связан, лежит на постели, корчась в гневе и страдании за сестру, а два опричника за столом пьют вино. Мое состояние в случае твоего брака будет подобно состоянию этого отца, только растянется на остаток моей жизни и пойдет со мной в могилу.
Ты понимаешь ли, что твое падение по страсти я бы пережил, как бы это ни было трудно. Но это самонизвержение, якобы по воле Божьей, в жертву вавилонскому кумиру, при одной мысли об этом спирает дыхание и душат слезы ужаса.
Пытаюсь понять, как это все могло случиться? К тому, что уже написал об этом (пишу беспорядочно, не до порядка тут), добавлю следующее. Ты имеешь способность таять и изнемогать. Иногда и от меня. Я чувствовал это ясно… И от жалости, в особенности. (Вспомни вспышку любви, когда я собирался помирать от малярии.) А. В. пишет мне письмо, ты его поправляешь: таешь от жалости, от нежности к любимому, а он – кроткий, страдающий… и является мысль: а может быть, и в самом деле воля Божья? Вижу твое удивление им („письмо такое значительное и неповторимое“). Пусть так, но чувство остается. Это „таяние“ всегда вызывало во мне тревогу, даже когда оно направлялось по моему адресу.
Зачем же, зачем ты просила меня не умирать теперь, именно теперь, когда что-то столь ясное открылось между нами? А вслед за тем готовишь мне удар, который не знаю, можно ли пережить?
А что мне остается, как не отречься от тебя перед Богом, хотя это и значит потерять половину себя самого (как и ты недавно о себе говорила) и даже более. Но что же я еще могу сделать? Как при послушании старец отрекается от ученика, если тот не пребывает в повиновении, так и при взаимном послушании. Твое оскорбление будет слишком сильно, мне останется только… отвечать за одного себя – уже с единственной надеждой на милость Божью.
Ты скажешь: как же я так способен тебя забыть? Нет, забыть тебя я не могу. Но представь мое положение: сестра сознательно готовится ко греху, отвергает мой голос и думает, что исполняет волю Божью – что мне остается делать? Раз лик Христов освещен для тебя чуждым светом, могу ли я молиться вместе с тобой? Могу ли я имя твое носить в сердце? Конечно! если сестра покается потом, брат не отвернется, но каково будет ему это?
Знаю, что и Сережа, и особенно Арсений будут переживать подобное, хотя, может быть, и не так сильно, потому что ты сама говорила, что мы с тобой – одно существо, только с двумя вершинами.
Да, Господь не потерпит твоей измены. Он расстроит твои планы, покажет, что то была не Его воля. А. В. умрет, ты останешься одна с мамой и с ребенком на руках… И тогда раскаешься и придешь… если буду жив… Да не сбудется!
Ты связывала для меня действительность с миром святых. Были в древности Варвара, Екатерина, они похожи на сказку… И вот и в действительности нашел я точку опоры в тебе – видел в тебе отражение небесного девства. Помнишь пример мой „о единственном друге“, который оказывается изменником?
Ляля, милая, пока еще можно к тебе так обращаться, вот какие мысли носятся вокруг меня уже двенадцатый день. Что это за дни! Ни о чем больше не думаю. Часто казалось мне, что, если я на мгновение перестану о тебе думать, снова впадешь в транс – недаром жаловалась недавно на одолевающий тебя сон, умственный, душевный, физический. Кажется, что тогда снова загипнотизирует тебя Сатана. Грустная, детская мечта! Если бы я мог спасти тебя непрестанной мыслью о тебе, чего я ни постарался бы сделать!
Наибольшей напряженности моя тревога достигла 6/19 января, несмотря на то, что в тот день говел. Поднялся на гору. Было тепло, около 10 градусов, солнце светило вовсю, небо ясное, а я, казалось, нисходил до глубины скорби и тревоги за тебя… Или это все моя мнительность? А около 4 часов того же дня, как я тебе писал, понял я, что с кем-то что-то случилось, только не знаю что, и теперь не знаю – напиши. И верь, что за твое истинное послушание Богу Он и А. В. не оставит, а в противном случае и он может погибнуть, и ты.
Да, еще одна вещь: какая насмешка будет „мы с тобой“ как основа философии! Что же с этим делать – выбросить? Все рассуждения о поле, символы – все угаснет!
Или ты думаешь, что я еще кого-нибудь полюблю? Нет, Ляля, я ведь сказал тебе, что мне, по чину моему, подобало быть евнухом невесты Христовой, а если я ее не уберег, опыт, который был, может быть, однажды в истории мира, не удался. А знаешь ли, что если я к кому-нибудь имел не любовь даже, а теплое чувство, то это было все твое отражение, и после тебя еще раньше тебя угаснут всякие отблески твои. Ведь, кроме тебя, никто не мог бы разбудить во мне любовь.
Ну и довольно. Кончаю этот третий за короткое время памятник моей любви и ревности. Прости, прости, если оскорбил подозрениями, и прими серьезно, если хоть в чем-либо прав.
Верю, детка, что ты благополучно выйдешь из „искушения“. (Вот еще загадка: о каком искушении ты писала?) А осенью, надеюсь, увидимся и будем близко. Относительно же А. В. давай вместе посоветуемся: и первый шаг – это твое решительное ему слово.
Вот видишь, ты жаловалась, что я не указываю тебе твоих недостатков, – а теперь только поспевай защищаться. Ты писала мне о своей „порочности“, в которую я, к сожалению, не верю. Но теперь буду ждать, признаешь ли ты ее сама или нет?
Мама пишет, что была у тебя на Рождестве, но ты была нервна и напряжена. Что это значит? Спроси у мамы мое письмо к ней, там и тебе записка (а в письме к маме кое-что и на твое суждение есть).
Целую тебя, если ты верна заповедям Христовым и слову, данному Ему. Прости, что, будучи весь во грехах, забыл об этом и обличаю, ведь от любви к тебе, чтобы ты соответствовала тому образу, который имеет для тебя Господь – и да будет благодать Его с тобой.
Думал о том, по-христиански ли, что у меня так „все на тебя поставлено“? Разве не должен христианин опираться только на Христа? Но вспомнил, что Сам Господь явил нам подобный пример, когда сказан: „Ты еси Петр, и на сем камне созижду Церковь и врата адова не одолеют ю“ {184} .
Вот Он все ставит на человека, – да еще на того, которому, этому камню, предстояло поколебаться. В этом тайна любви, что любя не одного, можно на нескольких все основывать, то есть я на Господе и Святых Его, а из человеков – на тебе».
На рассвете кто-то постучал осторожно в нашу дверь. Я вскочила, накинула халат, открыла. На пороге стоял Олег. Не заезжая к матери, он приехал с вокзала прямо к нам.








