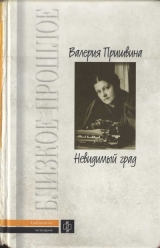
Текст книги "Невидимый град"
Автор книги: Валерия Пришвина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 38 страниц)
В это время телефонный звонок прерывает наш разговор. Начальник, сияя доброй улыбкой, разговаривает по телефону с ребенком:
– Значит, завтра едем? Только помни, чтоб уроки были сделаны с вечера.
Кладет трубку. Почти застенчиво:
– Это я с дочкой… Видите, какая погода – май! Собираемся на дачу за город. (Подразумевая между слов: «и ты могла бы так же…») Итак, решено? Вас тоже дожидается матушка. (Значит, мама свободна!) Посидите здесь в коридоре. Вас вызовет мой помощник и все оформит. А моя фамилия – Тучков.
«Тучков! – вспоминаю я. – Главный следователь по церковным делам, самое страшное имя. К нему-то пробивались и не могли пробиться наши старушки по делу Новоселова».
– А как насчет Бога? – подмигивает мне на прощанье весело Тучков. – Ну, ничего, ничего, это пройдет у вас постепенно. Вы – жертва переходной эпохи, и вас винить не приходится. Это не вина, а беда! Видите, какой я философ: вы можете мне доверять.
Он трясет мне руку, и я одна без конвоира выхожу в коридор. Почти свободна… Все в голове моей медленно и тяжело кружится: стены, пол, мои мысли, сомнения, надежды… Это же крупный чиновник, он не опустится до прямой лжи, это не тот развинченный юноша. Решиться ему поверить?
Из противоположной двери в коридор выходит священник. Он идет со скромным достоинством, в летней соломенной шляпе, в темно-лиловом подряснике и с золотым крестом на груди. С ним нет конвоира. У дверей кабинета, откуда он вышел, с ним прощается вежливо за руку маленький, черный, сурового вида человек. Священник неторопливо уходит по плюшевым дорожкам. Он приходил сюда как свободный и на свободу, конечно, уходит… Значит, он… Меня начинает колотить мелкая дрожь.
В это время маленький мрачный человек делает мне знак рукой. Я встаю и вхожу в его кабинет. Это и есть помощник Тучкова. Он делает мне любезную улыбку, но глаза его не меняют мрачного выражения. Он читает заготовленную заранее бумагу – текст моего согласия сотрудничать у них. С каждым словом я чувствую, что тону и нет мне уже спасения. Я мысленно слежу за «свободным» священником, который идет сейчас к выходу по плюшевым дорожкам.
– Ваша фамилия – Майская. Запомните, – слышу я слова черного человечка. («Зачем мне вторая фамилия?» – думаю я.)
– Сегодня ночью вы выйдете на свободу, – продолжает черный. – В камере никому ни слова. И не показывайте своей радости.
Он протягивает мне бумагу и ручку. Я подписываю. Бумага лежит перед ним на столе. И я не свожу с нее глаз.
– Две недели отдыха, – говорит чекист. И тут я замечаю в его тоне новое: усталое пренебрежение.
– Вы придете (назначает мне точно день, час, место) и получите задание. Не вздумайте не прийти!
Эта последняя угроза и тот уходящий священник – как я могу им верить? Я автоматически, но с полной решимостью протягиваю руку, хватаю страшный лист, лежащий между мной и следователем, и рву его на мельчайшие куски.
Следователь разъяренно стучит кулаком, осыпает меня ругательствами и угрозами. Но теперь даже угрозы в адрес моей мамы меня не смущают. Я повторяю себе: лучше нам отмучиться обеим жалкий остаток дней, чем… Но только бы на одну минуту повидаться, чтоб передать ей свое мужество, свое решение. И тогда – на любую муку. Так думаю я уже потом, прислушиваясь к ровному дыханию спящих в камере. И тут я замечаю, что Юлия Михайловна тоже не спит и внимательно следит за мною. Я подхожу к ней, но мне не приходится ничего ей рассказывать: она и без слов все давно поняла.
– Не делайте этого – вы погубите свою мать и погибнете сами. Это соблазн, их обычный прием – обман. Вы поступили правильно и не сомневайтесь.
Она крестит меня и по-матерински целует. Мне становится просто на душе, и я засыпаю.
Ненадолго, впрочем, я засыпаю. Мне не дают отдыха в ту ночь. На рассвете меня снова ведут – теперь уже к Тучкову. Он садится со мной рядом на диван и начинает гневно поносить своего отсутствующего помощника:
– Неумный человек, я давно это вижу! Он не понял ни вас, ни моего задания! Вы будете отныне иметь дело только со мной одним, обещаю вам.
Напрасно теперь уговаривает меня Тучков – я остаюсь непреклонна. Наконец я вижу: он понимает, меня теперь ему не соблазнить и не запугать. Весь наигранный лоск и любезность сползают с Тучкова. Он как бы линяет у меня на глазах и становится равнодушным ко мне и к судьбе моей усталым и серым чиновником. Он заученными фразами произносит последние угрозы.
«Десять лет лагерей? Не боюсь, – думаю я про себя. – Буду добросовестно работать, и они сами сбавят мне срок: хорошие работники нужны. Выдуманное ИПЦ – не такое дело, из-за которого убивают».
Наконец, он безразлично поводит плечами, нажимает кнопку. Входит конвоир и уводит меня.
На следующий день меня вместе с Екатериной Павловной вызывают «с вещами». Суровая женщина без единого слова, будто она немая, раздевает меня донага и осматривает. Сердце мое часто колотится от страха перед неизвестностью.
Нас сажают в закрытый черный грузовик, куда-то везут. Внутренние стены кузова исписаны: это последние слова прощанья, бессильные крики о помощи. Многие из них знали: это их последний путь. Почему не потрудились стереть эти следы? Может быть, оставлены для устрашения последующих?
Нас выгружают на внутреннем дворе Бутырской тюрьмы. Мы с Екатериной Павловной снова вместе в камере, до отказу набитой женщинами: это уже не «комфортабельная» Лубянка с ее паркетными полами! И тут я получаю первую передачу с воли – я вижу мамину родную руку: она жива и на свободе!
И еще прикосновение родной руки: тюремный врач, женщина с умным и нежным лицом, без единой улыбки (наверное, запрещена), я запомнила только ее имя Варвара, осматривает меня и назначает в больницу. Конечно, это рука Александра Николаевича! Ведь из больницы не берут на допросы, в больнице дают отдельные постели с простынями. В больнице день и ночь открыты окна (пусть они и зарешечены) и можно досыта дышать.
В конце лета нас вызывают с Екатериной Павловной из камеры и зачитывают приговор: по 3 года в Западную Сибирь этапом.
– Этапом! – внушительно повторяет прочитавший приговор человек.
В камере мне объясняют: этап – это долгий путь, месяцами, с остановками в пересыльных тюрьмах. Этап – это входит в состав наказания, а некоторых заключенных выпускают на волю, и они сами едут к месту своей высылки.
Перед этапом полагалось свиданье с родными. В большой комнате, разгороженной двумя рядами решеток, между которыми ходит часовой, собрались люди. По одну сторону – мы, заключенные, по другую – пришедшие к нам на свиданье родные. Я с трудом узнаю свою маму: исхудалая, постаревшая. Она судорожно сжимает в руках букетик цветов. Губы ей не повинуются, и она жалко мне улыбается. Стоит страшный шум, все стараются перекричать друг друга. Я улыбаюсь: мне и впрямь бодро, уверенно стало жить.
Я говорю маме о том, что она приедет ко мне, что я буду в вольной ссылке. Мама не слышит слов, она жадно всматривается в меня. Теперь я вечно буду ее вспоминать, это измученное лицо, отделенное от нас двойной решеткой, как вспоминала до тех пор столько лет лицо своего отца. Раздается резкий звонок: прощанье! Мама протягивает мне цветы. Часовой бросается к ней с угрозой. Слава Богу, все обходится его окриком. Нас выводят. Еще одна невеселая страница жизни перевернута {196} .
Дня через два нас выводят на так называемый «внутренний вокзал» Бутырки. Это огромная бетонированная площадка, где сгружены сотни отправляемых этапом мужчин и женщин. И вдруг я замечаю в толпе улыбающееся мне лицо Александра Васильевича. Мы даже можем переговариваться с ним. Он назначен, оказывается, вместе со мной, в одно место, одним этапом. Старый добрый друг! Все следы нашей совместной жизни стерты последними месяцами, они забыты! Одно только важно – не вернуться к прошлому. И тут я думаю с опасением: «Зачем нас назначили вместе?»
Я так и не узнала, была ли то просьба Александра Васильевича, которую уважили наши судьи, была ли то их «забота» или случайность.
У меня, кажется, повышена температура, болит горло. Наверное, очередная ангина, которой я подвержена. Как же я буду больная в этапе? Вижу, в белом халате доктор Варвара обходит «вокзал», подходит, осматривает мое горло, хмурится…
– Ангина… Я могу вас, конечно, задержать до следующего этапа. Но ваш муж едет вместе… Вы не понимаете, что такое этап… И вся обстановка вашей будущей жизни… Нельзя отставать от этого этапа, раз в нем – свой человек… Поезжайте вместе… Нельзя отставать – послушайте меня!
Так решается докторшей моя судьба.
Нас грузят в «черного ворона». Мужчин – в отдельные темные без окон кабины, женщины стоят, плотно прижавшись друг к другу. На улице – сияющий жаркий день, мы видим его в узкие зарешеченные щели. Черная машина долго стоит на солнце, прежде чем тронуться в путь, может быть, умышленно ее накаляют, становится нечем дышать. Екатерине Павловне дурно, у нее больное сердце. Она теряет сознание, но так плотно зажата между нами, что не падает, и масса наших тел поддерживает ее на весу…
Наконец, машина трогается. В низко расположенные щели я вижу мелькающие тротуары, между ними иногда зеленую траву, идут бесчисленные ноги – женские, мужские, ноги свободных счастливых людей. Но люди эти не сознают своего счастья, как совсем недавно не ценила его и я. Они не знают, что ходить и дышать свободно – вот все, что надо для человека! Я должна это помнить, если только ко мне это счастье снова вернется!
«Ворон» останавливается. Но и тут проходят бесконечные минуты, пока открываются его двери и становится возможным дышать. «Дышать» – это первый шаг к счастью. Мы вытаскиваем Екатерину Павловну и приводим ее в чувство. Открываются кабины мужчин. Александр Васильевич почему-то из своей не выходит. Его выводят оттуда конвоиры: оказывается, он тоже потерял сознание от духоты. Там было еще труднее. Он тут же приходит в себя и виновато улыбается.
Сколько у людей общего, роднящего, и как они умеют мучить друг друга.
Нас выстраивают и ведут к поезду. Я оглядываюсь, узнаю: это зады Казанского вокзала. Я тащу свой чемодан, в другой руке – узел Екатерины Павловны. Ее самую ведут под руки.
Нас погружают в вагон с зарешеченными окнами. Я впервые узнаю, что такое «столыпинский вагон». Помещения, где сидят в два ряда арестанты, не имеют дверей: они отделены от коридора решеткой. Люди сидят впритык друг к другу, потные, задыхающиеся, сидят так неделями, от этапа до этапа очередной пересыльной тюрьмы. Здесь молодые и старухи, здоровые и больные. Убийцы и воры едут вместе с «политическими», с невинными упрямыми старухами, вроде Екатерины Павловны и меня…
А по коридору за решеткой день и ночь ходит часовой. Поезд стоит долго. Я жадно присматриваюсь через двойную решетку к тому, что делается на воле: видно небо, зелень деревьев, изредка фигуры людей на платформе. И вдруг, о чудо! я узнаю знакомую фигуру: это Александр Николаевич Раттай! Маленький, съежившийся, ставший еще меньше от страха, он, тем не менее, бодро и упрямо вышагивает вдоль вагона, стараясь сквозь решетку что-то рассмотреть. Я вижу, как он время от времени вытирает слезы… Мне хочется ему крикнуть, что я вижу его, но этого делать нельзя: я погублю Александра Николаевича. Непонятно, как мог он пробраться сюда сквозь охрану и почему не уводят его?
И потянулись нескончаемые дни и ночи. Моя открытка матери из вагона:
«30 июля 1932 года. Дорогая мамочка, еду хорошо. Место лежачее против открытого окна. Сплю и любуюсь видами. Вчера два раза ела малину. Приближаемся к Поволжью. Даю слово писать только правду и не лгать для утешения твоего и беру с тебя такое же. Простите все за хлопоты и страданья, вам причиненные. Желаю вам моего самочувствия. Ваша Ляля».
Мое место действительно на верхней полке с другой молодой женщиной. Там душно, но зато можно вытянуться, лечь… Ночью, когда внизу все сидя спят, я спускаюсь и сажусь на грязный пол у решетки. Ночь лунная, свет бьет через решетку мне в лицо, и ветерок достигает моего потного, грязного лица. Я жадно дышу, открывая рот, как рыба, умирающая на берегу. Часовой – молодой деревенский парень мерно ходит вдоль всего вагона. Наш отсек – крайний. На противоположном конце коридора – мужские камеры. Оттуда круглые сутки доносятся ругань и удары. Но сейчас и там, видимо, дремлют: в вагоне стоит необычная тишина.
Я сижу на полу и дышу – не надышусь. Молодой часовой ходит и ходит, каждый раз отводя глаза от меня при приближении. Вот он остановился, он хочет что-то мне сказать. Он колеблется – разговор с арестантами запрещен. Тем не менее, он приближает свое лицо к решетке, наклоняется и говорит:
– Простите меня! Я знаю, вы невиноватые, я не своей волей тут, сил моих нет молчать! – говорит он, волнуясь и забывая об опасности.
Я оглядываюсь: никто вокруг не шевелится. Я умоляюще складываю руки и зажимаю ими собственный рот: «Молчи, мол, услышат!» Но часовой не унимается: видно, ему теперь вся жизнь в том, чтоб получить мой ответ. И я ему, еле шевеля губами, говорю:
– Прощаю, прощаю. Замолчи!
Парень утирает одной рукой глаза, в другой он держит ружье. Я продолжаю сидеть на полу, а он ходит взад и вперед, как заведенный, по коридору.
Кто мы теперь друг другу? Как может быть, чтоб мы навечно расстались? Какая цена может быть этой жизни, если в ней все кончается расставанием, если добро и зло безразлично и бесследно валится в общую яму небытия?
Вагон наш часто отцепляют, и он сутками стоит, что-то пережидая. Нам томительно, конвоирам скучно. Когда меня ведут днем в уборную мимо отсека, где помещается стража, я вижу наших отдыхающих конвоиров. Они валяются на лавках и от скуки рассматривают фотографии, прикрепленные к «делу» каждого заключенного. Один рассматривает, другой, простоватый белорус, с запинками читает:
– Нос прямЫй… глаза карЫе… волосы русые… стрЫженые …
Первый парень, городской, щеголеватый, лениво и насмешливо поправляет:
– Дурак, читать не умеешь.
Наступает тишина. И через несколько минут слышу снова:
– Нос короткий, вздернутый, глаза серые…
– Это в какой?
– В третьей.
– Дурак, да ведь это – старуха!
– Га-га-га!
И снова тишина, прерываемая ругательствами мужской половины вагона.
Наконец, в серый дождливый день нас выгружают из вагонов, велят опуститься прямо в грязь, во избежание побегов. Построив, сосчитав, предупредив, что за выход из строя будет на месте пуля, нас ведут по пустынным улицам неведомого города в тюрьму. Город оказался Новосибирском.
Нам дали вымыться в бане, и это оказалось тоже настоящим счастьем. И еще одно счастье ждало нас: женские камеры закрывались только на ночь, и день нам разрешали проводить на маленьком тюремном дворе. Правда, в камерах было множество клопов, и ночью я изредка лишь забывалась, в промежутках наблюдая густые движущиеся коричнево-черные волны насекомых, от которых шевелились стены. Клопы облепляли лица и тела спящих людей, и измученные люди не просыпались.
Но ко всему привыкаешь – и я стала засыпать. И воздух и клопы – это было лучше, чем духота или натертый до блеска паркет лубянской камеры, чем постоянный страх ночных допросов, чем вечный глазок и печатные правила поведения напротив моей чистой койки.
И люди вокруг казались прекрасными. В нашей камере не было уголовниц. Все эти женщины знали уже свою судьбу, и потому они жили в едином согласном настроении, которое можно было бы назвать примиренностью с судьбой, пренебрежением к ее жестокости. Это была мудрость перенесенного и преодоленного страдания. Впоследствии я наблюдала таких женщин, выпущенных на волю: ими овладевал постепенно мелочный дух забот, соревнования, измельчания. Они становились обычными. Но в пересыльной тюрьме, в этом вынужденном бездействии, в полной зависимости от чужой воли обнажалась лучшая сторона души. Сколько самоотверженных сердец, сколько трогательных историй узнала я за две-три недели пребывания в новосибирской тюрьме!
Запомнилась одна молодая учительница. Она отбыла уже длительный срок в лагерях и теперь ехала в ссылку куда-то на крайний север: «Вольную ссылку», – радостно подчеркивала она в своем рассказе. И туда ей разрешено было взять своих детей и старую мать (муж был расстрелян, и она несла за него наказание, как жена). С каким сиянием на лице мечтала она теперь вслух об этой ожидающей ее жизни, хотя знала хорошо, какая будет борьба, какие трудности…
– У меня хватит сил на все, только бы с ними! – говорила она и светилась счастьем.
Нам разрешалось покупать через надзирателя продукты с воли. Немного свежих овощей, молока, белого хлеба. У мужчин положение было хуже. Их не выпускали из камер на воздух, у них свирепствовала дизентерия. Неожиданно меня вызвали в контору тюрьмы. Человек, принимавший с поезда наш этап, обращается ко мне вежливо и с оттенком смущения:
– Вы знаете латинский шрифт?
– Знаю.
– Вы можете прочесть и написать название лекарства?
– Могу, – отвечаю я с запинкой, не понимая, к чему ведется речь.
– Так вот, вы назначаетесь заместителем тюремного врача. Нет, приказ не обсуждается, ему подчиняются, это приказ. Кроме того, поверьте мне, так вам будет лучше… вот халат, пропуск во все камеры. Вы можете назначать по своему усмотрению усиленное питание тяжело больным, и вам разрешается в исключительных случаях делать самой передачу… У вас ведь там муж?
Я поняла и во все глаза смотрю на своего благодетеля. Он грустно усмехается:
– Я хоть и начальник, но тоже из бывших заключенных. Недавно окончил срок. Я учитель в прошлом. Но это так, между прочим… Принимайте аптеку.
В «аптеке» – несколько медикаментов, а от желудочных заболеваний один салол. С салолом в сопровождении санитара и без конвоира я обхожу камеру за камерой и нахожу, наконец, бедного Александра Васильевича. Но, Боже мой, в каком виде, в каком состоянии нахожу я его! Уголовники отняли у него все необходимые вещи, он во вшах, голоден, но неизменно спокоен и улыбается мне.
Я думала, что страхи мои кончились, и больше я не попаду на допрос. Но вот снова меня сажают в «ворона» и везут по Новосибирску. Товарищ Жук, худой сдержанный человек, допрашивает меня и потом наводящими вопросами очень деликатно повторяет предложение сотрудничать, отвергнутое мною на Лубянке. По-видимому, он выполняет предписание свыше, из Москвы. Товарищ Жук оказывается более чутким, потому что говорит почти сочувственно и быстро заканчивает допрос. Разговор ведется в присутствии красавца-чекиста с мужественным и открытым лицом.
– Вот, – говорит Жук, переводя разговор на другую тему, – ваш будущий начальник товарищ Перминов.
Перминов разглядывает меня дружелюбно.
– Работу можно будет найти? – спрашиваю я.
– Приедете – поговорим, – отвечает тот уклончиво.
– У меня к вам просьба, – осмеливаюсь я. – На всю огромную пересыльную тюрьму нет врача и нет лекарств. Я замещаю врача, но я не врач, и в тюрьме дизентерия.
– Неужели? – вежливо удивляется Жук. – Мы примем меры.
На следующий день меня вызывают к тюремному начальнику, и я «сдаю аптеку» вновь назначенному врачу. Когда врач уходит, начальник говорит мне:
– Могу сообщить вам, место вашего назначения определено: это районный центр Нарымского края село Колпашево на Оби.
Он подводит меня к карте, я веду пальцем по Оби: у океана она широка и ветвиста, там знаменитое Березово…
– Нет, нет, южнее, – говорит начальник. – Но край дикий, необжитый. В самом Колпашеве вы проживете: там нужны молодые образованные люди.
Из письма к матери в это время: «12 августа 32 г. Новосибирск. Дорогие мамочка и отчим, я и муж получили назначение в Колпашево на Оби, это верст 300 от Томска к северу, большое торговое село, в продовольственном отношении прожить можно, надеемся найти и работу. Трудно найти жилище, но и это все, конечно, устроится. Зимой холодно, доходит до 60 градусов мороза. Других из нашего этапа назначили севернее и глуше. Ждем отправки через Томск, где нам еще придется посидеть в домзаке, ожидая водного этапа до Колпашева. Пока здоровы и вполне бодры. Я очень отдохнула от трудного путешествия. В Новосибирском домзаке женщины живут совсем по-домашнему, камера не закрывается, целый день во дворе. Получаем 350 гр. хлеба, остальное удается покупать с воли. Александру Васильевичу хуже, мужчин содержат строже, я ему передаю, что могу достать из еды. Работала несколько дней лекпомом при больнице, получала усиленный паек, но ушла, боясь заразы: ведь еще предстоит этап… Попробуйте на всякий случай послать немного сухарей на Томский домзак, пересыльной такой-то. Ничего ценного не посылайте, так как очень грабят товарищи по камере. Посылки идут аккуратно и пересылаются дальше, если пересыльный уехал… Пусть Александру Васильевичу родители тоже попробуют выслать на Томск посылку, ему труднее покупать, и он свои запасы прикончил, а я не знаю, смогу ли ему помогать в Томске. Умоляю тебя беречься для меня, мое счастье… Дорогой отчим, простите за все беспокойства, вам доставленные, может быть, я еще смогу вас отблагодарить. Когда же мы увидимся? Придет осень, пароходы кончают ходить в октябре…»
Следующий этап. Томский домзак. Двор просторный, обстроенный по краям одноэтажными бараками, туда вольно проникают воздух и свет. Он порос той самой низенькой травой-муравой, которая упрямо растет под ногами людей, как бы ее ни топтали. Ее мнут – а она растет и растет!
Осень на редкость теплая. Я целыми днями лежу на земле, подложив руки под голову, и гляжу в небо. Теперь-то я знаю, что за счастье дышать и глядеть в вольную синеву! Около меня иногда бегают и ласкаются ко мне два великолепных холеных ирландца. Это охотничьи собаки какого-то таинственного заключенного – троцкиста, кажется Сосновского. Он сидит в одиночке. Мне показывают его башню. Заключенный – первого класса, все говорят о нем с почтением: ему позволяют работать, выписывать книги и даже позволяют держать этих собак.
Меня ожидают новые радости: я получаю первые письма от матери, посылки с теплыми вещами, деньги. Я покупаю в тюремной лавочке свежее черносмородиновое варенье. Это варенье с черным хлебом – роскошь! Екатерина Павловна еле держится на ногах. Сейчас идет Успенский пост, она могла бы подкрепиться вареньем. Но Екатерина Павловна упорно отказывается от моего угощения. Я возмущаюсь, плачу, прошу – все напрасно! Но я не держу к ней обиды. Больше того, я думаю: что было бы на земле с Церковью, если бы она не имела в кладке своих стен таких твердых камней, как Екатерина Павловна?
У кого-то в камере оказалось маленькое Евангелие. Оно ходит по рукам и, наконец, достигает меня. Я читаю его на тюремном дворе, читаю в который раз в жизни эти скупые слова, собравшие воедино мысль стольких поколений.
«Может быть мое поколение – последнее, – думаю я. – С нами эта мысль уйдет из жизни. А, может быть, эти же слова заговорят по-новому с новыми людьми, как уже не раз бывало в истории?»
В который раз я читаю евангельские слова – и все по-другому. В этом их непонятная сила. Воистину, каждый берет из них ровно столько, сколько сам в себе накопил нравственным опытом жизни. Так на каждом оправдываются слова того же Евангелия: «Имеющему дается, а от неимеющего отнимается и то, что он имеет» {197} .
Пережитое раскрывает в моей душе новые окна в мир: «Познайте истину – и истина сделает вас свободными… и радости вашей никто не отнимет от вас» {198} .
Я лежу на траве и смотрю на небо. Ничего-то мне больше и не нужно до самой смерти, лишь бы сохранить полноту понимания этой минуты. И еще одно желание: не забыть, какие прекрасные люди встречаются мне сейчас – целый мир отвергнутых, будто уже и раздавленных… Нет, этот мир во всем своем величии существует!
Из письма к матери: «18 августа 32 г. Томск. Домзак. Дышу – не надышусь впервые за все четыре месяца чистым деревенским воздухом, так как двор наш окружен садами; греюсь на солнышке и думаю непрестанно о тебе, мое солнце. Если бы могли дойти до тебя мои бодрые светлые мысли, ты бы не печалилась, и я была бы до конца спокойна и радостна… Ах, если бы мне знать о тебе – где и как ты! Когда же я получу от тебя весточку! Простите за невольно доставленные вам страдания. Несмотря на все пережитое, знаю, что тебе было тяжелее, чем мне. Вот почему так хочется тебя увидеть, чтоб утешить, как быстро утешилась бы ты!
Радость моя, мамочка, не смею строить планов о твоем приезде, ничего не зная о тебе, о твоем материальном положении и здоровье, а также не зная того, в каких условиях окажусь я на месте. Но если все будет благополучно, то, по-моему, ты можешь попасть ко мне до закрытия навигации, т. е. до 1 октября.
Как устроилось у тебя с квартирой? Я надеюсь, что ты не очень хлопочешь о своей комнате, боюсь, чтоб не было из-за нее больше тревог, чем пользы. Мне вряд ли разрешат вернуться в Москву… Надеюсь, что себя я прокормлю, а со своей теперешней энергией надеюсь, что со временем заработаю и на тебя… Будь здорова и радостна. Прости, что я смела даже в шутку тебя упрекать, что ты меня родила. Жизнь бывает чудесна, и я тебя благодарю за нее.
Волосы мои отросли настолько, что я их заплетаю в две косицы по бокам, и они завиваются на концах. Физиономия ребячья – я нисколько не постарела за эти месяцы, пожалуй, даже помолодела, по крайней мере, могу сказать о внутреннем. Но все же дань пережитому – седые волосы, их очень и очень значительное количество. Впрочем, они появились еще в мае месяце».
Письмо А. В. Лебедева от 1 сентября 1932 г.
«Дорогая Наталия Аркадьевна! Кажется, нашему путешествию предстоит скоро окончиться. Сегодня должны будем отправиться в 12 часов ночи из Томска в Колпашево. Здесь мы находимся уже третью неделю и томимся безделием. Видимся с Лялей не каждый день, а когда видимся, то урывками. Ляля здорова, хотя ее тяготит обстановка путешествия с ожиданием. По приезде в Колпашево – окружной центр трех-четырех районов, надеюсь найти какую-нибудь должность. Утверждают, что у нас будет значительный паек. Может быть, Ляле удастся не служить, Вот, не знаю только, как обойдется с квартирой! В общем, предстоящая перемена образа жизни и обстановки соответствует некоторым из наших ожиданий. Мы бодры и ждем, скоро ли приедем. Как чувствуете себя Вы и здоровы ли? Привет дорогому А. Н. Ваш А. В.»
Ко мне подсаживается Клашка, смешливая, юркая, похожая на подростка. Клашка – вертель, так зовут ее, эту домушницу-воровку, специалистку по ограблению квартир. У нее высший срок – 10 лет лагерей. Но она нимало не горюет.
– Принимайте в компанию! – Клашка показывает стройные ножки в ярко-фиолетовых чулках, она их окрасила канцелярскими чернилами. В руке у нее бутылка с молоком. Она потягивает молоко из горлышка, как теленок. Потом обтирает горлышко грязноватым подолом своей короткой юбки и великодушно передает бутылку мне. Я отказываюсь.
– Не бойся, – говорит Клашка, переходя со мною на «ты». – Я здоровая, все игрушки в порядке, – и она делает неприличный жест. Но это просто по привычке.
– Откуда у тебя молоко? – спрашиваю я.
– Надо уметь работать, деточка, – говорит наставительно Клавка. – Чего захочу, то и получу! – хвастает она. Она лихо забрасывает пустую бутылку в дальний угол двора, перекатывается по траве ко мне поближе и пронзительным голосом заливается блатной песней о своей разнесчастной любви. Я запоминаю только две строки:
Негодяя я очень любила
И спала у него на груди.
Мимо нас проходит стройная молодая женщина со смугловатым, четко очерченным красивым лицом. Она строго смотрит на нас. Клашка замолкает. Эта женщина никогда никому не улыбается. Я знаю ее, она царица томских уголовников, может быть, и всероссийская царица – знаменитая бандитка Ольга. Это тайна, в которую мне бы не проникнуть, и только легкомысленная Клашка иногда по дружбе мне кое-что выбалтывает. Ольга получила высший срок взамен расстрела за какую-то блестящую «мокрую» операцию.
– Ольга – это да! – говорит Клавка с оттенком подобострастия и показывает мне свой большой палец. – Ольга ничего не боится!
– Хочешь, – говорит мне Клавка, проводив глазами Ольгу, – хочешь я устрою тебе с мужем свиданье в комендантской?
– Нет, Клавка, не надо.
Она удивленно смотрит на меня.
– Вот чудачка! Так я же недорого с тебя возьму: за три раза один твой шерстяной платок. Он мне на морозе пригодится, я еду к самому синему морю – к Ледовитому океану. – Она весело хохочет.
– Нет, Клавка, не надо, – повторяю я. – И платок тебе не дам. Он мне нужен самой, и его мне мать прислала.
– У тебя мама, а у меня мамочки нет, – притворно грустно роняет Клавка.
– Умерла?
– Совсем ее не было, я беспризорница – в пыли завелась! Так не дашь?
– Не дам!
– Иди ты к… – Клавка разражается похабным ругательством, брезгливо отстраняясь от меня. Она вскакивает и уходит, повиливая нагло бедрами.
Через несколько дней мой платок пропал. Пропал прямо из-под рук – я с ним не расставалась ни на минуту. Я спрашивала всех: и в камере, и во дворе; спрашивала, ясно понимая, что он пропал безвозвратно и что это Клавкино дело.
Каково же было мое удивление, когда я нашла свой драгоценный платок аккуратно сложенным у себя на койке.
Я снова в платке прошла по двору мимо Клавки, и она равнодушно отвернулась, сплевывая подсолнечную шелуху мне вслед и играя ножками в пронзительно-лиловых чулках. Потом я встретила Ольгу. Она посмотрела на меня, и я заметила, как еле заметно дрогнули углы ее красивого твердого рта: так Ольга улыбнулась. Я поняла – платок мне вернула Клава по ее приказанию.
Те же уголовники до нитки ограбили во время этапа Александра Васильевича. Когда он получил деньги из дома, уголовники заставили его выкупить у них его же собственные вещи и вновь украли их.
Наступили уже морозные утренники, когда нас погрузили в тесный трюм парохода и по широкой Оби отправили на север.
Колпашево – это линия деревянных домиков, вытянутых по высокому берегу Оби. Сзади наступает на них нетронутая и бесконечная тайга с высоченными кедрами, пихтами, непроходимым буреломом, зверьем, комарами и гнусом, до смерти заедающими людей и животных. Позади единственной колпашевской улицы жмутся землянки и хижины, наспех возводимые ссыльными ввиду приближающейся зимы.
Я поняла, почему нас с Александром Васильевичем прислали в Колпашево: здесь начиналось строительство нового административного центра, открывались учреждения, организовывались новые промыслы по рыбе, молоку, пушнине, дичи. Нужны были молодые грамотные люди: мы были здесь нужны.
Вместе с нами выгружались из парохода вольнонаемные рабочие, ехавшие на крайний север за «длинным рублем». Вперемежку со стройматериалами везли сюда и спецпереселенцев. Это были жертвы так называемого «раскулачивания», лучшие крепкие крестьянские семьи, разоренные и переселяемые целиком с малыми детьми и стариками. Они ехали рядом с нами в трюме парохода – заключенные последнего сорта; даже животных не повез бы так расчетливый хозяин. Мы наблюдали их рядом, за перегородкой: там они спали, плакали, что-то жевали, испражнялись, умирали.








