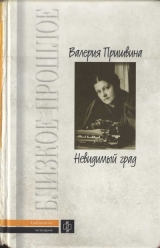
Текст книги "Невидимый град"
Автор книги: Валерия Пришвина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 38 страниц)
Оба мы хотели быть вместе и в то же время грозили друг другу расставанием. Мы сами ставили себе препятствия, и в ответ на это судьба не скупилась вокруг их нагромождать. Так черной тенью висело надо мной в ту зиму душевное состояние Александра Васильевича. После жизни в горах он замкнулся, по-прежнему не отходя от меня ни на шаг. Он теперь выучился по-новому мучительно молчать, и я чувствовала, как от него наплывают на меня темные тяжелые волны, на которые я старалась не обращать внимания. Второй тенью в моей жизни было расстроенное здоровье Николая Николаевича: его сердечная болезнь быстро развивалась. Врачи отправляли его в Кисловодск. Он был настолько слаб, что уезжал в сопровождении медицинской сестры. Я одна его провожала на вокзале. Он был простужен, кашлял у наглухо закрытого окна купе и сверху вниз смотрел на меня, стоявшую на перроне. Он был отекший, постаревший… Впервые после смерти матери я видела слезы на его глазах. Смотреть на него было невыносимо жалостно. И тут у меня сразу созрело решение, которое я не успела даже обдумать. Я поднялась на носках к закрытому стеклу и крикнула:
– Я еду к вам. Сестру вы отпустите: я пробуду весь отпуск с вами! – Я кричала в закрытое окно, помогая себе и жестами, и мимикой, только б он услышал, только бы понял меня. На лице Николая Николаевича появилась радость, потом недоумение, потом – ирония. В голове промелькнуло: а как же Олег, Змейка? Нет, я сделаю как надо, и больше об этом не думать, не колебаться.
Приближался день моего отпуска. От мамы шли тревожные письма: она ежедневно навещала больного, ведь от Ессентуков до Кисловодска рукой подать. Билет на Кисловодск у меня был уже куплен. Утром в день своего отъезда я получила от мамы телеграмму: «Н. Н. скончался. Тело везут в Москву».
Из письма, полученного вслед за телеграммой, я узнала, что мама была с ним в его последние минуты – он лежал без сознания. Обмывая его тело, она обнаружила на груди золотой крестильный крест: я знала, он не носил его раньше, иронизируя над обрядами. И тут я вспомнила, как последней зимой в пылу спора я сказала ему, что у нас «в самом главном разные взгляды». Он посмотрел на меня с упреком и ответил: «Откуда вы так уверенно это знаете?» Я не придала тогда значения его словам, самоуверенная, избалованная ненужной мне любовью. А он уже тогда, наверное, отыскал в материнских вещах и надел на себя свой детский заброшенный крестик. Какое значение вкладывал он тогда в этот поступок? В другой раз, прощаясь, он мне сказал: «Я только теперь понял, откуда ваша вера – она родилась от страданья».
Я вспоминала теперь эти отдельные черты, ставшие внезапно моим безнадежно непоправимым прошлым. Смерть обрушилась на меня и как бы смяла. День и ночь неотступно стояли передо мной за пыльным вагонным стеклом близорукие глаза, наполненные слезами. Когда, бывало, он снимал очки, чтобы их протереть, глаза становились у него невыразительными и безжизненными, как у слепого. Снова наденет очки – и глаза посмотрят с тем выражением нежности и иронии, с которым он уехал от меня навсегда. Я не узнаю теперь никогда, услыхал ли он мои отчаянные крики вслед трогающемуся поезду, понял ли, что я непременно приеду к нему?
Получив телеграмму, я бросилась к его сестре. Незнакомый человек открыл мне дверь. Не поздоровавшись, я пролетела мимо него в столовую, откуда слышались голоса. Надежда Николаевна сидела красная, заплаканная, судорожно комкая в руках носовой платок в окружении нескольких ближайших товарищей Николая Николаевича по работе. Они что-то горячо обсуждали, и все замолчали, как по команде, лишь только я появилась в дверях. Они смотрели на меня настороженно, и я остановилась в недоумении. Все встали, почтительно откланялись, стали подвигать мне кресло, Надежда Николаевна ласково, слишком ласково меня обняла. Оказалось, моя мать прислала одновременно и ей телеграмму. Я чувствовала, что нахожусь среди чужих людей, но была настолько поражена случившимся, что все проходило мимо меня, не задевая сознания. За мной ухаживали, кто-то деликатно напомнил, что я – вдова, что на похоронах должна быть в трауре.
Гроб пришел запаянный. Его так и не вскрыли, и похоронили Николая Николаевича рядом с матерью его на Ваганьковском кладбище. Это был конец. Теперь я покорно выполняла все, что ласково, но настойчиво требовала – нет! – просила у меня Надежда Николаевна. Странная ласковость и почтительность окружающих скоро разъяснилась: я оказалась единственной законной наследницей всего имущества Николая Николаевича, его авторского права на книги, на патенты изобретений на родине и во многих странах мира. Это было целое богатство, неожиданно свалившееся на меня. И они, эти люди, окружавшие Надежду Николаевну, и сама она меня боялись. Откуда им было знать в эти минуты, что я сужу себя еще строже и беспощаднее…
Я немедленно подписала то, что было нужно: отказ от своих прав в пользу сестры покойного. Я видела их удивление, видела нескрываемую радость Надежды Николаевны, но холода вокруг меня не убавилось. Я не виню Надежду Николаевну, достаточно и того, что она ничем не укорила меня за брата. Больше мы с ней не встречались.
Товарищи Николая Николаевича, свидетели моего добровольного отказа от своих прав, начали было хлопотать о пенсии для меня: в бумагах покойного нашлось специально оставленное им письмо с настойчивой просьбой об этом. Да и при жизни он не раз мне об этом «на случай» напоминал. Но я не чувствовала себя вправе ее получать, хотя пенсия развязала бы мне все узлы, может быть, открыла бы дорогу в горы, дала бы покой за мать. Посоветовавшись с о. Романом, я снова поступила вопреки его совету и прекратила начавшиеся было хлопоты – так было спокойнее для моей совести и правильнее.
На похоронах среди любопытно-безразличной толпы я увидела лишь одного человека: в почетном карауле стояла женщина с грубовато мужественным лицом, которая безутешно плакала, никого не замечая в своем горе. Это была Людмила Владимировна Маяковская. Потом она первая подошла ко мне и крепко пожала руку.
Мы встречались с нею после того много раз. Она тянулась ко мне, как к самому близкому, что осталось на земле от любимого ею человека, она сурово и откровенно рассказала мне о своей неразделенной любви и преклонении перед Николаем Николаевичем, я отвечала ей той же откровенностью. Людмила Владимировна делала трудные для себя попытки сблизиться со мной, но понять совершенно чужой для нее мир не могла. Однако ее любовь, перенесенная каким-то отсветом на меня, была столь щедра, что она не обращала внимания на эту разность. Я же продолжала из благодарности бывать в семье Маяковских: мне нравилась какая-то старомодно-добротная порядочность этих людей – матери и двух сестер, их взаимная любовь, обожание брата. Из их рассказов я сделала свои молчаливые выводы, что Владимир Владимирович был человеком страдающего и очень нежного сердца. Внешнее поведение, в котором его укоряли, было юношеской бравадой. В то время много раз мне представлялась возможность познакомиться с ним, но я верным инстинктом знала, что ничего из этого знакомства не получится: я чувствовала себя для этой встречи слабой и незрелой.
Мне казалось, что в доме Маяковских царили одновременно и честность и мертвенность, словно я попадала на кладбище духа. В семье, где родился великий поэт, «наступавший на горло собственной песне», действительно не было слышно никакой душевной музыки, и любовь Людмилы Владимировны, возможно, была единственным лучом поэзии в ее жизни. Я силилась – открывала нараспашку ей свою душу, но она не могла найти в нее вход, как слепая. Так и бродили мы друг возле друга в течение нескольких лет, пока новые непредвиденные события не развели нас – и не по нашей вине.
Во время похорон в толпе бывших студентов Института Слова я увидала и Александра Васильевича. Он почему-то не подошел ко мне. Да и самой мне было не до него. Возвращались с похорон мы с Шурой, не отходившей от меня в те дни. И вот она, всегда молчаливая и робкая, заговорила. Страшно стесняясь, она сказала, правда, лишь несколько слов и даже осеклась на полуфразе.
– Ляля, – сказала она, – ты не боишься, что Александр Васильевич? – и замолкла.
– Что с ним может тоже так случиться? – спросила я. Шура молча кивнула головой.
Вывело меня из нравственного потрясения мамино новое письмо: ее здоровье сразу рухнуло, и она слегла одна в чужом городе с обострением всех своих болезней, затихших было под влиянием постоянных гипнотических внушений Николая Николаевича. От маминого письма я очнулась и кинулась на вокзал покупать билет в Ессентуки.
Перед отъездом мне нужно было еще непременно повидать Михаила Александровича. Дело в том, что накануне он встретил меня на улице, когда я шла с кладбища, это был, по-видимому, девятый день смерти. Я была все в том же крепе и черном платье, которые от меня требовала Надежда Николаевна.
Михаил Александрович странно поглядел на мой траур, съежился, будто от холода, что-то пробормотал и быстро ушел от меня в переулок. Я ничего не поняла.
Жил он в то лето у друзей на станции Лобня под Москвою. Я нашла его лежащим в постели после ночного сердечного приступа.
– Зачем этот маскарад, – сказал он, показывая на мой креп. – Как будто мы тебя потеряли. Это не ты.
– Как можно! – воскликнула я. – Это ребячество с вашей стороны, вы должны понять все обстоятельства! – И я принялась рассказывать о своем долге перед Николаем Николаевичем, даже перед его сестрой; о его благородстве, страдании, заботе обо мне и моей матери. Но Михаил Александрович не сдавался: у него была своя твердая логика и своя правда.
– Мужчины не заслуживают жалости в своем отношении к женщине, которой они домогаются. Ты не должна была подчиняться этому чувству. Ты не знаешь мужчину: ему не нужна и даже неприятна твоя жалость, а чего стоила она тебе! Я боюсь за тебя, за твою душу.
«Не умрите от любезности» – вспомнила я его полушутку при первом знакомстве, но промолчала: у меня была тоже своя правда, и на этот раз наши «правды» не совпадали.
Мне пришлось заночевать у Михаила Александровича, и в ту самую ночь приснился мне удивительный сон, это был второй сон, за который Михаил Александрович опять назвал меня «сновидицей». Он отнесся к нему очень серьезно, и мы расстались, не в силах сбросить с себя о нем воспоминание. Я не берусь сейчас решать вопрос о значении снов, об их происхождении. Я расскажу лишь тот свой сон, ничего не изменив в его содержании.
Дверь отворилась, и вошел Михаил Александрович нарядный, торжественный. Он был в роскошной шубе с бобрами, в такой же высокой шапке, как древний боярин или патриарх. От него исходило сияние: это блестел свежий, еще нерастаявший снег, покрывавший обильно его голову и плечи. Снежинки, как россыпь алмазов, сверкали на темном меху. Михаил Александрович сбросил верхнюю одежду. Теперь на нем был подрясник и священническая епитрахиль. Не говоря ни слова, он жестом подозвал меня к себе. Я подошла и низко наклонила голову. Он положил на нее епитрахиль, и я почувствовала усилие его руки, которым он все ниже и ниже нагибал мою голову. Он меня повел, и я шла, накрытая епитрахилью, согнувшись и ничего не видя перед собой. Мне было очень трудно идти, но я ни о чем не спрашивала и терпела. Все совершалось в полном молчании. Наконец, я увидала, что мы подошли к престолу: антиминс, покрывавший его, был на уровне моей опущенной головы. По четырем его краям я видела зашитые в ткань частицы от останков святых мучеников. Они шли длинным сплошным рядом, подобно драгоценному орнаменту, по краям престола. Михаил Александрович, все не снимая епитрахили, нажатием руки заставлял меня прикладываться к этим мощам. Я медленно обошла весь четырехгранный плат, по очереди прикасаясь губами к останкам святого и, как я понимала, близкого мне человека. Так обошла я весь престол и остановилась. Рука, лежавшая на моей голове, поднялась вместе с епитрахилью. Я выпрямилась и стояла теперь перед Михаилом Александровичем, который смотрел на меня со спокойным и довольным лицом, и говорил мне: «А теперь, наконец-то, я буду заниматься тем, чего желал всю жизнь: творить непрестанную молитву».
Таков был сон, исполнившийся вскоре во всем внутреннем своем значении: в нем не оказалось ничего не значащего и не сбывшегося до малейших символических деталей.
Я неожиданно вспомнила сейчас, как в первый год обучения в Институте Слова пришла на занятия по «рассказыванию». Они были необязательны для студентов, и я попала на них в первый и последний раз. Занятия эти посещала несколько своеобразная публика: это были главным образом педагоги-дошкольницы и библиотекари, исключительно женщины и притом в большинстве своем немолодые. Ни с кем из них я не была знакома. В тот день было задание рассказать экспромтом какой-либо свой сон. И я рассказала перед классом один недавний свой сон, поразивший меня и крепко запомнившийся. Я помню его и сейчас, но дело не в его содержании, и я не буду это содержание сейчас передавать. Дело в том, что я рассказала сон свой доверчиво и старательно, не решаясь изменить в нем ни единой мелочи. Сон был строг и значителен именно символичностью этих мелких деталей.
Результат рассказа был самый неожиданный. Вместо того чтобы обсудить качество моей работы, то есть то, как я справилась с задачей рассказа без подготовки, все слушатели объединенными усилиями восстали на меня за его содержание: они обвинили меня в том, что я выдумала свой сон, потому что таких снов не бывает.Я молчала и все усилия направляла к тому, чтобы не заплакать от обиды. Наконец за меня заступился руководитель профессор Шнейдер и подавил непонятную злобу раздраженных женщин. Я не раз вспоминала это происшествие с недоумением: за что они напали на меня, почему не поверили? Я и сейчас этого не понимаю, но все же это был жизненный урок, учивший меня сдерживать свою искренность и спрашивать себя, перед кем ты хочешь открыться, и помнить: перед чуждым сознанием искренний неизбежно будет понят как лжец.
Мне вспомнилось это унизительное и тяжелое переживание в связи с только что рассказанным сном, который, возможно, многие люди также сочтут подтасовкой под грядущие события, о которых мне предстоит рассказать, и только потому так сочтут, что он полностью осуществился. «Так не бывает», – скажут они.
И все же именно этот сон непереходимой чертой лег между пережитым и надвигавшимся, подводил к стоящим уже на пороге трагическим событиям моей жизни.
А пока я еду в Ессентуки выхаживать там больную мать. Меня провожает на вокзале Александр Васильевич. Поезд трогается, и я увожу с собой новое выражение неизменно-скрытной улыбки моего верного самого давнего друга…
С Олегом, тщетно ожидающим меня на Змейке, идет у нас лихорадочная переписка. Я написала ему из Москвы о своих сомнениях после кончины Николая Николаевича, написала о том, что, может быть, не должна была оставлять его… Некоторые из писем Олега в Ессентуки сохранились.
«29 июля 1927 г. Сегодня получил твое письмо. Сейчас ночь, но никакой надежды заснуть нет, и пишу тебе ответное. Милая Ляля, я не могу исполнить твоего желания (и даже требования) не писать тебе по поводу произошедшего. Ну, что ж, не читай этого моего послания, выбрось его, но я все равно напишу то, что на душе. Я не знал того человека, о котором мы теперь думаем. При его жизни ты даже не хотела назвать мне его имени, не пожелала предоставить случай повидать, сказав: „Разве что он придет к Церкви“. Да будет так. Господу было угодно. Во всяком случае, у меня к нему была потенция расположения. Но о тебе хочу сказать, хотя и не умею.
Ты знаешь, о каких словах твоего письма я говорю, говорю, хотя бы ты вовсе его забыла. Если я знаю, что такое скорбь, то вот именно по таким твоим словам. Они, кровавые вехи, остаются в моей памяти. И вот еще раз…
У меня есть прозрение о тебе, и его ничем разбить нельзя. Оно мне всего дороже: это имя, которое дал тебе Сам Спаситель, – и ты от него отрекаешься.
Через это имя твое я только и увидал, хоть мало, сущность учения Христова о Царстве Небесном, а до того пребывал в неведении: слышал я о Царстве лишь как о царствовании Бога в человеке. И вот ты считаешь своеволием свое принятие этого имени, ты смеешь говорить, что скорее воля Божья была в том, чтобы быть тебе женой человека. „При всех бывших обстоятельствах…“ Да ведь нет обстоятельств перед лицом Христовым – есть только имена, которые Он дал человекам. И ты смеешь задним числом сомневаться в правоте своего девства! Пусть бы тот человек был самый святой муж, пусть ты спасла бы его из бездны и возвела до святости, пусть бы ты была перед ним виновата кругом и связана тысячами обещаний – ты не смела бы сделать этого таким путем – через брак. Земля бы не стала тебя носить. Все, все прощается человеку, все падения, но не невозвратное отречение от имени благодарованного.
Не понимаю, как Батюшка мог сомневаться! Или забыл он, что самому же ему предстояло тебя вопрошать: „Вольною ли волею, не нуждою ли?“ – кажется так. Младенцу ясно, что по самому существу таинства хула на Духа Святого делать из брака как послушание, так и жертву.
Ляля, если бы ты знала, с какой страшной болью пишу все это, если бы ты знала далее, что твое умолчание об этом ради меня есть как раз самое острое оружие, проходящее душу…
Да что, впрочем, я от себя говорю. Знаю все равно, что ты мне не поверишь, потому что я не святой, потому что я для тебя глупенький мальчик, который не все может понять, а для Бога – несчастный, измученный грехами человек.
„Истинно любит человека тот, кто любит мысли его“. Все более изумляюсь мудрости этих слов Сковороды {177} . Вот почему для меня твоя мысль о твоем девстве (а эта мысль есть само это девство – оно в ней и состоит) – есть „быть или не быть“. Это для меня – краеугольный камень мироздания. Если он разрушится – я останусь наедине с Богом и со своими грехами.
Да, вот эта мысль – и есть девство человека. Все, все помыслы греха, все слова и дела – все они сон, уничтожаемый покаянием. Но если уязвлена мысль – ранено сердце. Господи, но ведь бывают же люди, которые о первом, т. е. о грехах, сокрушаются, когда второе, главное, – в опасности!
Верую, что Господь, „который любит тебя более, чем я“ и чем ты сама, уврачует эту рану (а не другие, воображаемые). „Останься, Олимпиада, девой, купно же и вдовой“. Да оправдается слово это – и в мысли твоей, в сердце твоем.
Никогда не ждал тебя как на этот раз, никогда не было так нужно тебя повидать – по крайней мере, так казалось.
Писал тебе об увлекательном секрете, который готовился к твоему приезду. Теперь все равно скажу: это был только всего-навсего дом. Моя хата уже стара, и мы задумали построить новый дом. В четыре дня мы вывели основание, так сказать, скелет. Еще в три дня покрыли крышу. Теперь занялись стенами, большая часть материала есть. Скоро надеюсь переехать в новый дом. Работаю, не спеша, легко. Вот моя участь: все строюсь. Придется ли жить?
В Геленджик не могу приехать. Размышлял, но чувствую, что это было бы человеческим своеволием. Конечно, очень хочу, но не смею. И, однако, все-таки поехал бы, но благословения нет. Когда-то приведет Бог свидеться? Ведь в Москву не поеду. Придется ли в этой жизни?
Мне самому страшно, как много моего существа в тебе. Но, может быть, это будет то игольное ухо, через которое Господь протянет тяжкий груз моих немощей.
Как долго ты не писала! Почему? Что стоило с дороги бросить открытку? Если можешь, все время (пока в отпуске) держи меня в известности о своем адресе.
Ляля, прощаешь ли ты мне все, что написал? Если не хочешь – не отвечай. Скажи только, что получила письмо. Ты думаешь, что понимаешь меня, ты ведь мудрая, но понять, значит согласиться. А ты не согласна. Это начало смерти во мне.
Мог бы приехать в Геленджик, настояв на своей воле, уломав о. Даниила. Но надо же когда-нибудь поверить, что через старца говорит Господь. Как ехать без его „Бог благословит“? И потому, несмотря на скорбь, решительно не могу поехать. И теперь мерилом воли Божьей остается мамина и твоя воля. Наперед покоряюсь.
Да, ты пишешь, что почувствовала, что и ты и любимые смертны. Но что же переживаю я! Ночь прошла, начался другой день. Ляля! мне было бы легче, если бы ты умерла, не написав мне того письма из Москвы. Тот камень духовный,в котором мне и сомневаться не приходило в голову, вдруг заколебался.
Вот когда узнал я недостоверность всего нового и удивительного, что открывалось нам в Царстве Небесном. Все, как подрезано. Только Господь и Крест – недвижны.
Ляля, веришь ли моей искренности? Я сейчас как человек, душу которого пронзили и оружие оставили в ране. Ты требуешь, чтобы я не говорил тебе об этом, но я день и ночь не думаю ни о чем другом. Я потерял уверенность во всем… Да, было совершено дело страшного риска: я утвердил свою веру, упование, знание, самого себя – не на одном Господе, но еще и на человеке. Не на праведности, даже не на любви, а лишь на мысли: на сердце его. И эта опора подалась.
Это самая страшная скорбь, какую я помню, это первая скорбь. Сейчас я очень беспомощен – повис в воздухе. Слова не имеют силы передать то, что я чувствую.
Впереди повисла черная завеса. Совсем не знаю, что будет. Не в вещественном смысле – это пустяки, в духовном. Как думать, как чувствовать, как жить?
Суббота. 30-го. Мысли по пути на мельницу. Если бы ты стала женой человека – пустое. Но когда ты свое девство объявляешь человеческой ошибкой, лишь использованное Богом во благо – это клевета на Господа. Это ложь о Боге.
Ты дерзнула отвергнуть данное тебе Господом имя девы…».
Здесь Олег преувеличил: я лишь усомнилась в правильности резкого шага ухода от Николая Николаевича…
«За эти сутки не было ни секунды, что не думал бы о тебе. Меч остается в ране. Все умерло: и лес, и водопады, и скалы, и вся вселенная.
Не знаю, как смотреть на мир. Он весь переменился, учиться ли видеть его без тебя – это равносильно тому, чтобы вновь родиться, т. е. не возродиться, а просто невеждой войти в неведомый мир (но воли к этому нет), или, может быть, вещи опять станут на свои места? Нет, простое заверение не поставит их назад {178} .
Не осуждай, Ляля, постарайся понять, ты ведь считаешь, что знаешь меня, и я так до последнего времени думал, а вот ты запнулась.
Бог, который мог сотворить тебя, мог создать такогочеловека, конечно, силен будет и заступить в душе моей место этого человека… Нет, и это невозможно.
Но пока ты не отречешься от еретического мнения, что брак может быть послушанием и жертвой (здесь настроение в корне антихристианское), что девство, при каких бы то ни было обстоятельствах, может быть своеволием, не хочу тебя ни в этой жизни, ни в будущей, хотя не мыслю ни первой, ни, тем более, последней без тебя.
Дописываю 31-го. Не было случая отправить письмо. Сам пошел бы для этого, но не имел возможности. Завтра отправляю с риском, что письмо не застанет тебя в Ессентуках.
Тебе легче настоять перед мамой, чем мне перед о. Д. Иноку мчаться к возлюбленной для о. Д. все же странно, как он ни расположен к тебе. Он сказал: „Вот посмотришь, приедет!“ Но я не надеюсь. А тебе ехать ко мне в глазах мамы вполне естественно.
Господь с тобою. Целую тебя. Лель.
В какой мере твое имя обитает в моем сердце в духовном значении этого слова, знает Бог. Но что твое вечное имя, твое девство самым физическим образом обитает в моем физическом сердце, это я знаю хорошо по той реакции, которой оно отвечает на всякое действительное и воображаемое опасение за него, вообще за тебя.
Что же мне делать, что у меня такая мнительность… такой уж я глупый.
Думал, кто я такой, что смею обличать тебя? Попробовал вычесть у себя то, что получил через тебя, через о. Д. и других… и стало страшно.
Но не о грехах обличаю, а об ереси, а это – долг каждого христианина.
Не могу ни думать, ни заниматься, пока не получу твоего ответа, так как временно не существую. Не знаю, как быть далее, с тобою в сердце или без тебя, и в некоем новом неведомом образе бытия непредставимом. Лишь на Господа надежда, что Он укажет. Но хочется верить, что это не понадобится…
Никогда не думал, что настоящую скорбь познаю через тебя и за тебя. Ляля, если ты считаешь полезным и нужным приехать, то, может быть, мама согласится на то, чтобы ты не обитала долго в этих местах, может быть, вредных для склонных к малярии, но мы могли бы совершить легкое путешествие пешком, например, на Красную Поляну. На это пошла бы какая-нибудь неделя, а в пути и на ночевках было бы достаточно времени поговорить».
«2 августа 1927 г. Вчера отправил тебе и маме по письму. Первая волна скорби, печали, возмущения, сочувствия прошла, и захотелось лучше понять тебя.
Догадки таковы. Если бы ты покинула его ради того, чтобы уйти в пустыню, в затвор, как те подвижницы, о которых мы знаем из житий, мук бы не было.
Но ты ушла от него в „зеленую чашу“, где радость о любимых. Ты ушла вообще не к одной скорби, но и к радости. И он знал это, и прощал, и готов был даже трудиться, медленно умирая в одиночестве ради того, чтобы ты где-то за тысячи верст от него радовалась. Он готов был никогда тебя не видать, чтобы ты жила где-то вдали в своей радости, какова бы она ни была.
Эта жертвенность, красота медленного умирания стоит перед тобой, ты спрашиваешь: „А что же сделала я?“ Но жертва эта, как она ни высока, – вне Церкви, и только потому она способна возбуждать в тебе твои муки, кои – от лукавого.
Ты посмела думать, что брак может быть послушанием, налагаемым Церковью, – „повелением церкви“ (т. е. Божьим), вопреки прямому вопрошанию Церкви о свободномсогласии. Будучи со стороны Церкви налагаемым послушанием, он, очевидно, с твоей стороны имел бы характер жертвыради любимого (неоднократно повторенная тобою еретическая мысль, между прочим, и в письме к Сереже Скороходову: „Чтоб облегчить борьбу любимому, я пошла бы и на брак“. Пусть эти слова в прошлом, но ты только что подтвердила их).
Пока эта ересь не исторгнется из сердца, твои страдания не будут для тебя дверями в Царство Небесное. Ты не виновата, что тот человек не пришел сам к Царству Небесному и небесной неумирающей любви, что он медленно умер: нет вины у тебя перед Богом в том, что ты приписала Ему ложные веления, что впала в подлинную ересь. Обличаю тебя, как судья, притом не знающий никаких „смягчающих вину обстоятельств“, не желающий слышать никаких оправданий, и, вместе с тем, жду твоего ответа с большим трепетом, чем подсудимый. Ты понимаешь, что ревности во мне нет, кроме ревности за Христа. Люби, кого хочешь: я только радуюсь созерцанию этого образа любви Христовой в человеке.
Велик смысл учения о творении из ничего – девственном творчестве, в отличие от рождения мира у язычников (гностиков, индусов, египтян, персов). Томление, умирание в жертве, отречение от девства ради спасения кого-то – все это из арсенала гностических ощущений, все это ложь, вызывающая гнев Божий.
О возможности твоего приезда. Как он ни желателен мне, обдумай внимательно страхи твоей мамы. Кто знает, может быть, она и права, хотя никаких оснований к тому нет. Пишу это с болью, так как повидаться будто нужно. Но, может быть, нам нужно преодолеть эту новую преграду на пути (твою ошибку мысли, прямо скажу – ересь, в коей и я косвенно повинен) порознь, хотя это тяжело. Да удастся ли вообще преодолеть!
Пишу об этом потому, что попросту не могу взять перед мамой ответственность за твое здоровье – мы ведь все под Богом ходим, хотя, по-видимому, климат у нас хороший, и опасности лихорадки нет. Подумай, посоветуйся и решай. Не видать тебя для меня скорбь великая, но я ведь готовлюсь к возможности не видать тебя ни в этом веке, ни в будущем, и потому должен найти силы перенести это временное расставание. А все-таки как хорошо было бы, если бы ты приехала хоть на день!
Напиши скорей. Если будешь в Геленджике (туда, как и писал, решительно не могу приехать сейчас), сообщи свой адрес, тогда к вам заедет Марина, покажет написанные на моем хуторе этюды и расскажет о нашем житье.
Да просветит Господь сердце твое и ум твой и вернет тебя к себе, любимая детка. Прости. Лель».
«14 августа 1927 г. Милая Ляля, твое письмо – ответ на два обличительных послания – меня обрадовало. Но оно не совсем поставило точку на всей этой истории, и потому, хотя это и неприятно, я еще раз об этом потолкую.
Вспомни, что ты написала в упоминаемом письме: „Уверена, что Церковь при всех бывших обстоятельствах не позволила бы мне от него уйти и повелела бы быть его женой“. Все это было еще подчеркнуто. Дальше ты писала: „Но я поступила беззаконно, хотя в тот момент по совести. Буду надеяться, что даже неверные поступки, совершенные по вере, Господь, по милости своей, использует во благо“.
Еще ты писала (в своем злополучном письме): „Вчера похоронила. Совесть мучит, но все в руках Бога. Многое переоцениваю и вижу заблуждения. Ты ничего не знал и молчи“. Вот это было падение, о нем-то я и писал, а ты опять на старое поворачиваешь. Ты все стараешься мне объяснить, „как полагала ты возможность брака без твоего в нем участия“, и думаешь, что я за это тебя сужу. Да хоть бы ты просто по страсти собралась замуж, ну, что же, поскорблю о том вместе с тобой, сердце сожмется жалостью и любовью, а душа скажет: „Все давно Господь забыл“ – и только! Тут и объяснять нечего.
Но то, как ты в 1927 году, уже прощенная, уже внутренне инокиня, могла мучиться совестью, что оставила человека, и думать, что твое иночество – своеволие, а брак был бы заповедью Божьей!
Ну и довольно об этом. Что же касается до былой мысли о возможности девства в браке, то она, конечно, неверна, она неправославна. Я верю, что ты не участвовала сама в грехе, и очень хорошо понимаю это, но мысль твоя могла родиться именно в том состоянии транса, в котором ты была. Выход всегда есть: ты ведь нашла его! Но тот транс был явным влиянием Сатаны. Он имеет доступ в твое сердце через одну дверь.
Помнишь, я упрекал Ал. Вас. в склонности к зигзагам мысли? Он готов принять какую-нибудь мысль только потому, что она невероятна и как-то наизнанку умна. Он ведь мне дорог, а это болезнь, потому я и говорил об этом, хотя, как грешный человек, не умел, как нужно сказать. У меня при всех моих пороках мысль прямолинейная и сердце тоже, кажется. Поэтому я это и замечал. Так вот, у тебя есть некие „зигзаги сердца“. Это все – плод общего наследственного вырождения, дряхлости человечества. Тебе близки некие ложные жертвы, странные изломы, хотя постепенно все испаряется.
Мама писала мне дважды о тебе. Первый раз, что ты прислала ей отчаянное письмо. Она тебя горячо жалела: „Бедное дитя! Она во всем себя упрекает, она не знает, что всякая жалость в этой области только ложь. Как могла и как умела написала ей, что вылилось из переболевшего тем же сердца“.
А второй раз, забыв о том, что уже раз писала мне, или может быть, если ты ей ответила, по поводу второго письма (хотя сомневаюсь) снова упоминает, но несколько иначе, приблизительно так: „Ляля прислала странное, непохожее на нее письмо, полное сомнений, нужно ли во имя того-то и того-то жертвовать тем-то и тем-то…“
Если говорить „в превосходной степени“, т. е. усиливая крайности, я сказал бы, что ты бываешь праведна в своих грехах и грешна в своей праведности. Чиста в падениях и запятнана в покаянии. Вот этот „зигзаг“ и разрывает мне сердце. Все, что я говорил тебе о „печальной королеве“, есть неудачная попытка объяснить тебе этот зигзаг, который ты в сознании своей мудрости не хочешь понять и признать.
Ну, что же, детка, увидим ли твой лик? Как странно, для меня постепенно весь мир стал „приходить в себя“ – не я, а весь мир. Я не знал, в какой степени мир освещен для меня лучом от твоего лика. Все-таки надеюсь увидеться.
Только что получил письмо от мамы. Снова упоминание о тебе: „Имеешь ли известия от Ляли? О ней тоже болит душа моя. Так горько было письмо ее по поводу смерти ее друга, так полно сомнений, правилен ли такой путь, какой избран ею. Может, это первый невольный вопль после внезапного удара, а не какое-либо устойчивое настроение? Дай Бог!“
Нашел в Сочи у кого остановиться в случае нужды. Не знаю, может быть, Господу угодно, чтобы мы преодолели все произошедшее „на расстоянии“, а тебе пришлось даже преодолевать двойную скорбь – смерть близкого человека и мои упреки. Но все-таки надеюсь увидеть тебя. Солнце так ясно светит. У нас, наверно, все эти сомнения растаяли бы. Ну, прости, Ляля, довольно строчить. Господь с тобой. Целую тебя. Пойми и ты мое кажущееся непонимание. Теперь ведь я помирился – это остатки. Прости. Лель.
Это мне ли объяснять, что, готовясь к браку, внутренне хранила девство? Ляля, я перед тем первый раз увидел красоту девства на св. Софии, так как в человеческом мире ни в ком его не видел, а любить я мог только девственность. И потом первый (и последний) человек, в котором я видел девство, это была ты.
С самого первого дня встречи. Мне ли доказываешь? Первое сомнение зародило теперешнее твое письмо, побоялся, что ты теперь, в 1927 году, на моих глазах его теряешь».
И все-таки мне удалось вырваться на несколько дней к Олегу. Он встретил меня на сочинском вокзале, без улыбки, с провалившимися глазами на оливково-бледном лице. Он молча взял мой чемодан, и мы пошли на Змейку, раньше пригородными садами, потом узкой тропой между зарослями. Мы изредка перебрасывались короткими, ничего не значащими словами – слова сейчас были не нужны.








