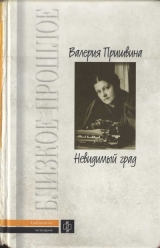
Текст книги "Невидимый град"
Автор книги: Валерия Пришвина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 38 страниц)
И всплывает со дна души раз мелькнувшее и спрятанное там поспешно впечатление: это было пять лет назад. Олег рассказывал, как он вез вместе с Настей своего крестника маленького Сережу на Кавказ и, когда выходил с ним погулять на остановках поезда, все принимали его за отца, и сочувствовали, и одобряли, и Олегу это было приятно. Олег рассказал мельком, весело, не принимая случая к сердцу, а меня рассказ его задел за живое, и, помню, мелькнула острая мысль: «Ему эта роль понравилась. Почему бы не ехать так ему с нашим ребенком?» Мысль была запретная, и я ее торопливо обрезала. Это был первый и последний раз, когда я пожелала своего ребенка.
Обь тронулась. И мать моя отправилась в Нарым, повторяя прославленный путь «русских женщин». То были восемь вошедших в великую русскую историю жен декабристов, а здесь незаметные в своем множестве жены и матери бесчисленных русских людей, безвинно высланных в отдаленнейшие места огромной страны. Мама проезжала Тюмень, где встретил ее с цветами и проводил старый друг Борис Дмитриевич Удинцев, отбывавший ссылку. В Томске она застала еще Людмилу Вячеславовну Кафка и познакомилась с ней.
Когда я увидала мать, спускавшуюся ко мне на берег по трапу, я уловила в себе странное разочарование: «Этого ли я так ожидала, об этом ли так томилась целый год?» Чувство было мимолетно, и я его тут же подавила. Но оно было не случайно, и, как ни тяжко, от этого воспоминания мне в рассказе уже не уйти. Я еще раз поняла в то лето, что на самом деле я жду чего-то или кого-то совсем другого, как бы ни старалась я убедить себя и окружающих, что мечтаю только о будущей жизни с мамой…
Мама прожила с нами все лето и уехала с последним пароходом. Как хотелось мне проводить мать до Томска: создать ей иллюзию свободы! Я решилась попросить об этом нашего начальника Жука. Он ответил вопросом на вопрос:
– Вы знаете, что я не имею права вам выдать такое разрешение?
– Но вы можете меня отпустить под честное слово, – ответила я.
– Хорошо, – сказал он, – поезжайте, только, вернувшись, немедленно явитесь ко мне.
Так я в положении «вольного» человека проводила до Томска свою мать. Хотя и Жук, конечно, знал, что я не убегу, и я знала, что на каждом пароходе есть зоркие глаза его сотрудников. Зачем он говорил мне о своей хорошей среде, интересных людях, верных товарищах? Может быть, он сам так искренно думал? Разве не знал он, что делается под его началом, как страдают и гибнут бессмысленно невинные люди? Или вся эта даровая рабочая сила, при огромных, спешных заданиях строительства, не помещалась в поле зрения начальника? Эти вопросы задавала тогда себе не одна я: неужели они не понимают? И сейчас, пожалуй, еще трудно ответить на вопрос, понимали ли исполнители этой злой воли, что они делали…
В последнюю нашу колпашевскую зиму постучал к нам однажды человек и сказал:
– Я слышал, вы москвичи и образованные люди. Вот я и пришел к вам. Я – Клюев, Николай.
– Поэт? – воскликнули мы в один голос.
– Да, поэт, – ответил старик с горечью и устало сел на табурет. – Нет ли чего-нибудь у вас покормиться? – спросил он, согревшись.
Клюев был еще не стар: его старили борода и манера держаться. Был он до крайности неустроен. Он часто стал заходить к нам. Я кормила его, чинила ему одежду, а он сидел и читал, вернее, пел своим «клюевским» неповторимым песенным речитативом неизданные колдовские поэмы, так, наверно, и пропавшие.
Он читал последнюю часть «Песни о Великой Матери» под огонек нашей коптилки перед замерзшим окном, и мы слушали его, забывая свое горе. И не было в те минуты для нас ни холода, ни темноты, ни таежной пустыни.
Почему я не записала тогда этих поэм? Не знаю, как и ответить. Знаю одно – судьбы русской литературы меньше всего меня волновали в те дни, я и не думала об этом. Мы уехали – он остался. Слышала, что, освободившись, он умер внезапно на вокзале в момент отъезда. «Песнь о Великой Матери» и еще многое другое, что было в его котомке, попало в руки какого-то его спутника. Был такой смутный слух.
И второе лето мама провела с нами. Я даже начала поговаривать о том, чтобы навсегда остаться в Нарыме: от Москвы, кроме тревог, было нам нечего ожидать.
Но вот, наконец, приблизился срок освобождения, и я затосковала. Я не находила себе места от тревоги: нас забудут, перепутают сроки, увеличат срок наказания… Так случалось нередко! Я потеряла всякую выдержку, потеряла, казалось, самый разум. И, когда пришло освобождение, и мне выдали паспорт, я бросила все – хозяйство, работу, бросила Александра Васильевича, которого задерживали на месяц-два служебные дела, – и уехала в Москву.
Я бежала, и Александр Васильевич, возможно, понимал, что и от него. Провожая меня, помню, он был очень грустен. Перед моим отъездом явился пропадавший, как обычно, Тузик. Он был понур и не отходил от меня. На пристани он стоял рядом с Александром Васильевичем, и оба мы видели, как из глаз Тузика катились настоящие слезы.
Я не должна была уезжать раньше Александра Васильевича, я была виновата и, наверное, за эту вину тут же наказана.
В поезде я ехала на верхней полке. Мы переговаривались с соседом – каким-то вольным москвичом, возвращавшимся из дальней командировки. Дорога долгая, разговоры бесконечные. Новая жизнь будто сдунула с меня налет осторожности, недоверия, приобретенный, было, в ссылке. Сосед заметил у меня на груди мешочек. Я доверчиво рассказала ему, что это деньги и документы: драгоценный мой паспорт и свидетельство об освобождении. Утром на какой-то долгой остановке сосед ведет меня погулять. Мы выходим на сторону, обратную платформе, там пустынное поле. Меня тревожит, что мы отдаляемся от вагонов, но сосед настойчиво увлекает меня все вперед и крепко держит за руку. Наконец я освобождаюсь от его руки и бегу к вагонам, подгоняемая страхом. Раздается свисток. Поезд трогается.
– Успели! – говорю я. – Так могли и остаться.
Сосед мой странно бледен, но я не вдумываюсь в происшедшее.
День тянется, как и предыдущие дни. Теперь я сняла свой мешочек с груди – он слишком там заметен, – и держу его в сумочке, которую не выпускаю из рук. И вот случается: на какое-то короткое мгновение я забываю о сумочке, и она исчезает. Мой ужас, поиски, сочувствие вагона… и сейчас страшно вспоминать. Мысль о матери: что я ей готовлю при встрече!
Но куда же делся мой странный спутник? Он долго не появляется. Потом приходит. Говорит, что задержался в ресторане. Он слишком спокойно выслушивает мой рассказ о случившемся и предлагает немного денег в долг: мне не на что купить себе пищи. Он вынимает бумажку, и я вижу: это, несомненно, моя – новая, и сложена пополам, как лежала у меня в мешочке. Впрочем, я была в этом уверена раньше, чем ее увидела… Только б он вернул мне паспорт и бумагу об освобождении! Но он, конечно, их уничтожил.
На московском вокзале я вижу из замедляющего ход вагона счастливые лица матери и Александра Николаевича. Я сразу им говорю, что у меня украли документы и деньги, и мы тут же идем в вокзальное ГПУ. Старый человек в военной форме с добрым лицом сочувственно меня выслушивает, записывает показания… Он и дает мне совет поступить на строительство Московского канала. Это единственное учреждение, которое берет людей без документов и даст мне возможность не уезжать, то есть не разлучаться с матерью. Он тут же помог мне написать письмо в Колпашево с просьбой выслать дубликат свидетельства об освобождении и письмо это заверил.
– Не ночуйте у матери, ни у кого не ночуйте, где вас знают, – предупредил он меня. – Не отчаивайтесь, все равно бы вас не прописали в Москве. В провинции дают разрешение на въезд в столицу. И люди обманываются… А здесь железный закон: отбывших срок по 58-й статье в Москве не прописывать.
Трудная начинается жизнь: я боюсь подвести мать и знакомых. Человек из железнодорожного ГПУ оказался прав: единственный выход – Дмитров, где помещается управление по строительству Московского канала. Там работают заключенные. Там множество и вольнонаемного люда. И я отправляюсь туда.
На краю тихого старинного городка с традиционным валом-крепостью и соборами посредине спешно достраивался новый город – управление Москва-Волгострой. Рядом с бараками, обнесенными проволокой, высились каменные корпуса. Там были жилые дома начальства и всевозможные лаборатории, где работали первоклассные специалисты по различным отраслям науки. В центре была оборудована великолепная поликлиника, клуб, спортплощадка и ресторан для вольнонаемных служащих.
В перерыве между дневной и вечерней работой (день был удлиненный как у заключенных, так и у вольнонаемных) мы шли в ресторан. Там нас обслуживали заключенные-официантки в белых наколках и кружевных фартучках. На столиках стояли цветы из лагерных оранжерей, а оркестр из заключенных, скрытый на высоких хорах, ежедневно исполнял однообразно и чисто одни и те же музыкальные номера. Под эту мертвую музыку мы ели и покорно возвращались на вечернюю работу.
В категорию привилегированных служащих, имеющих право ходить в этот ресторан, в поликлинику, спать на собственной постели и, главное, раз в неделю навещать свою мать в Москве, попала и я. Я поступила в гидротехническую лабораторию и стала взвешивать грунты и вычислять кривые их компрессии. Я была совершенно не приспособлена к этой работе и напоминала себе дрессированное животное, послушно выполняющее непонятные задания человека.
Устроиться на работу и найти себе кров в переполненном «вольнонаемными» городе было нелегко. Помог мне один случай. Я приехала в Дмитров и, никого там не зная, прошла пешком весь путь от станции до Управления и присела, усталая, на скамейку на центральной площади возле ресторана: «Передохну и буду искать отдел кадров».
– Глазам не верю! – услыхала я знакомый голос. Передо мной стоял постаревший, но все такой же подвижный и оживленный NN. Оказалось, что он работает на строительстве. Мы уселись рядом и стали рассказывать друг другу о пережитом. NN подробно и волнуясь рассказал мне историю своей жизни. Видно было, что он одинок, раздражен, и ему надо вылить верному человеку горечь пережитого.
– Я женился тогда вскоре на нашей студентке, вы сами знаете, при каких обстоятельствах я на ней женился. Я и не любил ее тогда, но помните, как она была красива и к тому же из родовитой семьи. Мой друг X. женился на другой нашей студентке. Мы венчались одновременно, – рассказывал NN, – представляете, две пары на одном ковре посредине церкви – своеобразная кадриль!
– Что же, вы счастливы?
– Мне было неплохо, я даже привязался к жене. Потом вскоре родилась дочка. Мы жили дружно двумя парами, как венчались, всегда вместе, будто продолжалась наша веселая свадьба. Вскоре X. втянул меня в один рыцарский орден, втянул и наших жен. Об этом не спрашивайте – тайна! – сказал он, не дождавшись моего вопроса. – Было очень занимательно: избранное общество, интеллектуальные сливки Москвы – и аромат Средневековья! Потом, представьте, все затрещало по швам – и мы очутились на Беломорстрое в качестве заключенных. Спросите – за что? Была одна мистическая символика и никакой политики, а нам приписали контрреволюционную организацию… Жене посчастливилось – ее не заметили. Жена X. – простенькая, куда глупее моей, попала в трудную ссылку. Нам в лагерях пришлось солоно на первых порах: земляные работы, голод, драки, грабеж, уголовники рядом на общих нарах. Мы с X. были неразлучны, я его за брата почитал. Благодаря одному мне он остался жив. Вы знаете, я общителен и прост, а он гордец, надменный позер, его бы без меня уголовники прикончили. Если бы не отцовские наперстные кресты и ризы с икон, на которые сестра мне посылала продукты, а я с ним поровну делился, он бы давно «загнулся», как говорят лагерники. Но мы выжили, потом перешли в бараки служащих, потом общая амнистия при окончании канала, освобождение. Радостная встреча с женой. А его жена не вернулась к тому времени: нас на Беломорстрое досрочно освободили. И тут жена моя и X. мне объявляют, что они будут жить вместе, что они уже давно любят друг друга, давно близки, только раньше времени не желали меня расстраивать! Но теперь, видите ли, они хотят «правды»! «Как же ты мог, подлец, отцовскими крестами пользоваться, когда меня обманывал?» – спросил я X.
– Что же он ответил?
– Не помню… А вот, что она мне ответила, этого мне не забыть никогда. Она мне в лицо рассмеялась и сказала: «Ничтожество, поповское отродье, я тебя всегда презирала, благодари, что столько лет тебя терпела ради дочки, я теперь через тебя переступаю безо всякого сожаления». – «Я забыл, что ты – княжна», – сказал я и больше ничего не мог обидного в ту минуту придумать… Знаете, глупо, но я вызвал его на дуэль. Место и время назначил. Письма близким оставил. Пришел заранее, как Ленский, чтоб проститься наедине с жизнью. Ждал и все думал: чего только в эти минуты не передумаешь! Другой на моем месте в этот час стал бы седым, а мне всю жизнь везло, каким пришел, таким и остался! – сказал он это грустно безо всякой иронии и показал на свою голову в густых темных волосах без признака седины.
– Вы его застрелили?
– Что вы! он просто… не пришел. Так я даром прождал и ни с чем вернулся. Вам смешно? Я вижу по глазам. Вот и они так же! Потом жена мне сказала, что пока я мучился и ждал его, они сидели вместе и надо мной смеялись. Наверно и впрямь, со стороны я смешон в этой истории, – он помолчал и продолжал: – Я не отдал им дочку. Я ее вожу за собой. Содержу женщину, которая за ней ухаживает и ее охраняет, чтоб они не выкрали. Я мщу им. Мать тоскует, но я не допускаю ее даже для свиданий с дочкой.
«Ведь вы же женились, не любя, за что же мстить?» – чуть не вырвалось у меня, но я удержалась. Ведь я отличалась от него только тем, что лучше укрывала крах своей жизни.
– А жена вашего друга?
– Она вернулась разбитой, постаревшей, где-то доживает свой век, – равнодушно ответил NN.
– Жертва… – сказала я.
– Да, его очередная жертва, – ответил тот.
– Вы уверены, что только его? – Он недоуменно вскинул глаза, долго молчал и потом с поразившей меня кротостью сказал:
– Вы, вероятно, правы, вы и тогда были правы. Я еще подумаю об этом когда-нибудь. Только не теперь – теперь мне нельзя расслабляться: у меня война.
Это был 1935 год. В 1937-м прошла новая волна арестов. В нее попал и бедный NN.
Он-то и устроил меня благодаря своим лагерным связям в гидротехническую лабораторию, которой заведовала Валя Я., где работал преданный ей Сережа, ставший впоследствии ее мужем. Валя поселила меня, совсем ей чужую, на первых порах у себя, пока я не приискала себе угол у местных жителей.
Скоро приехал в Дмитров и Александр Васильевич. С паспортом и без паспорта – это был единственный путь для человека, отбывшего ссылку по 58-й статье. Он, подобно мне, снял угол. Я решилась бороться с собой и не селиться на этот раз с Александром Васильевичем ни за что.
Встречались мы только на службе да в нашем ресторане. Тогда-то и сказала мне одна мудрая старая женщина, наблюдавшая нас:
– У вас разные тональности, вы должны его от себя освободить. И его, и себя…
Но как это сделать, если я не могу без разрывающей сердце тоски видеть его, когда он бредет по улице, такой молодой и уже похожий на старика, бредет в свою одинокую конуру? Однажды глубокой осенью в дождь и сумрак я заметила его высокую понурую фигуру. У фонаря наши пути столкнулись. Он увидал меня, поднял мокрое от дождя лицо и, как бы продолжая внутренний разговор, который был прерван моим появлением, сказал без обычной маскировочной улыбки:
– Я понимаю! конечно, разве таких, как я, любят?
Это было выше моих сил. Я стояла перед ним в холодном свете электрического фонаря и горько плакала. Он пытался мне что-то сказать, но губы не повиновались, и он прятал голову в поднятый воротник пальто. Ничего не сказав, я взяла его под руку, и мы зашагали снова вместе. Так прошла одна зима, потом наступила вторая.
Я томилась в своей лаборатории на однообразно бессмысленной работе, к которой была неспособна, как неспособна оказалась к счетоводству, за которое принялась, было, в Колпашево. Так мы и жили в этой парадной тюрьме, называемой «строительством канала», где главной целью была якобы «перековка» нашего сознания и где А. М. Горький плакал от умиления на митинге бывших воров и убийц и просто «бывших».
Парад нашей комфортабельной тюрьмы не заглушал, однако в душе воспоминания о словах следователя, брошенных мне на Лубянке: «Посмейте не прийти!» Та же непроизнесенная угроза висела теперь над каждым и бывшим, и настоящим преступником. «Не смей, а то!» – слышался нам окрик, и каждый ему повиновался.
Слов нет, трудно было выполнять государственное дело огромного строительства и одновременно управлять сотнями тысяч раздраженных, обиженных, ни в чем не повинных людей. Люди отбывали сроки наказаний, втягивались в работу, становились на места начальников. Так стирались границы справедливости, чести, верности… Люди переставали понимать себя. Внутри нашего городка тянулись бараки заключенных. Мы встречались с заключенными ежедневно в лабораториях и на трассе, как с равными товарищами: все мы были похожи друг на друга, как кирпичи, обожженные одним и тем же огнем.
Вот Леонид Иванович, с которым мы обрабатываем вместе грунты в лаборатории. Он бывший учитель. Я многократно выслушиваю его историю: надо же с кем-то поделиться горем – и Леонид Иванович делится со мной. Он украинец, обвинен в националистической организации. У него 10 лет заключения. К Леониду Ивановичу приезжает на свидание жена. Мы выхлопотали ему разрешение пожить с нею вне лагеря на частной квартире. Он приходит теперь на работу как пьяный: то счастливый, то слабый и поникший. Наконец жена уезжает, он остается один. Мы узнаем, жена приезжала прощаться: она молода, она не хочет его ждать. И на наших глазах Леонид Иванович начинает хиреть и угасать. Невидимая болезнь подтачивает тело. Не все ли равно, от какой болезни он умер, для нас было ясно: умер от тоски. Леонида Ивановича зарыли на лагерном кладбище, где могилы оставались безымянными и сравнивались с землей. Мы легко туда проникли: только на кладбище не было в зоне Дмитровского лагеря часовых. Мы обсыпали свежую землю синькой – она останется до весны на снегу. А весной приедет старуха-мать, и мы покажем ей родную могилу. Больше, вероятно, не приедет никто. А если б кто и одумался и приехал, после первых дождей синька смоется, и никто никогда не найдет безымянную могилу.
Люди умирали здесь по-разному: бывали еще более страшные смерти. Об одной рассказала мне Валя. В лагерной больнице она познакомилась с молоденькой прелестной девушкой, которая потеряла всех близких, осужденных по 58-й статье. Она была ожесточенной и недоверчивой, но к Вале привязалась и рассказала ей, что лежит в больнице по поводу аборта, а ребенок у нее от самого начальника Белбалтлага Дмитрия Успенского. Наташа неутешно горевала о ребенке, но «Дима» требовал, и Наташа покорилась. Успенский не «соблазнял» Наташу – она сама потянулась к нему: она была уборщицей в управлении и без памяти влюбилась в обходительного начальника, мирилась с его охлаждениями, изменами, а однажды, узнав, что уголовники готовят покушение на Успенского, спасла ему жизнь. Он был в это время километров за двадцать на какой-то глухой точке строительства, и Наташа, с риском для жизни, самовольно покинула лагерь, всю ночь бежала, но успела вовремя предупредить, и Успенский уехал с трассы.
Валя освободилась раньше и уже в Дмитрове получила от Наташи ликующее письмо: она окончила свой срок, Успенский на ней женился, Наташа родила двоих детей и была счастлива.
Переехав с Успенским в Дмитров, она прислала Вале письмо с просьбой ее навестить. Валя все оттягивала свиданье: между ними стояло теперь новое положение Наташи – «жены начальника». Так длилось, пока по окончании строительства не были арестованы и расстреляны все ведущие начальники канала Москва-Волга: Фирин, Коган и другие. Несомненно, та же участь грозила и Успенскому. И вот разнесся страшный слух, что не Успенский арестован, а он сам арестовал и посадил в тюрьму свою беременную третьим ребенком жену. Ее приговорили к расстрелу, но дали родить ребенка, который был отправлен тут же в детдом. Говорили, она до последнего не верила в коварство своего Димы. Впоследствии служащие Дмитрова, переведенные на Куйбышевское строительство, рассказывали о выступлении там на митинге Успенского, проникновенно призывавшего к взаимному доверию, гуманности, будто бы даже он говорил о любви…
Приближались юбилейные пушкинские дни 1937 года. Не помню, как это случилось, но мне предложили написать текст популярной лекции о поэте и выступать с нею по городу и по Дмитровскому району. Устраивало эти лекции «вольное» учреждение – РОНО. По ходу лекции я читала стихи, со мной выезжал еще один чтец и певица. Мне разрешили не посещать вечерние занятия в лаборатории – это был уже шаг к свободе. Так продолжалось всю «юбилейную» половину зимы. И в мороз, и в оттепель мы изъездили весь район со своей программой. Работа эта натолкнула меня на мысль, что с помощью бумажки о лекторской работе я найду себе внештатную должность в Москве, укрою прошлое и возобновлю прописку. Прописка в Москве и была, в сущности, единственной целью всех нас, вольнонаемных, работающих на канале. Для меня это тоже значило все: это значило вернуться к матери!
Однажды на мое выступление приехал Александр Васильевич. Я увидала его в антракте: он был приподнято оживлен и напомнил мне прежнего друга времен нашего студенчества.
Дома в тот вечер он сказал мне:
– Ты очень хорошо читала! И какая ты была красивая…
– Ты только сейчас меня заметил? – пошутила я. – Я читаю тебе стихи очень часто, а смотришь ты на меня ежедневно и даже круглые сутки…
– Да, это верно, – простодушно ответил Александр Васильевич. – Но когда ежедневно, то внимание притупляется, а тут я увидал тебя в новой обстановке…
– И заметил?
– Знаешь, – продолжал Александр Васильевич, все еще не понимая иронии, – я, кажется, снова влюбился сегодня в тебя.
Слова эти поднимали старое, еще не отболевшее, я не хотела к нему возвращаться даже мыслью: это лишало сил для осуществления одной насущной нужды: не пропустить момент, воспользоваться бумажкой – и вернуться к матери.
И мне это удалось: я уволилась со строительства (это было непросто – помогла болезнь) и устроилась на работу в школу рабочих-стахановцев на заводе имени «1 Мая» на самой окраине Москвы. Там я преподавала русский язык и литературу рабочим – среди учеников моих были и подростки, и их седеющие матери и отцы.
«Мы учимся у вас не только литературе: мы смотрим, как вы держитесь, улыбаетесь, разговариваете…» – так говорила мне моя ученица, пожилая женщина, «знатная стахановка» и член партийного комитета. «Мы полюбили вас», – говорили мне мои ученики. Я и радовалась и одновременно смущалась, потому что они были искренни, а я их обманывала: они не знали историю моей жизни. Они не знали, что мне негде сегодня переночевать и, может быть, не придется даже на ночь раздеться. А утром я должна быть отдохнувшей, хорошо одетой, спокойной.
Только снятие судимости дало бы мне возможность жить с матерью, не бояться каждой встречи на улице, не скрывать на работе свое прошлое. И мне пришло в голову обратиться за этой милостью к «всероссийскому старосте» М. И. Калинину. Вся бесправная и обиженная Россия тянулась легковерно в его канцелярию, хотя, как мы впоследствии убедились, сам Калинин был зажат в тисках сталинского режима и был бессилен. Отправилась к Калинину и я. Не дойдя по улице несколько шагов, я увидала выходящим из дверей калининской приемной человека, кого-то мне напоминавшего. Мы оба остановились, вглядываясь друг в друга.
– Ляля! – воскликнул он и осекся.
– Тагор! – вырвалось у меня.
Он стоял передо мной и молчал – выхоленный, полнеющий чиновник, прежний провинциальный мальчик, открывший мне некогда красоту симфонической музыки и заботливо провожавший по темным улицам разоренного города. Молчала и я. У меня лихорадочно завертелась мысль в обратном направлении: «не доверять, не доверять, не доверять…» Механизм, отточенный пережитыми десятилетиями, сработал верно: мы уже любезно улыбались, в какие-то короткие секунды попрощавшись с невинной простотой похороненной юности. Последний взгляд прежними глазами друг на друга – и мы переходим в настоящее.
Тагор берет меня под руку, и мы делаем с ним несколько кругов вдоль стен манежа. Он весело, шутливо вспоминает прошлое, рассказывает мне, что я была его первой любовью. Теперь он счастливо женат, приглашает меня навестить его семью.
– А ваша стенография? – вспоминаю я.
– Я, благодаря знанию стенографии, попал на работу в ВЧК.
– А теперь? – спрашиваю я.
– Теперь я работаю у М. И. Калинина.
– А как же наша музыка, поэзия?
– Некогда, некогда! – восклицает Тагор и даже отталкивается в воздухе руками. – Мы работаем часто ночами. Впрочем, артисты сами иногда навешают нас в Кремле.
– Вы удовлетворены? Ничто вас не смущает? – вырывается у меня неосторожно. Он делает вид, что не понимает вопроса.
Теперь он расспрашивает меня. Я непринужденно лгу. Наконец мы прощаемся, и я прохожу мимо канцелярии Калинина, даже не заглянув туда.
Уроки в школе рабочих были не каждый день. Мне удалось устроиться и на вторую работу – в детскую школу библиотекарем и классным руководителем. Теперь я в силах содержать свою мать. Но жить с нею в доме, откуда я была отправлена в тюрьму, было невозможно, и я продолжала пользоваться милостью своих друзей, каждый раз – на новом месте, боясь их подвести. Я вспоминала Михаила Александровича Новоселова: «Устал я стеснять собою добрых людей. Боюсь подвести их».
Были дни, когда приходилось ночевать на московских вокзалах. Об этом я матери не рассказывала.
В это время я услышала в душе новую тревожную ноту: нам становилось трудно быть вдвоем. Непонятное раздражение нарастало между нами, может быть, крайняя усталость от жизненной борьбы? Но, тем не менее, я вижу, как любовь моя, все заполнявшая, родившаяся после смерти отца и руководившая до сих пор всеми моими поступками, любовь эта к матери вырождается теперь в убогую жалость. Свое одиночество я особенно резко и больно ощущаю, когда бываю с матерью вдвоем, подобно тому, как ощущаю его, оставаясь вдвоем с Александром Васильевичем.
Как могло такое несчастье случиться? И вспоминаю я Колпашево – ту странную минуту, когда я почувствовала разочарование, увидав спускавшуюся по трапу мать, так мною ожидаемую. Тогда я не поверила себе, возмутилась… Теперь я вспоминаю детство и свое отталкивание от матери: как мне жить дальше с такой опустошенной душой? Мы обе были ранены жизнью, и мамина болезненная нервозность, как и когда-то в детстве, вызывала во мне невольный протест, стремление оборониться, она лишала меня сил. Сама больная, я искала душевного здоровья. Причина была проста, но понять ее – значило вылечиться, а я – не понимала.
Должна признаться и в последнем: я узнала теперь новое для себя чувство, похожее на зависть. Да, я с тайной завистью провожаю теперь глазами людей в поездах, трамваях, на улицах, на бульварах. Наблюдать их – становится моей навязчивой и печальной потребностью. Вон молодая мать катит перед собой коляску с младенцем. На ее лице спокойствие удовлетворенного чувства. Она счастлива. Вот двое молодых людей – мужчина и женщина идут, взявшись за руки. Им хорошо вместе, путь их ясен и прям: они нашли друг друга. «Всем, всем дается это счастье, – думаю я, – ради которого существует мир и совершается все в природе, чем бы его ни прикрывали: искусством, наукой, служением, пользой. Правда жизни одна – любовь, цельный человек, по неведомым причинам раздробленный…»
Как могло это жить во мне, когда продолжает неотступно сниться один и тот же сон об Олеге; когда маячит за плечом скорбная тень Александра Васильевича; когда я знаю теперь и не могу обмануться: каждый, кого я встречаю, «не он» и «не тот». Детская формула «я – не жена» – это пока самое достоверное, что я узнала о себе, и я не могу разгадать тайну, которая глубже моего понимания.
Время от времени я делала попытки прописаться в Москве. Но все было напрасно: государственная машина работала четко. Отказ следовал за отказом. Но все-таки – люди не машина. Какой-то человек в милиции проглядел, ошибся – и меня неожиданно временно прописали у знакомых на даче под Москвой. К тому же, оканчивалось строительство канала, и Александру Васильевичу также удалось уволиться. Он поселился теперь в 100 километрах от Москвы и оттуда ездил на работу в столицу.
Однажды я поехала его там навестить. Я знала, что застану знакомую картину: книги, наваленные посреди вещей и пыли, и сам Александр Васильевич полуголодный, неухоженный, с какой-нибудь новой вычитанной им математической или философской идеей. Благородный, самоотверженный, до конца – до смерти принципиальный.
«У вас разные тональности, вы должны его освободить от себя», – повторяю я засевшие в сердце слова мудрой старухи из Дмитрова. Я решаюсь на операцию, болезненную, но необходимую для нас обоих. Не помню, что меня подвигнуло на последний шаг, но весной 1938 года я повезла Александра Васильевича за город и там, среди природы, без свидетелей, долго, в отчаянных слезах горя и раскаяния, говорила обо всем пережитом, заставила все вспомнить, все выслушать – это был тот «допрос» и ему, и себе, которого он настойчиво избегал всю нашу совместную жизнь.
Я старалась взять на себя всю вину, всю тяжесть прошлого, облегчить всеми средствами для Александра Васильевича горе расставания. Он нашел в себе силы проводить меня домой. Мы коротко рассказали маме о происшедшем. Оба плакали. Мама молчала, она давно поняла неизбежность этого шага. Александр Васильевич стал церемонно прощаться, пошел к двери, обернулся. Я бросилась к нему, мы обнялись, как родные. И тем не менее расстаться нам было нужно. Мы стояли в слезах, забыв о маме. А она смотрела на нас с глубоким изумлением и повторяла растерянно:
– Так зачем же вы расстаетесь?
С Александром Васильевичем продолжалась редкая переписка. Но расстались мы уже действительно навсегда.

Проходило лето. Начинался новый учебный год. Директор школы давно уже присматривается ко мне, и вот вызывает меня в свой кабинет, и настойчиво предлагает взяться за преподавание литературы в старших классах. Это было столь же заманчиво, сколь и рискованно. Рассказать о себе правду было нельзя, и мне удалось под каким-то предлогом отказаться. Директор недоумевает, но соглашается. Проходит какое-то время, и он снова вызывает меня к себе, но на этот раз ведет себя до крайности странно: закрывает за мной дверь кабинета на ключ и только потом обращается ко мне:








