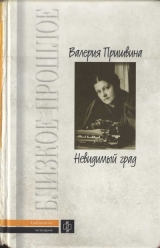
Текст книги "Невидимый град"
Автор книги: Валерия Пришвина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц)
А. В.:– И вы хотите, Абрамов, чтобы, зная все это, я отдал людям свою волю? Нет, ни красным, ни белым «Робеспьерам» я воли своей не отдам.
Абрамов: —Вы собираетесь стать новым Нилом Сорским? А я вам пророчу: вы сами станете Робеспьером вроде Иосифа Волоцкого, как только вступите в ряды князей церковных. И попадете, смотришь, в святые! Вы его еще не знаете, он слишком принципиален, слишком правилен, недаром его называли у нас «совестью курса». Он из-за принципа не только меня – вас поволочет на костер.
А. В.: —Юпитер, ты сердишься… {84}
Я (Александру Васильевичу):– Бросьте, ваш друг не заслуживает иронии! Он даже прав: сейчас с революцией церковь стала свободной, государство ее от себя отсекло. Но спор Нила с Иосифом продолжается. Подлинная Церковь – не от мира сего, и только поэтому она светит грешному миру. Но что, если она вновь соединится с государством и поставит перед собой идеал византийского земного величия? Тогда она неминуемо потеряет свою силу. Абрамов неожиданно показал себя правовернее вас: он опасается, что вы можете превратиться в князя церковного – в государственника. Это и будет последний конец православной России, конец тому, чем она могла бы светить миру.
Я говорю, и мне кажется, что чем четче я выражаю свою мысль, тем более огрубляю ее, тем дальше становлюсь от ее сокровенного смысла. Я смущаюсь.
– Мы все не правы, – говорю я, – потому не правы, что хотим рассудочно построить схему своего идеала и путей его осуществления. А идеал рассудком неуловим.
Абрамов:– Ваши тонкости слушать любопытно. Но они не ко времени. Поэтому я вам повторяю: кто не с нами, тот против нас. Вы против?
Я:– Мне и самой неясно – кто за кого! Поглядите на людей, называющих себя христианами, по ним легче всего понять мою мысль. Иной атеист ближе, чем они, к Богу. И первый – это вы. Не делайте зверского лица – я это утверждаю! Сейчас я вам прочту стихи одного подобного вам «атеиста».
Значит – опять
темно и понуро
сердце возьму,
слезами окапав,
нести,
как собака, которая в конуру
несет
перерезанную поездом лапу.
Я думал – ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.
Крылатые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахнувшего ладаном, раскрою
отсюда и до Аляски!
Пустите!
Меня не остановите,
вру я,
в праве ли,
но я не могу быть спокойней.
Смотрите —
звезды опять обезглавили
и небо окровавили бойней!
Эй, вы,
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!
Глухо.
Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо {85} .
У Маяковского весь космос – как одно огромное ухо. Разве вы через этот образ не видите, что Маяковский спорит с живым Творцом? Маяковский не стал бы тратить себя на борьбу с химерой. В это мгновение он верует (знает), одновременно отрицая.
По Маяковскому можно увидать еще одно особенное наше русское свойство – целиком отдаваться нравственной идее, бросаться в нее, как в костер. Другие народы мира постарше, они уже поостыли и, конечно, расчетливее тратят себя на общее дело. Вот почему, может быть, и революцию мы за нихсовершаем…
Абрамов: —По правде говоря, нам действительно нечего было терять! Посмотрите на моего бывшего друга Александра Васильевича: что у него? одни книжки. И те он сожжет, когда пойдет в попы. Но это – между прочим. Скажите мне о другом: зачем ваш бог строит с такими сложностями свою вселенную («недоучка», «крохотный божик»)?
Я:– Ничего, Абрамов, я не обижаюсь, мне стало с вами уже не трудно… Вы на Бога смотрите, как на верховного администратора или как дикарь на деревянного домашнего божика. А если мы с нашим Творцом сотрудники? {86} Самое главное, мне кажется, мы должны научиться о Нем молчать, а не так, как оно было бесстыдно перед революцией у декадентов, у оккультистов, в разных философских столичных кружках. В простом верующем народе было иначе. Помню, как няньку мою один образованный и легкомысленный гость спросил, есть ли Бог, она ответила ласково, серьезно и очень иронично к его легкости: «Что-то, барин, есть», – и он замолчал.
Абрамов:– Допускаю на минуту, что вы правы: мы, русские, имеем особое нравственное призвание в мировой истории. Тем более подвиг нашего времени один: это делание общественной справедливости. Значит, надо торопиться делать эту справедливость, простую и понятную всем. За это мы, революционеры, и взялись. Ни капли времени терять не будем, и тогда ваш же бог нас погладит по головке. А вы, на что вы себя обрекли? охранять стены пустых храмов, камни, обряды и догматы на потребу старух и кучки бывших интеллигентов?
Я:– Вы правы, храмы будут разрушены, я с детства предчувствую это! Все будет разрушено! На что Владимир Соловьев был поборником церковной организации, ее вселенского торжества на Земле, а и он говорил, умирая, своему другу Сергею Трубецкому: «Магистраль всеобщей истории пришла к концу… кончено все. Христианства нет, идей не больше, чем в эпоху Троянской войны…»
Разрушение как возмездие за грехи церкви уже совершается на наших глазах. Никогда, вероятно, не осуществятся, не станут видимы в массе людской наши идеалы. Мне что-то запрещает теперь произносить перед скептиком имя Божье вслух. Мне неловко бывает смотреть на священника в его облачении среди неверующей толпы. Кончится мир или начнется по-новому, но вера теперь должна стать нашей тайной, явными – наши дела. Только дела и могут убедить.
А. В.:– Вы говорите об этом с таким оттенком, словно радуетесь предстоящему разрушению и торопите его. Но если все-таки останется жизнь на Земле и не сохранится видимой церкви, где хранить сокровища мысли, накопленные поколениями?
Я:– В мысли. Смысл невозможно уничтожить {87} . Он сохранится в естественной поэзии, во врожденном чувстве прекрасного, этом необъяснимом свойстве нашей души. Люди выйдут из борьбы голыми, и красота будет их первая одежда. Она и просвечивает сквозь преступную историю человечества. Вот о чем, может быть, и думал Достоевский, когда говорил, что «красота спасет мир». Поэзия – это дрожжи в мировой истории: самая минимальная доля в общем составе, но без дрожжей не получится хлеба.
Абрамов:– Ваши церковники вас бы сожгли на костре, родись вы немного пораньше. Но он еще, может быть, вас и сожжет, – говорит Абрамов, указывая на Александра Васильевича. – Прощайте! – Они прощаются за руку, не выдерживают, обнимаются.
Тот наш спор был, конечно, короче и проще. Воспроизвести его с точностью через полвека – невыполнимая задача, но я свела в единство многие наши думы и слова, всплывшие в памяти, и нигде не вышла за пределы правды тех лет.
До сих пор, спустя несколько десятков лет, мне снится иногда, будто я поднимаюсь по мраморным лестницам, отраженная в зеркалах, прохожу по торжественным дворцовым залам, среди обтянутых шелком стен, и все это великолепие – мой дом. Именно так вскоре и случилось со мной, и это был не сон, а самая жизненная правда. Такое странное было время, что я, с одной стороны, человек, выключенный из общего потока жизни, уцепившийся за край громадной вращающейся сферы, чтобы не оторваться, не провалиться в бездну, с другой – оказалась вечной для всех времен Золушкой, не ведающей, что сказочный поворот судьбы ожидает ее через мгновенье. Каким-то непонятным образом все вокруг именно так и происходило, и ты на самом деле не знал, где окажешься завтра, то ли в тюрьме, то ли в чужом прекрасном дворце.
Окончилась тяжба МОНО с Центроэваком за особняк № 43-а по Б. Никитской, и он был передан мне под детский дом. Зима тоже кончалась. Солнце шло на лето. Снег в тот год лежал на улицах громадными сугробами и даже с крыш редко где убирался. Пока мрачный молодой человек в полувоенной форме, назвавшийся комендантом, возился с заржавевшим и разбухшим замком, время от времени поглядывая на меня с недоверием, я любовалась золотой капелью, падавшей с крыши этого большого двухэтажного особняка. Дом стоял необитаемым всю зиму и смотрел на меня огромными зеркальными окнами без переплетов, холодно и безразлично. Хозяин его, крупный промышленник и министр Временного правительства Коновалов, бежал за границу. Дом, казалось, неохотно впускал новых хозяев: замок поддавался с трудом.
На дворе, окруженном высокой ажурной решеткой, сохранился ряд каштановых деревьев: их не решились почему-то срубить замерзавшие вот уже четвертую зиму москвичи. Как они будут цвести, эти каштаны, перед нашим домом?
Наконец дверь подалась. Тамбур, еще одна стеклянная дверь, несколько широких ступеней вверх – и мы в вестибюле. Оттуда идет широкая, в два пролета лестница, ведущая на верхний этаж. Посредине вестибюля на фоне зеркальной стены нас встречает босоногая мраморная девушка-пастушка, сидящая в спокойной задумчивости на белом мраморном пне. Она беззаботно пересидела здесь своих бывших хозяев, теперь она приветливо встречает меня, нищую и бездомную, которая скоро приведет сюда в этот дворец кучку таких же бездомных детей. Разве это не сказка, не сон?
Дом был проморожен, как склеп, но по южной стороне уже начинал согреваться. Через широкие окна лились теплые лучи, они отражались в огромных, вздымавшихся до потолка зеркалах зала, играли в хрусталях люстр. Эта зала и примыкавшая к ней вторая парадная гостиная были завешаны во всю вышину суровыми полотнищами – чехлами. Я приподняла одно из них и ахнула: стены были обиты белым шелком. Приподняла в гостиной – шелковые стены там были светло-желтые, цвета солнечного луча. Потом я поглядела на потолок – там ползли, растекаясь, зловещие пятна. Еще немного – и по шелковым стенам потекут потоки воды.
– Что делать? – спросила я коменданта.
– Чистить снег! – ответил он и пожал плечами.
«Как-то ты справишься с этим?» – говорила вся его фигура.
– Будем чистить, – сказала я с беззаботным видом, – несите лопаты! – И подумала: «Сейчас он мне ответит, что у него нет лопат – и все пропало».
Это было решающее мгновение – все зависело от колебания невидимых нравственных весов… И какое это было счастье! я неведомо как почуяла, что моя чаша перетянула: комендант молча повернулся и пошел за лопатами.
Комендант приносит лопаты, мы лезем по пожарной лестнице на крышу и до темноты скидываем снег. К концу работы мы оба уже знали: те весы для доверия и согласного действия нам больше не нужны. Так были спасены шелковые стены моей «Школы радости», которые до сих пор мне иногда видятся во сне.
От усталости и голода я валилась с ног. Нечего было и думать о возвращении в Марьину Рощу. Комендант дружески предложил переночевать у него, рядом, в теплом флигеле.
– Нет, – ответила я, – в южных комнатах уже не холодно. И я так устала, что ничего не замечу. Заприте меня на ключ, а утром выпустите: я сама не поверну ключ.
Комендант пожал плечами теперь уже обиженно, но мое распоряжение выполнил в точности.
Удивительная и не похожая ни на какую другую в жизни была для меня эта ночь. Стояло полнолуние. Свет заливал призрачными прямоугольниками блестящий паркет, отражался в зеркальных стенах, скользил по черному лаку рояля. Я подняла крышку, дотронулась до клавишей. Звуки пронеслись по пустому зданию и печально замерли в нижнем этаже. Все пережитое возникло перед сознанием в неприкрытой правде и навалилось на сердце болью одиночества. Мне на мгновение стало страшно. Я опустила крышку рояля, стараясь не разбудить больше ни одного звука, и бесшумно, на носках спустилась в вестибюль. Мне казалось, что воздух вокруг наполнен призраками прошлого…
Как призрак, сидела по-прежнему в вестибюле мраморная девушка. Она была погружена в светлую задумчивость, полную удивительного покоя. Мрамор ее, твердый и холодный на дневном свету, отчего-то в лунных лучах потеплел. И странно, в присутствии мраморной девушки страх мой прошел так же внезапно, как и повеял только что наверху при звуках рояля: я теперь была не одна. Я погладила девушку по склоненной головке. Кажется, я не испугалась бы даже, если бы она поднялась и желтоватый мрамор замелькал в сумраке комнат… К счастью, этого не случилось. Теперь я решила медленно обойти свои владения. Двери комнат открывались от легкого прикосновения руки. Так было во всех комнатах, кроме одной. «Наверное, хозяева увезли с собою ключ, а ключ этот с секретом», – подумала я.
Наконец я вышла в строгую комнату нижнего этажа, отделанную в средневековом стиле. Это была столовая. Стены ее были обиты дубовыми панелями и плетеным бархатом. Таким же бархатом были покрыты резные скамьи, тянувшиеся по стенам. Я собрала эти скатерти и поднялась со своей ношей в гостиную. Там, на желтом шелковом диване, под бархатными скатертями я и провела остаток ночи {88} .
Спала ли я в ту ночь, зарывшись в коноваловские скатерти? Может быть, забывалась минутами. К тому же сказка еще для меня не кончилась: как только я улеглась и наступила тишина – послышались легкие дробные звуки по паркету. Я прислушалась, открыла глаза… в лунном свете по полу скользили мыши. Их было много. Они ничего не боялись, смотрели на меня блестящими бусинами глаз, легко цеплялись коготками за ткань покрывавшего меня бархата, карабкались, перебегали через меня. Все случившееся за последние сутки было так похоже на сказку, что чувство страха или брезгливости у меня не возникало, и я смотрела на мышей как на блики луны на паркете, как на блеск ее лучей в хрустале люстр. Надо сказать, что мыши долго жили с нами уже и при детях, мы к ним привыкли. Потом куда-то они сами ушли.
Под утро я, вероятно, заснула, так как помню момент пробуждения: первой мыслью было, что я никак не могу достать в МОНО костюмов для мальчиков. Я открываю глаза: передо мной шелковая стена, завешанная полотняными чехлами. И тут я соображаю: раньше этот материал назывался коломянкой, из него шили гимназические блузы. Мы снимем чехлы и сошьем костюмы, а шелковые стены без чехлов будут еще прекраснее! С этого дня у нас закипела работа. Работники ГПУ, занятые борьбой с беспризорностью, привезли мне несколько машин конфискованных вещей: кровати, одежду, посуду, продукты – все оформленное мною ордерами в течение зимы. Эти же люди открыли отмычками таинственную запертую комнату. Чего только мы там не увидели! Меха, хрусталь, ковры, бронза… такое драгоценное и такое нам ненужное. Все эти сокровища увезли от нас обратными рейсами те же грузовики. Еще в этой комнате было много продуктов – их отдали нам. Так открылся секрет мышиного царства в особняке Коновалова.
На тех же санках, на которых Ольга Александровна привозила в Марьину Рощу овес, мы с мамой перевезли на Никитскую самое необходимое из своих вещей и снова расстались с Александром Николаевичем. Он уже тяготился непривычной «семейной» жизнью и не был опечален нашим отъездом. К тому же ему явно импонировал мой особняк и мое положение «организатора».
Нехитрым делом оказалась эта «организация». Скажем, хотя бы подбор служащих. Мне казалось важным только одно: создать настроение семьи, а не учреждения, и чтоб работали по своей охоте, а не по обязанности. Это мне легко удалось. Наталия Аркадьевна, умевшая шить, стала кастеляншей. Завхозом я пригласила встретившуюся случайно на улице, старинную знакомую нашей семьи Елену Константиновну Миллер – с начала германской войны сестру милосердия. Это была женщина с характером и такими твердыми правилами, что прямо просилась на диккенсовские страницы. Ольга Александровна была директором и главным педагогом. Еще было несколько приходящих учителей и воспитателей, среди них и Александр Васильевич Лебедев. Низший персонал дома подобрался сам, без всяких с моей стороны усилий, из живших по соседству голодных женщин, обрадованных готовым питаньем, главным образом – из бывших слуг Коновалова.
Наступил момент главного дела – подбора детей: брошенные и бездомные, они свозились в приемники, о которых я уже слыхала от Раи. Самый крупный был в Подкопаевском переулке возле Хитрова рынка. Он походил на грязный и шумный вокзал. Мне выложили на стол груду анкет. Из приличия я их полистала. Я сразу поняла, что отбирать детей надо каким-то иным путем. И я стала определять на глаз, по первому впечатлению. Так я насчитала пятьдесят девочек и мальчиков, не справляясь об их возрасте, социальном происхождении, здоровье, и ни в одном из них я не ошиблась: в будущем среди них не оказалось ни одного чуждого нашему общему делу, ни одного неблагодарного или даже равнодушного ребенка, хотя были среди них и трудные, и порочные дети. Если я потеряла после их следы – в этом только моя вина.
Надо было сохранить в себе самой много детского, чтобы различать отдельные лица в этом хаосе непрестанно двигающегося, орущего, свистящего, ругающегося, съезжающего по перилам лестниц человеческого месива, вдобавок голодного, немытого, раздетого и, главное, недоверчивого. Вспоминаю одну сцену: из толпы выступает бледный мальчик с наглым выражением глаз, хотя я замечаю в этих глазах напряженное ожидание, может быть, даже и надежду. Какого чуда он ждет от меня?
– Филя Буров, одиннадцати лет, родителей не называет, – шепчет мне на ухо дежурный воспитатель.
– Пойдешь ко мне, Филя? – спрашиваю я, кладя руку на костистое плечо ребенка.
– А это видала? – вопросом на вопрос отвечает Филя и вынимает из кармана спичечный коробок. Вокруг раздаются смешки. Филя смотрит мне в глаза, я креплюсь, чтоб не отвести своих, и руки с плеча не снимаю. Секунда борьбы – и Филя прячет коробок в карман. Однако я не уверена, что это моя победа.
– Что у тебя там? – спрашиваю я, как бы не слыша озорного смеха обступивших мальчишек. Филя молчит.
– Он вшей собирает! – выкрикивает из толпы чей-то голосок.
– Как повезете, он их на вас и повыпускает! – разъясняет кто-то из-за спины товарищей. Смешки усиливаются.
– Как хочешь, – говорю я с искренним огорчением и не тружусь его скрыть от ребят: пусть думают обо мне, что хотят, я не буду с ними лукавить. – Я тебя не неволю. – Мне грустно потерять Филю.
Что-то дрогнуло в глазах мальчика. Они опускаются, снова поднимаются: это идет в нем тайная борьба.
– Я тебе чтой-то скажу, – говорит он, и прелестная просительная улыбка освещает серое личико.
Я обнимаю его и говорю обступившим ребятам:
– У нас секретный разговор – отступите! – Они послушно отступают, с любопытством поглядывая в нашу сторону.
– Я к тебе пойду, – доверительно, горячим шепотом обращается ко мне Филя, – если ты Юшку возьмешь.
– Кто это Юшка?
– Брат у меня тут, нас вместе в один Дом не хотят брать, маленький он. Я без него не пойду! – он хмурит брови и выразительно похлопывает себя по карману, где лежит «тот» коробок.
– Филя, – говорю я, – непременно возьмем с собой и Юшку.
– Дай слово! – говорит Филя.
Я ликую: у маленького беспризорника сохранилась вера в слово!
В детском доме Филя Буров стал нашим главным помощником во всех хозяйственных «мужских» делах. Он проявил недюжинный организаторский талант. Через много лет он нашел меня, он был уже взрослым человеком. Зачем он приходил ко мне? Я уже плохо помню подробности нашего свиданья. Может быть, за советом, может быть, из благодарности за прошлое… Помню другое – как сама я была в то время не устроена душевно, как сама нуждалась в помощи и совете… Больше он ко мне не пришел. Может быть, ты погиб на войне, а может быть, еще и существуешь? Где ты, Филя Буров? {89}
Я подобрала детей, не считаясь с разницей их возраста, и это была моя деловая ошибка, так как она же и создала недолговечность нашего дома: детей надо было учить по школьным программам и, значит, разделить по возрастным группам в разные интернаты. Но иначе поступить я тогда не могла, что видно хотя бы на примере Фили и Юши Буровых. Возможно, на том переходном этапе жизни детей это было лучшее, что я могла для них сделать. Я думала о спасении самых несчастных, и цель моя была достигнута: их вымыли в ваннах из розового мрамора; их накормили в роскошной столовой; их провели, изумленных, по великолепным залам и уложили в чистые постели; их ни о чем не спрашивали, у них ничего не требовали, их ни в чем не упрекали. Они сразу поверили в нас и в свой дом. Очень немного времени потребовалось, чтобы наладить жизнь и чтобы всем стало в доме хорошо. И взрослые, и дети – мы все доверяли друг другу, и доверие ни разу никого из нас не подвело. Несколько детей из Узкого, которых мне удалось перевести во вновь открытый детский дом, явились на первых порах драгоценными помощниками: они сразу задали нашей жизни верный тон. Ольга Александровна с головой ушла в школьное дело: нелегко было ей приладить свою педагогику сразу применительно к детям от 4 до 14 лет.
А я, как жила теперь я? У меня дел было по горло: попробуйте завести себе семейку из 50 человек, не считая взрослых. Днем я обегала учреждения, чтоб достать для них все необходимое, но, как только я освобождалась, дети сбегались ко мне, и около рояля у нас начинались занятия, не предусмотренные никакими программами. Мы пели, читали хором стихи, иногда под музыку. Мы двигались под музыку, и это движение часто переходило в импровизированный танец. Мы слушали музыку и учились под музыку думать и молчать. Дети были первыми судьями того, что я разучивала и исполняла в Институте Слова.
Вечера я проводила теперь в Институте. Но когда наш дом на ночь затихал и все расходились по спальням, я шла наверх, в парадную половину, в залы, где провела свою первую в этом доме ночь и где продолжала с тех пор спать на желтом шелковом диване. Здесь шла моя личная, никому не известная жизнь. Никто не подозревал, да и сама я не догадывалась о том, что, дожив до осуществления своего замысла, я уже переживала освобождение от него: оно стояло уже позади, за плечами. Я наслаждалась теперь передышкой перед новым, неизвестным, ожидающим меня испытанием сил. Я наслаждалась простором прекрасных комнат, вольным ночным одиночеством. Я знала, что такое в жизни моей больше не повторится. Иногда было жалко тратить ночь на сон. Тогда я вставала – мне как-то в те дни посчастливилось побывать на выступлении удивительной Айседоры Дункан – и, не суди меня строго, читатель: перед тем как заснуть, по ночам, среди спящих зеркальных и шелковых стен я танцевала.
Каждый день, возвращаясь домой, я читаю у ворот на жалкой жестяной вывеске: «Экспериментальный детский дом „Бодрая жизнь“». Разве об этом я мечтала, думая о «Школе радости»? Пусть не совсем об этом, но в этом доме живут дети, жизнь и души которых теперь спасены от гибели и унижения. Это – законченное и прекрасное дело, а не какая-то выдумка, вроде «Школы радости»! Да, но я уже не могла вложить в него ничего нового от себя, потому что я была не педагог, а сама почти ребенок, и думала я сейчас не о детях, а о себе: меня подавлял груз собственной души и неразрешенных вопросов. Сама для себя я была сейчас полнейшей неопределенностью. Вот почему все вечера я проводила на лекциях, собраниях, диспутах, концертах, какие только ни давались, ни читались, ни слушались в те дни в Москве. Повсюду меня сопровождал Александр Васильевич.
В Институте Слова собрались люди всех возрастов, профессий и положений. В этом смысле он чем-то напоминал Подкопаевский приемник. Не было в Институте двух схожих людей, ставивших себе одинаковые цели. Наш Институт не являлся исключением в те переходные, смутные и все же прекрасные своей духовной свободой годы. Русские интеллигенты, те, которые были далеки от политики, и их дети не знали, как пережить им это время и свою растерянность в жизни, где найти честное применение своим силам. Институт Слова дал обществу сколько-то «деловых людей»; и посейчас они работают, кто артистом, кто педагогом, кто литератором.
Ближе всех мы с Александром Васильевичем сошлись с двумя студентами. Первый из них был Николай Николаевич Вознесенский, инженер-химик, профессор Менделеевского института, имевший много научных изобретений и патентов на них и на родине, и за границей. Он возглавлял красильную лабораторию Трехгорной мануфактуры. Это был человек с европейским образованием, манерами и привычками. Он резко выделялся среди нашей молодой, разношерстной толпы: наружность интеллигента чеховских лет, правильные черты, эспаньолка, густые темные волосы с легкой проседью на висках. Был он почти вдвое старше меня, но всегда бодрый, подтянутый, по-европейски точный – ни одной минуты, ни одного слова впустую. По взглядам он был законченный позитивист. Впрочем, он «либерально» щадил любые чуждые ему философские убеждения, хотя я запомнила его ироническое замечание, что в церкви следовало дезинфицировать иконы при общем к ним прикладывании, а в обществе – избегать рукопожатий. При наших летних загородных прогулках Николай Николаевич обычно привозил на всю нашу компанию заранее приготовленные бутерброды, аккуратно завернутые каждый в отдельную бумажку. В Институт он поступил для усовершенствования своих лекторских приемов и, конечно, чтоб скоротать гражданское безвременье.
Николай Николаевич умел работать и успевать сразу в нескольких областях. Так, одной из его многочисленных специальностей была гипнология, которой он интересовался со строго научных позиций и, не имея медицинского образования, состоял членом Московского общества врачей-гипнологов. Все без исключения непонятные явления в психической жизни человека он объяснял внушением или самовнушением.
К студентам, своим младшим товарищам он относился с ласковым и тщательно скрываемым превосходством, на что имел достаточные основания. Мы платили ему доверием и уважением. Мы догадывались, что за внешней холодноватой сдержанностью скрывалась горячая привязанность к матери, с которой он никогда в жизни не расставался. Из-за этой привязанности он, вероятно, и не был до сих пор женат. Никого, кроме матери, он по существу еще в жизни не любил. По этой же причине его устраивала, как я узнала об этом впоследствии, многолетняя связь с женщиной, к которой он имел вполне умеренное и потому не причинявшее ему никаких излишних хлопот чувство. Женщина эта умерла незадолго перед тем, как все мы встретились в Институте Слова.
Николай Николаевич был уравновешен, держался всегда скромно, но с достоинством и был совершенно до конца уверен в правоте своих взглядов и поступков. Это была завидная и очень мужская уверенность. Однако она не отталкивала, настолько присуще было ему чувство меры и особая порядочность русского интеллигента. Николай Николаевич был и по-настоящему добр, он умел незаметно и дельно помогать в беде там, где мы тратили много слов и мало умели делать.
Придется здесь еще упомянуть и о том, что его безнадежно и много лет уже любила работавшая в его подчинении в той же заводской лаборатории художница Людмила Владимировна Маяковская, сестра поэта.
Трудно придумать больший контраст, чем тот, который существовал между Вознесенским и вторым нашим товарищем, имени которого я не могу сейчас вспомнить. NN был молодым офицером морского штаба, помещавшегося на задах Института, и, может быть, это последнее обстоятельство было ближайшей причиной того, почему он попал в число наших студентов. Кроме того, он попал туда, я думаю, из-за общительности и «светскости», привитых ему воспитанием в лицее. Молодому человеку надо было переждать это трудное время и надо было как можно веселее это время пережить… Институт был для того подходящим местом, хотя бы потому, что там было много хорошеньких девушек.
NN был не только лицеист – он был еще сыном весьма достойного священника, известного по Москве своей духовной направленностью. Из-за своей отрешенности и, скажем, наивности в вопросах мирской жизни батюшка, вероятно, и попал впросак: уступив просьбам своей матушки, отдал единственного сына в лицей. Так, по крайней мере, рассказывал нам NN. Лицеист из поповичей слишком откровенно обнаруживал свое пристрастие к светской жизни, слишком цепко держался за нее, был несколько в этом смешон, и нам было иногда за него безотчетно неловко. Впрочем, эта черта при молодости и добродушии не нарушала приятности его живого и неглубокого характера. Больше, пожалуй, и нечего прибавить к его портрету. Внешность, украшенная формой морского офицера, была прилично заурядной. Танцор на всех вечерах, затейник в любых веселых и всем приятных начинаниях, NN почему-то, однако, тянулся к нам. Такие все разные, мы четверо были неразлучны и сидели на лекциях рядом, словно воробьи на телеграфной проволоке.
Самым серьезным и менее всех посещаемым был ораторский факультет, о котором мне говорил С. М. Волконский. В конце зимы на нем отобралось всего тринадцать человек постоянных слушателей, среди которых я была единственной женщиной. Лекторов было тоже, если не изменяет память, не менее тринадцати. Не знаю, получали ли какую-нибудь плату наши учителя, но хорошо помню, что двум нуждавшимся студентам они выдавали стипендию из собственных средств. Для наших профессоров ораторский факультет был начинанием идейным: они пытались спасти русскую философскую мысль. Вместе с большей частью русского народа они верили, что время диктатуры большевиков для России переходное.
А самым ярким в институте человеком был Иван Александрович Ильин. Вдохновенный оратор, он сочетал оригинальность и четкость мысли со страстностью ее выражения. В курсе «Эстетика» Ильин впервые раскрыл передо мною увлекательные возможности диалектики. Если до того мир мысли светился для меня одним и тем же, то убывающим, то возрастающим светом, то теперь этот свет заиграл многими и противоположными оттенками. Среди стремительного и блестящего потока слов, острых, емких, сам Ильин, подвижный, высокий, походил на белого Мефистофеля: светлые глаза горели голубым огнем, светлые волосы отливали рыжеватым блеском. Речь его зажигала слушателей.
Вторым курсом, «Миросозерцание и характер», Ильин открывал нам выход из мрака – знакомил с анализом духовной жизни человека, вылившимся у подвижников древнего христианства в четкую систему, называемую аскетикой. Уже в те годы пятитомное собрание их творений «Добротолюбие» стало библиографической редкостью, и в поисках этих книг я отправилась однажды в Лавку писателей, помещавшуюся на углу все той же Б. Никитской улицы и Тверского бульвара. Существовала она, по-видимому, на кооперативных началах, и торговали в ней сами писатели.
Покупатели неторопливо перебирали книги, выложенные им для свободного выбора на прилавок и выставленные на полках. Два продавца, не обращая на покупателей внимания, вели между собой разговор. Один из них поразил меня своей наружностью. В лице его душевная мягкость соединялась с мыслительной напряженностью, переходящей, казалось, уже в чрезмерность, в болезненность. Казалось так потому, что время от времени лицо это прорезывал и уродливо искажал резкий нервный тик, сопровождавшийся подергиванием руки. Конвульсивное движение прерывало на какие-то секунды речь и могло бы вызвать у слушателя даже отталкивание, если бы не подкупающая мягкость и спокойствие на лице этого человека.








