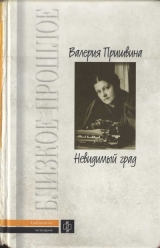
Текст книги "Невидимый град"
Автор книги: Валерия Пришвина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 38 страниц)
Он рассказал, что после отправки последнего письма не находил себе места от тревоги. Ночью забылся и внезапно проснулся от стука при падении какого-то предмета. Чиркнул спичкой: без всякой видимой причины сорвался со стены и лежит на полу деревянный крест. И гвоздь, на котором крест висел, и тесьма, на которой держался, были целы.
Утром о. Даниил, не говоря ни слова о происшедшем, совершил с Олегом обычное правило, потом обернулся и сказал:
– Ну, что же, поезжай, только не задерживайся там долго. На это не будет тебе моего благословения. Поезжай с Господом.
Олег тут же вышел из кельи, преодолел пешком зимние заносы до Красной Поляны, к вечеру был уже в Сочи и вслед за своим письмом отправился в Москву. Письмо опередило его только на сутки.
Достаточно было мне его увидеть – и все отошло как наваждение. Обещала приехать летом. Просила не укорять Александра Васильевича и весь ответ брала на себя. Да и кого было винить в происходящем, если я и сейчас теряюсь в ответах при этом вопросе: кто был виноват?
Олег решил поговорить обо мне с Михаилом Александровичем. «Дяденька» произнес в ответ жестокие слова об Александре Васильевиче – не буду их здесь повторять. Но почему же ни он, ни один из окружавших меня людей не взял сильной рукой мою руку и не вывел из пожара? Вижу ясно теперь: никому не возможно спасти человека против воли его, даже такому подвижнику, а теперь уже мученику, как Михаил Александрович.
Олег вскоре уехал: он выполнил волю своего старца о. Даниила. Солнце зашло – поднялся снова туман. Если б Олег мог увести меня тогда за собой! Я и ждала этого и боялась, что это невозможное и впрямь произойдет. Я стояла теперь беспомощно перед тайными силами своей природы, которые были разбужены. Я прикрывала словами о долге перед Александром Васильевичем, перед покойным Николаем Николаевичем свое влечение, которое пыталась принять даже иногда за любовь. Это случилось со мною впервые в жизни, и Олег не ошибался, до сих пор считая меня девственной. Но теперь – это случилось, и я сама желала этого вопреки всем доводам совести и сознания. Теперь я старалась поставить перед собой непроницаемый экран из всяческих забот, чтоб не видеть собственной души: эти заботы услужливо на меня посылались. Шла на моих глазах горячая церковная борьба, переписка, свиданья с людьми, приезжавшими из разных углов России. Болела непрерывно и тяжело моя мать. Надо было изыскивать источники дополнительного заработка. И среди всего этого я погибала у всех на глазах, и никто этого не замечал.
Я не помню, как это случилось. Где, когда, при каких обстоятельствах… Как ни напрягаю сейчас память – не могу вспомнить, все вычеркнуто, как это бывает с людьми при сильной боли: они лишаются сознания. Так от душевной боли я все забыла. Олег ничего не знает, я получаю от него новые письма.
«18 марта 1928 г. Милая Ляля, ты пишешь, что получила второе мое письмо. Первое послано было из Майкопа, может быть, там даже забыли его отправить, так как я не сам бросил в ящик, а кого-то попросил.
Кстати, я уже сбился со счета: это не то четвертое, не то пятое. Предыдущее получила ли? Это, где длинное рассуждение насчет „Античного Космоса“ {185} ?
Хотелось бы мне вовсе не возвращаться к теме наших длинных разговоров, но твое письмо вновь вынуждает. И огорчает меня не только факт возможности „второсортного выбора“, но та „невыносимая фальшь“, которая так удручает нас с тетей. И фальшь-то это не твоя, а чуждый тебе гипноз. Вот и сейчас как-то случилось, что все твои тревоги так странно преломляются у тебя. Законный мой и естественный страх перед ложным шагом, который обдумывает самый дорогой в мире человек, безотчетный страх за него, превращается у тебя в „брандовскую установку“, только что не сказано „аскетически-гордую“, которой противостоит короткое и смиренное „второсортное решение“. Я оказываюсь какой-то энергичной натурой, уповающей на „свою человеческую волю“, которая у меня (на самом деле) есть только сознание человеческого бессилия. Вообще я не могу не видеть, как на все факты ложится у тебя особый отсвет или особая тень. Так что даже когда ты и признаешь свои сомнения плодом уныния и обсуждавшееся решение „второсортным“, все-таки как-то так поворачивается, что здесь – и смирение, и самоотречение, а там – „брэндовская установка“. Знаешь ли, во всяком грехе и соблазне есть два момента: момент чувственного услаждения и момент покорности темной силе. Они почти сливаются, но могут быть и разделены. Так вот твоя природа, насколько я понимаю, такова, что во всех твоих ошибках главное место занимает второй момент, совсем или почти совсем вытесняя первый. Только этим могу я объяснить твое удивительное бесстрастие и рядом с ним понимание влекущей силы зла…
Вот, и хотя ты отрицала это, мне кажется, что тут у тебя тоже была человеческая усталость. „Сладости покорности“, конечно, не было, это и я согласен, но „может быть, незачем сопротивляться“ – эта роковая формула была. И еще: вот, если хочешь, сущность моих страхов. Ты ведь сама сказала, что „то“ – абсолютно невозможно, что оно вызывает в тебе даже самые нехристианские чувства. Но я не мог не видеть безумия того, чтобы, перед лицом неба и земли давши человеку согласие на „нормальную“ жизнь, человеку, который мечтал об этом много лет, притом дорогому человеку, страдания которого нельзя будет воспринимать с полным равнодушием, надеяться на то, чтобы устоять…
Не кажется ли тебе, что я впадаю в отеческий тон? Пусть не кажется. Помнишь, как ты билась над исправлением моих пороков и спрашивала, какие у тебя недостатки? Не думал я, что когда-нибудь и мне придется с тобой спорить. Теперь-то я по-настоящему люблю тебя – это не просто идиллия, как было в прежние годы. Правда, та идиллия была омрачена „прекрасной королевой“, но, кажется, ее подземелья уже раскрылись. Даст Бог, во всех уголках светло там будет. Если бы мне так! Целую тебя. Г. с тобой. Лель».
Письмо Олега через три месяца.
«28 июня 28 г. Мне почему-то кажется, что моя „кавказская“ полоса кончается. Я боюсь, как бы это не привело к тому, что тоньше станет ниточка с дядей. Давно не видал его, но последний раз он был очень хорош. Уходя от меня, сказал, что хоть устроение моей „семейной“ жизни сейчас не удалось, но „раз оно начато, то уж будет тебе все равно так нужно“.
Я не отрекаюсь от Кавказа ни „внутренне“, ни „внешне“ (понемногу вожусь с достройкой хаты), а просто линия жизни как-то не так идет. Ну да мне это тоже неясно. Хочется повидаться с тобой. Неужели нужны еще испытания и осенью не увижу? Господь с тобой. Л.».
«6 июля 28 г. Получил я твой ответ на мое письмо, которое было по поводу твоего длинного, и недоумеваю: как ты его читала? Какое жалкое было мое письмо, но как ты могла вычитать там чуть ли ни благословение твоему шагу? Ты поняла, что я с тобой, хоть и считаю тебя заблуждающейся („праведно“, как ты поясняешь), и постараюсь не страдать. Этого там написано не было. Ты пишешь, как ты получила мое письмо и что переживала. Но я еще больше испытал в связи с твоим. Оно сразу произвело обычное действие – сердце болезненно сжалось и осталось в таком состоянии, так что трудно стало на гору подыматься и так далее. Как я ни старался скрыть от Арсения (он тогда был у меня) и других свою тоску, мне это не удалось. Арсений сразу спросил, что со мной, и другие, посторонние, если с кем приходилось встречаться, замечают. И вот я обдумал все это и увидал, что жить так я не смогу. Но так как, по непонятной милости Божьей, я, хоть и больное, извращенное и изломанное существо, чувствую всякий излом, все духовно нездоровое, но понял, что мне надо как-то найти силу жить, найти силу физически не умереть. Вот об этом-то я в этих самых словах и писал тебе, т. е. что постараюсь не умереть. Но теперь это кажется мне невозможным. И хоть и надеясь на помощь свыше, я переоценил свои силы. Вижу это из того, как мучительно тянется время. Хотел бы увидеть тебя осенью, и не знаю, как дотяну! Ты писала, что едва ли удастся приехать – я, мол, не знаю нынешних экономических условий. В прошлом году ты не написала бы так; ты все писала: „необходимо увидеться“ и приехала сама. Но неужели ты думаешь, что я смогу жить здесь зимой? Да стены моего дома станут мне тюрьмою, я способен хоть пешком в Москву идти, или, если это бесполезно, куда-нибудь.
Может быть, это слабость, но какую же надо иметь силу? Сейчас мне трудно писать тебе, так как нахожусь в Сочи. Сижу за письменным столом знакомого доброго старика. Его нет дома, но есть другие, и собраться с мыслями трудно. На столе возле чернильницы стоят старенькие песочные часы. Вот я поставил их перед собой, сыплется мелкий песочек неуклонно, ровно, как идет время, и я думаю о тебе, что было и что есть, и „никаких мыслей нет, кроме тоски“. Думаю о том, как удивительно извращенно мыслишь ты, лишь бы оправдать себя. Думаю и о себе. Если бы я мог молиться – я ушел бы далеко-далеко. Если бы я не был верующим, то не жил бы больше. Но давно нет у меня молитвы, и я истолковал это в том смысле, что жизнь моя – в мысли, а молитва – сколько могу. И я научился читать и мыслить перед иконой Христовой, мысленно к Нему взирая сквозь строки книг и тетрадей. Я понял, что можно так жить, учиться, думать, ни к чему не привязываясь и взирая на единственный любимый Лик.
Но я был не один. Ты проделала надо мной со свойственной тебе бессознательной обдуманностью, может быть, один из самых страшных и смелых опытов, какие люди предпринимали. И результатом было то, что я не знаю – где я кончаюсь и где ты – в духе, в душе и в плоти. Незаметно так случилось, что твое девство стало биться в моем сердце; и доставляло это то такую радость, какая никому, верно, неведома, то такую скорбь, которой тоже, верно, никто не знает. Пусть иные сильно скорбят (только святые могут), но иначе, а для меня эта сила уже у предела.
Далее, вспоминал о том, как увидевши свой жизненный путь, неожиданный, скромный, но освященный надеждой, не мыслил его иначе как с тобой. Не в смысле совместной жизни (сначала, по крайней мере, я очень ее боялся – боялся, ибо страшился за твое девство), а в смысле совместного труда. Через тебя многое мне открылось, и мысль моя от тебя не отделялась. Потом я заметил, что тебе хочется и совместной жизни – и согласился с этим, увидев силу Христову.
Но если я не торопился, то, во-первых, потому что ждал воли Божьей, а во-вторых, по следующему соображению: я хотел узнать, что это не моя слабость. Почему жалкое впечатление производит, когда два существа прижмутся друг ко другу, смотрят один другому в очи и заменяют один другому всю вселенную? Пусть даже в девстве, но это не должное, и праведно спорят против этого отцы. Так вот, как прежде я спрашивал тебя о „токах“ – не это ли называется страстью? так и тут я испытывал себя. Потому-то и хотел минувшую зиму не приезжать.
И я увидел, что, насколько видит духовное око, нет у меня „привязанности“ и есть подлинная любовь. Да, я мог жить и трудиться без тебя, без физического присутствия, только мне надо было знать, что ты существуешь. И я понял, что можно и, вероятно, угодно Богу, чтобы мы жили вместе или по возможности близко. И в таком смысле я надеялся на предстоящую зиму, отчего и хотел приехать пораньше.
При этом я не забывал А. В. Я думал, что ты мучаешь его именно тем, что не сделала еще решительного шага (пострига) и что на другой день после этого шага он был бы „счастливейшим человеком“, по твоему выражению.
Не буду вспоминать о том, как ты стала периодически становиться „чужой“, как обманывала себя и меня, решительно говоря вещи, которые назавтра отрицала. Как словно видел я спокойную, рассчитанную, неумолимую, уверенную в своем успехе силу адскую, которая влекла тебя к твоему безумному шагу. И как росла скорбь и беспокойство мое, как вынимали жизнь из моего сердца.
Только теперь я почувствовал, в какой мере жил тобой и с тобой.
Ты нервничаешь, и сердишься, и, может быть, страдаешь, но ты хочешь невозможного. „Праведными“ твои заблуждения я считать не могу, а если бы и считал таковыми, быть спокойным, как Сережа, после того, как мы с тобой столько лет искали и узнавали, что такое девство, и страдали из-за этого, не могу…
Главное, чего я боюсь, это что ты естественно умрешь для меня, останется только скорбь – боюсь, что Ляли уже нет.
Боже мой, Боже мой, если бы ты видела мое сердце!»
Это письмо переломное. В нем Олег погружается на дно своей тоски. Невозможно без ответной скорби и сочувствия читать эти строки, хотя пожелтела уже от времени бумага, на которой они написаны, и писавшего их давно нет на свете. «Неуклонно, ровно сыплется мелкий песочек, как идет время, и я думаю о тебе, о том, что было и что есть, „и никаких мыслей нет, кроме тоски“», – повторяет он мою же фразу из только что полученного им письма.
Он ослабел, он томится, он ищет в себе и не находит сил, «чтобы начать опыт перерождения своего существа». Он пишет: «Только теперь я почувствовал, в какой мере жил тобой и с тобой… если бы ты видела мое сердце!» – эти слова тоже были из моего последнего письма.
Я не решалась написать Олегу всю правду о том, что происходит, и обманывать его было невыносимо. Наконец я получила отпуск и, не медля, поехала к нему на Кавказ.
Бессильной чувствовала я себя в Москве, но достаточно было двинуться поезду, чтоб снова появилась надежда: все развяжется, и мы будем все спасены. Ведь даже в поезде произошло со мной нечто, похожее на чудо – происшествие, которому и сейчас трудно найти разумное объяснение.
Дело в том, что Марина Станиславовна, провожая меня на вокзале, положила мне в ручную сумочку деньги для Олега: очередную маленькую сумму от его «мецената». В сумочке лежали также мои деньги и документы, и я старалась не выпускать ее из рук. Путь был долгий в те времена – трое суток. На второй день все в купе уже знакомы, ведется оживленный разговор. Неожиданно открывается дверь, на пороге стоит оборванный, грязный бродяга или нищий, он держит мою сумочку и говорит, обращаясь ко мне:
– Это вы забыли в уборной.
Я ужасаюсь, потом радуюсь, открываю сумочку: все в ней нетронуто. Я бросаюсь в дверь, которая уже закрылась за оборванцем, но его нет в коридоре. Я быстро пробегаю вагон: нет и нет! Я перебегаю на ходу поезда в соседний вагон – и там его нет. Никто не может мне сказать, куда исчез странный человек. На всю жизнь остается от этого человека только загадка с так и не высказанной ему благодарностью.
Олег жил на Змейке один. Он совсем не был похож на того ослабевшего, растерянного человека, каким я застала его после смерти Николая Николаевича прошлым летом. Он был теперь собранно ласков и даже не очень грустен. В нем чувствовалась независимость от жизни, какая-то кроткая над нею власть.
И снова, как год назад, мы провели ночь под звездами: мы лежали на полу в пристройке, где не была еще забрана одна стена. Ночи стояли, помню, прохладные. Олег настелил свежего сена. Оно грело нас и сохраняло наше общее живое тепло.
Еще он укрыл меня своей старой курткой. От куртки шел избяной запах крестьянской одежды, и к нему примешивался запах его большого натруженного тела. Он лежал рядом, прикасаясь щекой к моей щеке, иногда приподнимаясь на локте и заглядывая мне в глаза. На плече своем я чувствовала его огрубевшую от плотницкой работы руку. До сих пор я помню форму каждого пальца на ней, резко выдающуюся косточку на мощном и худом запястье: оно предназначено было для сильного человека – таким задуман был он природой.
Олег не возмутился, не загоревал, чего я так опасалась, не выказал даже волненья. Он обнял меня с незнакомой до сих пор силой и спокойствием, поцеловал и сказал:
– Ничего не было! Помни – ничего не было с тобой. – Я плакала беззвучно, прижавшись к нему, а он оглаживал меня жесткой большой ладонью с той нежностью, какой я больше ни от кого в жизни не видала.
– Ничего не было, – повторил он. Потом он сказал мне впервые в жизни такие невыполнимые слова: – Мы никогда не будем расставаться с тобою. Ни днем, ни ночью.
Он поднял к звездам лицо, звезды плыли, пылая, низко над нами по черному небу, и я различала их блеск в его глазах.
Он наклонился надо мной и сказал со властью:
– С этим я предстану на Суде.
От человеческого суда мы были бесконечно далеки. Если б мы могли тогда вместе умереть!
«Никогда не разлучаться» – может быть, я должна была сама догадаться раньше и сказать тебе об этом? Я знаю, мы не нарушили бы той святыни, ты так хотел, и, значит, сам был тому порукой. Но раньше мне эта мысль никогда в отношении тебя не приходила на ум. Теперь было поздно: ты был монах, а я – женщина, связанная с другим человеком невидимыми, но крепкими узами, силу которых я, как ни противилась, ясно ощущала на себе. И я не могла себя объяснить ни себе самой, ни Олегу.
Подошло время возвращаться в Москву, а единственным правильным шагом было любой ценой туда не возвращаться. Даже выключить временно мысль о матери. Олег не мог меня спасти, если бы даже догадался меня запереть или связать, как поступают с душевнобольными! Он ждал моего свободного решения…
Наступил день отъезда. Мы проехали на машине до Сухума, где и ждали целые сутки парохода, идущего на Новороссийск. Днем мы взяли лодку и выплыли далеко в открытое море. Олег сидел на веслах, я – на руле. С детства я боялась глубины и плавала всегда у самого берега. Меня ужасала мысль о темной подвижной бездне подо мной.
Когда мы выплыли из бухты, Олег сказал мне:
– Прошу тебя, спустись в воду и поплыви над глубиной.
– Но я боюсь.
– Преодолей, попробуй. Я буду рядом. Спускайся через борт.
Я сбросила платье и послушно перекинулась через борт лодки. Я плыла, и страх мой постепенно стал проходить. Вот я уже спокойно различаю далекую линию берега, и небо, и лодку, и улыбающееся, ободряющее лицо Олега. Так я овладела страхом.
Вечером пришел мой пароход. От пристани на него вел длинный помост с поперечными планками для упора ног. Провожающих на помост не пускали. Я простилась с Олегом внизу и стала подыматься. У самого входа на пароход я споткнулась и, придавленная своим заплечным мешком, тяжело упала плашмя лицом на помост. Я услышала глубоко внизу тревожный окрик Олега: наверное, он заметил в полутьме мое паденье. Собрав все силы, я ответила ему успокоительно:
– Ничего, все в порядке!
Крикнув так, я скрылась с его глаз, увлекаемая потоком пассажиров в адский жар и смрад темного трюма. Лицо мое было разбито в кровь. Нашлись участливые люди, меня положили, обложили голову холодными компрессами. Я лежала, и неотвязная мысль давила на сердце: «Это случилось недаром». Я никогда не верила предрассудкам, легко сбрасывала предчувствия и страхи силой какой-то отчаянной веры в лучшее, протеста против безвыходности и трагедии. Но сейчас я с ужасом убеждалась, что мне лишь остается закрыть глаза на неминучую правду: разбитое лицо было ее отражением. Я еду на казнь, я приговорена безнадежно, я сама этого хочу, и никакая сила не может освободить меня от моего желания.
Неужели же все, что светило мне с детства, было напрасно?
Так началась новая зима. Вокруг шли аресты священников и мирян, не признававших митрополита Сергия. Михаил Александрович приходил к нам усталый, грустный, часто напоминал он зверя, измученного преследованиями охотников. Люди, дававшие ему кров, начинали его побаиваться: и правда, у всех была трудная жизнь, семья, нужда… Вокруг исчезали все лучшие. Церковь обнажалась. Скоро, возможно, и не останется преемников благодати, которыми, как мы понимали, были священники, не примкнувшие к митрополиту Сергию. Об этом я как-то спросила Михаила Александровича:
– Как нам быть, если не останется священника старого посвящения?
– Не надо создавать новый раскол, – ответил Михаил Александрович. – У нас единая Церковь, внутри которой ведется борьба. Если никого не останется – идите с ними, только не забывайте крови мучеников и пронесите свидетельство до будущего Церковного Собора, который нас рассудит, если только не кончится история и не рассудит уже Сам Господь.
Михаил Александрович, изредка ночуя и у нас с мамой, теперь как-то особенно проникновенно благодарил. Больно было видеть его невысокую похудевшую фигуру, осторожно спускавшуюся с лестницы ранним утром; он прячет под воротником пальто свою седую бороду – нет, и теперь он с нею не расстается ни за что.
Я чувствую, как Михаил Александрович теперь меня ревниво сторонится. Он с грустью говорит однажды Шуре:
– Наши пути с Валерией разошлись!
Мне он не говорит ничего.
Ранней весной Олег, выполняя послушание о. Даниила, отправляется в Ленинград, где еще сохранился епископат Тихоновской церкви. Там он принимает иеромонашество, а на обратном пути останавливается в Москве.
…Мы сидим с ним рядом на диване. Он повторяет мне те невместимые для жизни слова:
– Мы с тобой никогда не будем расставаться, ни на одно мгновение. Ни ночью, ни днем.
Давно ли он уговаривал меня потерпеть эту недолгую жизнь до встречи «в невечернем дне вечной радости»? Я берегу ту записку. Я не спрашиваю его, как теперь для нас может быть осуществлена совместная жизнь. Глубокая печаль заполняет мое сердце, но я молчу. Я знаю: сейчас совершается и проходит последняя минута моего единственного счастья. Надо ее запомнить на всю оставшуюся жизнь. Я вижу все это в ясности необычайной и говорю Олегу:
– Что бы с нами ни случилось, запомни, мы были самые счастливые люди на земле!
Он молча, понимающе кивает мне головой и опускается на пол, на ковер, к моим ногам. Знает ли он, что это последняя, крайняя, самая полная наша минута? Он поднимает на меня глаза, как на его детской карточке, в которые боялась смотреть ему – младенцу – мать. Он говорит:
– Какие у тебя холодные руки! – и греет их в своих больших ласковых руках. Мы молчим. Наконец, мы прощаемся: завтра он уезжает на Кавказ.
У меня сохранилось письмо, написанное им в те дни пребывания в Москве – нам негде и некогда было поговорить уединенно.
«Без даты. 1929 г. Знаешь, с грустным настроением был я в среду в церкви на Воздвиженке. Был усталым, служба была длинная, с литией, у них престол в приделе. Трудно было стоять, голова неясная. И вдруг случилось то, чего давно не помню: то молитва обычно своя бывает, свои слова, скорбь, прошения, покаяние, свои чувства, свои „энергии“, если угодно. А то внезапно откуда-то иной свет, словно поток „энергии“ иной, словно кто-то посмотрел – и взор этот – сила и любовь; око Божьей Матери, сверху, откуда-то, любящий милосердный к тварям взгляд Ее, Ее присутствие. И бодренно, трезвенно в этом свете стоишь. А окружающее померкло, далеко где-то, и боишься шелохнуться, а в груди этот исток воды живой. Что-то такое новое и сильное, и мысли несвязные, слова к самому себе: „Вот что! Вот Ее присутствие, Ее милосердие, забота и любовь! И как я могу чего-нибудь бояться!“ И потом: „Так можно и умереть!“ И еще скорбь, что уйдет и что будешь опять в том же мире и в тех же своих мыслях. И ушло, и стало все, как обычное.
Знаю, что ты скажешь: может быть, это что-нибудь чисто физиологическое? Ну, а я разве стану доказывать? И ведь и не скажу никому, кроме тебя.
Знаю только, что если когда поцелуешь тебя – ясность и сила, источник какой-то чувствуешь, „энергию“ чистую от тебя, то может быть несравненно сильнейшее ощущение, что Кто-то принимает и милосердно смотрит. Это может быть несколько раз в жизни. Написал не к тому, чтобы придавал значение, но если говорят об „утешении“ схимники и схимницы, мы не ждем его. Мы не ждем, но вот приходит. И если бы пришло в затворе, в тюрьме, то можно вынести что угодно. И если сомневаться – не прелесть ли, то, во-первых, ты знаешь, что не ищем мы ничего, а во-вторых, если уверен я в твоем существовании, то ведь не по внешнему образу – так мы и всех людей видим – а по зрению души твоей. Вот и это так, только тут, страшно сказать, Матерь Божья.
Это так, не придавай значения. В жизни суетной все туманится и забывается.
Листок кончается, и писать кончу. Господь да хранит тебя.
Как наивно было это слово: „любовь есть радость о бытии другого“. Она будет такой в Царстве Небесном. А в этом мире два совершенно противоположных (да еще как противоположных – не как человеческие верх и низ, а как небесный свод и подземные глубины вод) чувства объемлются этим словом: „радость о бытии другого и скорбь от опасения небытия, похищающего друга“».
Так кончается это без подписи письмо. В жизни суетной все туманится и забывается. Да, все забывается, но остается слово. Слово – это вечная память. Вечная память – это бессмертие.
Олег уезжал на Кавказ с того самого вокзала, с которого я провожала Николая Николаевича. Поезд трогается. Олег стоит на площадке и держится за поручни, высокий, ни на кого в мире не похожий. Его провожает в этот раз много народа. Глаза Олега обращены ко мне, но этого, вероятно, никто не замечает. Все машут ему, все радостно оживлены. Ни для кого ничего не случилось, только для нас двоих. Поезд исчезает в темноте. Я остаюсь одна и вспоминаю его слова: «Как бы я мог тебя унизить своим желанием? Вовлечь тебя в слепой принудительный акт природы? Носить, рожать? Один страх за тебя…» Я это еще с тех пор понимала, как мне показали карточку моих теток, умерших родами: в природе скрыто неблагополучие – какое? Я была создана для любви – иного не было у меня дарования. В мире людей любовь разделилась на тело и дух. И я стала, подобно многим, жертвой этого разделения… Просто сказано об этом в Евангелии: «Женщина, которая рождает, терпит скорбь. Потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир» {186} .
А от Олега снова приходят письма.
«16 июня 1929 г. Милая, дорогая и единственная Ляля, что-то в этом году так все выходит, что ни от тебя толком вестей нет, ни я не могу писать. Сейчас пишу в одном небольшом хозяйстве, где нашлась мне работа по садоводству. Но до почты далеко, верст 12, и надеюсь только дня через три там быть. Здесь чувствую себя хорошо – отдохнул как в санатории. Сад тихий, уединенный – дело мне знакомое, предлагают и впредь работу, так как садовников мало, и мои, хотя и скромные, познания кстати. Очень хотелось бы тебя хоть на время на поправку устроить. Тишина этих сливовых садов делает их специальным санаторием от всяких нервов. Но я спешу к себе, так как забросил свое хозяйство. Ушел, посадив картошку и капусту, и не знаю, что там делается. До сих пор было суховато, но теперь пошли дожди, что весьма кстати, так как были опасения за урожай.
Что буду делать дальше – сейчас не знаю. Надеюсь, что меня уже ждет письмо от тебя. Либо продолжать хозяйство, либо бросать… Зависит, собственно, от тебя: соберешься ли ты в эти края (на что, по-видимому, нет никаких данных) – тогда буду ждать, в противном случае, хотелось бы еще где-нибудь повидать тебя. Необходимо знать твои планы, отсюда будут зависеть и мои. Если не писала, напиши сейчас же – и туда, и сюда.
Как хорошо, если бы ты могла побывать тут. Прошлись бы по новым местам, которые тебе, несомненно, понравились бы при всяком настроении, и, во всяком случае, действие было бы хорошее на здоровье и т. д.
Письмо это писал где-то в саду, а кончаю у моря. Погода холодная, над морем тучи, и сверкают молнии, и хочется затопить печку и закутаться в одеяло. На июнь не похоже. Маме твоей сейчас не пишу, у моря при прохладе не много напишешь. Жду времени идти на поезд… Прости, целую крепко. Г. с тобой. Л.».
В это время идет мой служебный отпуск, и мы плывем с Александром Васильевичем на теплоходе по Волге и Каме. Там на пристанях я получаю «до востребования» письма Олега. Получаю их тайно, чтоб перечитать на палубе, когда Александр Васильевич спит.
«20 июня 1929 г. Милая и единственная детка, сегодня получил твои письма с пути. Конечно, ты знаешь, какое действие должны бы они на меня произвести, если бы не было этого действия и раньше. Как ты можешь спрашивать, помню ли я о тебе? Не было такой минуты ни днем ни ночью, чтобы я о тебе не думал. Боль о тебе меня не покидает.
Ты винишь меня в том, что я не сразу тебя полюбил, что уезжал на Кавказ. Я любил тебя, но ты знаешь, что я боялся себя. Я страшился опалить тебя, я не мог предположить, что та злая сила, которая весь род человеческий съедает, может не иметь власти над людьми… Да, если бы это шло скорее, если бы полюбил тебя без страха и опасений, тогда, может быть, нынешних наших страданий не было бы.
Но что говорить о минувшем – о настоящем станем думать. Тяжко, невыносимо тяжко то, что ты в плену. Что ты – под гипнозом. Если бы я был святым, я стат бы изгонять из тебя бесов или от тебя, от сердечка твоего дорогого.
Они исказили душу твою, исказили веру твою. Я не могу верить в Твоего Бога… У тебя все стоит призрак рока, и на словах ты отказываешься, это выдумка сатаны влечет тебя, как связанную, ты в плену, ты против воли идешь. Это родовая стихия имеет власть над тобой – подсознательно все время эта мысль: „А может быть, нужно, чтобы человек родился…“ Господи, истреби мерзкого беса, смущающего создание Твое!
Что могу я сделать, детка, я бессилен тут, лишь Бог может изгнать. И то в тебе темное, что способна замечать и писать такие мысли, что ты красивая, и этим мужчинам хотелось бы, чтобы ты с ними ехала, уверяю тебя, что такие даже невинно бесстрастные и печальные мысли не приходили бы тебе в голову, если бы не был приставлен к тебе родовой бес, и ты не принимала бы частично его нашептывания. И приставлен-то он не по „року“, а потому что ты ему должна – ты слушала и слушаешь порой его слова.
Думал я, ну что я теперь могу сделать для тебя? Садить сад, чистить сапоги в Москве, или служить там садовником, или еще что-нибудь? Недавно встретил Митрофана, который ломал голову над тем же и поведал мне грустный вывод, что единственное, что нужно, это сыпать деньги мерками, а это сейчас невозможно. Для этого надо или спекулянтом быть или большим начальником. Это был тот же вывод, который и мне известен, и я думал о том, если бы требовалось заботиться о тебе с мамой здесь, или быть сторожем, или садовником где-нибудь там, я мог бы, но нужно быть богатым, а это сейчас невозможно физически. Но и требуешь-то ты этого потому, что не доверяешь Спасителю. Ты похожа на мать в том отношении, что за нее, под ее гипнозом страшно боишься нужды.
А мне кажется, что тебе вреден самый стиль покойного Николая Николаевича – там была Ривьера, а тут – каюты пароходов на Волге и т. д. Это звенья одного целого со страхом за мать.
Если бы верила больше – сюда бы приехала. Очень просто: не пошла бы на службу, а взяла бы билет на Кавказ и нашла бы меня. Я бы пошел с тобой в еще новые неизвестные тебе места, ты бы отдохнула, пришла бы в себя, помолились бы вместе, и сошел бы с тебя этот туман.
Радость моя, ребенок мой единственный, для которого я живу, и вместе – нож, который мне в сердце вонзили, – ты своей рукой – и не вынули, послушайся, приезжай сюда. О маме не беспокойся. У нее много друзей, они позаботятся это недолгое время. Она ведь клялась, что на любую жертву для тебя готова. А за тобой и она приедет.
Я думаю, мне лучше не ехать. Чего мне там делать? Работа и здесь найдется. Если я хотел ехать – то лишь для тебя, чтобы около тебя побыть. Вместо этого подождал бы я тебя здесь – и на зиму здесь бы остались. Приехала бы тогда и твоя мама и устроилась бы здесь. Мои знакомые домик в Сочи, кажется, купили, и он пустой стоять будет – жить можно. И здесь в горах тоже можно, и в Майкопе можно. Тут и Сережа, и Митрофан, – понадейся же на общую заботу хотя бы.
А у меня работы по садоводству достаточно. Ты спрашиваешь, люблю ли я тебя. Мне тут находится место агронома – это лучше, чем просто садовника-огородника, и я ради тебя отказался, чтобы не связывать себя службой, чтобы иметь возможность уехать. А была бы ты здесь – я взялся бы. А как бы хорошо вместе жить и работать! Если же кто тебя любит – пусть сам к тебе приезжает. Решись, время пришло уже, разве же это так трудно?
Я вспоминаю тебя только в двух образах: во-первых, какой ты была в тот памятный вечер, когда увидел я ту „руку“, как ты отдыхаешь душевно и телесно получше примостившись, ясная и мудрая (в подобные минуты ты бываешь особенно мудрая). Во-вторых, в том платьице, которое примерял тебе Семен, когда еще зеркало подносил {187} . И в этом, и в другом образе – ты сама, в настоящей своей природе, не затемненной чуждым влиянием… Поверь, детка, что обе вы тут хорошо проживете.
Ты посмотри, детка, при моей непрактичности с Божьей помощью выходят же практические вещи у нас. Боря приехал сюда и поныне здравствует, и участок наш хорош, построили домик здесь – и сейчас стоит. Предлагают место садовника и агронома. Готовое пристанище и в горах, и у моря, и на Кубани, и вместе отлично наладим жизнь. Страхи твои суть тоже гипноз. Вспомни, как ты в Сухуме решилась плавать с лодки на глубине – ничего, легко. Что ты цепляешься за службу – это тоже ведь гипноз общего страха. Работу и здесь найдем. Ты только сдвинься с места, и все будет. А он, если захочет, пусть приезжает. Займи мужественную позицию, уйди – и он еще сам и маму привезет, а нет, так я могу привезти. Дело покажет.
Знаю, что еще будет держать „квартира“. „Квартиру потеряем“. Ляля, речь идет о душе – о квартирах ли думать? Брось, все будет, когда надо будет, захотим в Москву приехать – тотчас квартира будет.
Мысли эти самые трезвые. Я уже слишком перемучился, чтобы в отчаянии решать, и говорю вполне практически. Вот этим способом, на этом пути испытай мою любовь, а не требуй чудес. Что другое возможно? Жить около тебя в Москве? Это уже решено. Но ты же сама говоришь, что этого мало. Это „паллиатив“. Потому что я не смогу тебя с мамой обеспечить. Сейчас это невозможно. Но пойдем другим путем – двигайся сюда – и все будет.
Есть случай отправить письмо, потому кончаю. Напиши теперь на старый наш участок. Здесь буду не раньше как недели через две, так предполагаю. Напиши скорее. Прости, если чем обидел. Целую тебя крепко. Г. с тобой. Л.».
«29 июня 29 г. Милая Ляля, пользуюсь случаем написать несколько слов, хотя особенного ничего нет. Надеюсь сегодня получить от тебя письмо. Дошли ли до тебя все мои послания – два, воздушной почтой и одно простое, и маме твоей одно. Я еще думал обо всем и убеждаюсь, что тебе нет иного образа действия. Ты оскорбляешь Бога, ожидая знамения, нехорошо это.
Уезжай и скажи А. В., лучше напиши, что если он тебя любит – любовь подскажет ему, что надо делать. Это вырвало бы и тебя, и его из той больной атмосферы, которую ты сама же около себя поддерживаешь. Уверяю тебя, что, если бы отошла сама хоть на несколько дней, ты ужаснулась бы ложности твоего положения.
Обо мне не беспокойся. Я живу отлично.
Уходят, спешу кончать. Прости за пустое письмо, трудно писать, когда через минуту надо кончать. Помню тебя все время и все сделаю, что можно будет. Сейчас чувствую почву под ногами в экономическом отношении, спокойствие и уверенность, что пора тебе переменить жизнь. Целую тебя. Г. с тобой. Не забывай меня… Твой Л.»
И все же – я и сейчас не перестаю удивляться Олегу, потому что после этого наступает не гибель, а возрождение, и хочется следить теперь не за историей его любви, а за его личным в этой любви ростом.








