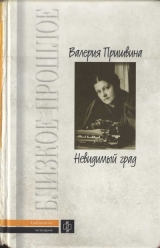
Текст книги "Невидимый град"
Автор книги: Валерия Пришвина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 38 страниц)
В то первое посещение Зина подарила мне фотографию с картины Берн-Джонса «Король Кафетуа» {118} . Картина изображает короля, посадившего на свой престол нищенку и снявшего перед нею свою корону. Такова древняя шотландская легенда. Их окружают дети с задумчивыми ангельскими лицами. Я для чего-то много лет берегла эту открытку, и Пришвин увидел ее у меня, взял и вложил в семейный альбом рядом с нашими фотографиями…
В доме Барютиных в мое первое посещение я всех легко узнавала по рассказу Зины. У Жени {119} действительно была голова камеи, сама же она – молчалива и строга. Катя – маленькая и хрупкая: круглые карие глаза смотрели серьезно и прямо из-под выпуклого круглого лба. Глаза эти заранее с тобой не соглашались. Маленький рот был упрямо сжат в бутон на круглом, как солнце, лице. Вьющиеся волосы обрамляли его, выбиваясь из прически. Ловкие на всякую тонкую работу Катины руки были округлы в кисти и в локте, с округлой ямкой там посередине. Катя была упряма, но добра. Зина незаметно на нее влияла, подчиняясь в мелочах и давая Кате полную уверенность, что она управляет их жизнью. Еще я увидала в доме белокурую девушку – почти подростка, она звала Зину на «вы», по имени и отчеству и говорила не по возрасту басом.
– Это моя младшая сестра Людмила, – сказала Зина. – Я с ней много занималась в детстве, она меня особенно поэтому и почитает. Она только что окончила школу, поступила на счетную работу, а для души поет у нас в хоре: у нее хорошее контральто.
– У кого это – у нас? – спросила я. Оказалось, что Зина с Женей в своих поисках напали на храм, где настоятелем интересный человек – о. Роман Медведь {120} . Он разъясняет богослужение, толкует учение древних подвижников об очищении внутреннего человека по «Добротолюбию» и, главное, объединяет своих прихожан в братство для взаимной духовной и житейской помощи.
Здесь нам придется отвлечься, чтоб рассказать о церковных братствах тех переходных двадцатых годов. Братства возникали повсеместно во всех крупных городах России вокруг выдающихся священников, возникали стихийно, одновременно и так же исчезли к тридцатым годам, уничтоженные органами новой государственной власти.
Надо тут вспомнить, что, по словам Достоевского, Церковь со времени Петра после отмены патриаршества и подчинения ее светской власти была «в параличе». И вот в 1917 году революционное государство отсекло ее от себя как инородное тело, как ненужный балласт, и она стала бедной, беззащитной, но совершенно свободной. А это и было единственно необходимое для нее, чтобы ей стать истинной Церковью. Быть священником или просто молящимся стало невыгодно и даже опасно, поэтому в церкви оставались теперь только верующие, бескорыстные люди. Молодежь, не вовлеченная в политическую деятельность нового государства, подобная мне и Александру Васильевичу, потянулась к Церкви: это было место для свободных размышлений, мир высокого искусства, хранивший связи с прошлым родины и ее духовной культурой. Новое, привносимое в жизнь революцией, доходило до нас столь смутно, что казалось временным и обреченным, – оно было в наших глазах чужеродно, разрушительно и жестоко.
После рассказа Зины я сейчас же пошла в храм святителя Алексея, который стоял окруженный старыми липами в Глинищевском переулке. О. Роман говорил убежденно. Как типичный интеллигент (он был в прошлом учителем), пришедший в церковь из мирской жизни, а не плоть от плоти ее, о. Роман пытался организовать жизнь прихожан своего храма по-другому, по-новому, то есть пытался придать форму той сверхличной стихии, которая называется церковностью и которая, по нашему опыту, глубже усилий отдельных проходящих во времени людей. Только долгая жизнь и опыт научили меня этому пониманию. Вряд ли я донесу его беглой записью до понимания моего читателя. Замечу только, что Михаил Александрович Новоселов всегда недовольно отмалчивался, когда выплывала в разговоре тема о братствах и их инициаторах: он-то знал, о чем я пытаюсь сейчас сказать.
Я прохожу в своем рассказе мимо того мелкого и «слишком человеческого», что неминуемо должно было снижать быт этих братств, особенно если припомнить, что они состояли главным образом из женщин с разбитыми судьбами и подорванным здоровьем. Но все отрицательное было ничтожно перед величайшей искренностью, стремлением к идеалу и бескорыстием. Здесь собирались прекрасные люди, и только в те годы кратковременного освобождения от государственной «мирской» зависимости красота церковной жизни могла так ярко выступить на поверхность и стать заметной.
У братств на Руси сколько было инициаторов, столько и оттенков. У о. Романа был свой оттенок, своя мечта – создание «монастыря в миру». Приподнятая романтика просветленной плоти, радостного аскетизма, преодолевшего грубые страсти, владела воображением о. Романа, она владела и всеми нами, идеалистической молодежью 20-х годов. И я, как в чистую воду, бросилась в эту стихию.
Нет, я не обманывалась. Какая-то последняя трезвость меня никогда не покидала: я знала, что монастырь в миру неосуществим, и понимала всю наивность этой мечты, но мне надо было войти в жизнь церкви не через книгу, написанную много веков назад, а через живое чувство вместе с другими живыми людьми. Да и чем была бы наша жизнь на земле без этих святых провалов в мечту?
Я видела, что обе сестры Барютины тоже по-разному участвуют в деле о. Романа. Зина с помощью строгого участия в богослужении, чтения и отхода от всяких развлечений воспитывала в себе молитвенное внимание к Богу, к людям, к своей душе. Вероятнее всего, она по кротости своей не смела не верить в «монастырь в миру». Сама по себе она была слишком цельна для такой романтики.
Женя отдалась отцу Роману со всей страстностью натуры. Во всех последующих испытаниях батюшки она была ему поддержкой, и он умер у нее на руках. Преданность Жени идее батюшки не ослабела даже из-за произошедшего в ее жизни неожиданного зигзага вскоре после нашего знакомства: она, как сама впоследствии мне признавалась, «пожалела» влюбившегося в нее без памяти своего сослуживца – инженера-путейца и одновременно пианиста В. А. Рождественского. Батюшка вынужден был их повенчать и, говорили, что с присущим ему артистизмом, сам того не желая, сделал из венчания похороны.
Женя переехала к мужу и разделила его большую комнату занавеской на две части. В первый же год брачной жизни Женя, однако, родила Алешу. Муж ее очень болел, а потому бросил службу, давал уроки музыки на дому и до конца дней боготворил жену. Она руководила всей жизнью: зарабатывала, перевозила на дачу и с дачи семью, заколачивала гвозди, шила, мыла, готовила и очень долго сохраняла моложавость и красоту. Мальчика она болезненно, страстно любила, скрывая это ото всех и, может быть, даже от себя. Цельно, строго, возвышенно любила она, вероятно, одного только батюшку. Вот что она сказала мне, когда приехала от о. Романа из ссылки в 30-х годах, где его навещала: «Я забыла в эти дни обо всем: о сыне, о муже, обо всех людях и всех делах».
Во время войны призванный сразу из школы в армию ее сын погиб на фронте. Никто из нас не слыхал от Жени слова жалобы. Она стала еще строже. Около шестидесяти лет ей было, когда она похоронила добрейшего своего мужа. После этого ее жизнь обрела, казалось, вполне законченную форму: всюду, где нужна помощь, приходит без зова, делает без лишних слов и уходит, не ожидая благодарности. А под конец жизни она нашла себе работу по душе: стала реставратором икон.
В хоре Глинищевского храма я заметила высокого молодого человека, певшего рядом с Людмилой.
– Он врач, полюбил нашу Людмилу. Но она еще совсем ребенок и любит по-настоящему только меня, – объяснила мне Зина. – Конечно, она ему отказала.
В своем рассказе я вернусь еще к этой паре через несколько лет. Сейчас же мне надо рассказать, как я познакомилась с батюшкой.
Мне назначен был дневной час между службами. Я застала о. Романа в пустом храме одного. Он сел на скамью, я примостилась у его ног на ступени. Он говорил мне уже давно известное из книг: об аскетическом труде и о целях братства. Я почтительно, не допуская возражений, выслушивала. Здесь Зина, которой я верю больше, чем себе. Здесь родное, что называется церковью Христовой. А люди и я сама, и все будет вокруг изменяться. Я не подозревала, что соблазн этого личного творчества внутри церковной жизни подстерегал уже и меня, что этот «соблазн» есть функция роста, признак еще неполной духовной зрелости, и мне самой его не обойти.
Итак, я слушаю выразительный голос батюшки с певучими украинскими интонациями и замечаю, как на уровне моих глаз из-под длинного подрясника выглядывает кончик его сапога. Он так хорошо начищен, что луч солнца, падающий сквозь растворенное окно, отражается в этом сапоге, как в зеркале. «Кто-то ему чистит обувь, – думаю я, – и вкладывает в это маленькое дело всю свою любовь. В простой жизни так сапог не чистят».
Я сижу у ног батюшки и думаю… Сила католичества – организация, сила православия – таинство. «Отойди от мира, и он ляжет у твоих ног, как раб», – читал тот же о. Роман Исаака Сирина {121} . А тут наивная мечта: христианский социализм? Она из прошлого века и уже потерпела крушение. Я думаю: «Христиане ничем не должны отличаться от окружающих. Они должны делать общее дело: строить, лечить, обрабатывать землю и рядом с этим совершать богослужение, миру непонятное и ненужное. Так жили первые христиане. Почему нам не вернуться к своим истокам?.. А что если это началась уже моя мечта, и в таком случае, чем я отличаюсь от батюшки?» – Обрывки мыслей сталкиваются, путаются, и я делаю усилие, чтобы их отогнать. Я отрываю взгляд от гипнотизирующего пятна на кончике сапога о. Романа и поднимаю голову: хорошее лицо, добрые печальные глаза.
– Хочешь ли вступить в наше братство?
– Хочу.
Батюшка кладет мне на голову руку и произносит свою молитву. Он любил по разным поводам произносить такие молитвы от себя. Он молится о новой овце, приобщаемой к Христову стаду. И тут острая мысль ужом проскальзывает, я не успеваю ее остановить у порога сознания: «Какая же я „овца“? Разве ты не видишь меня? Уж, не для своей ли „идеи“ ты собираешь овец? Если бы для Христа – ты не стал бы возиться с организацией братства…» {122}
Мысль ясная, холодная, и она делает невыносимо ложным мое положение. Встать, извиниться, уйти? Это будет оскорбление. Нет, нужно сделать усилие и вытолкнуть эти мысленки: жизнь сама поведет – я уже верила в ее руку над своей головой.
Если бы возможно было обогнать время и тогда, в 1923 году, заглянуть в дневник М. М. Пришвина 1943 года, где он записал по поводу моего рассказа именно об этом давно утонувшем прошлом:
«Единственный ли это путь – быть овцой или пастырем? Для овцы и пастыря это единственный, но есть, например, такое существо, как козел <…> Овцу надо гнать, а козел идет, не думая ни об овце, ни о пастыре: он идет сам по себе. И умный пастырь, облегчая труд себе, ставит козла впереди стада: козел идет сам по себе правильно, а за ним идут овцы. Так вот это и есть наше положение в церкви: мы, художники, не овцы, не пастыри, мы, как козлы, просто умные существа, идем сами по себе, а за нами без всякого нашего старания идут овцы. Мы – козлы, нам нет дела ни до овец, ни до пастырей, а дорога наша одна» {123} .
А тем временем обычная моя жизнь шла своим чередом, и события в ней катились своими путями, повинуясь каждое данному некогда толчку.
Пришел сентябрь, сухой и теплый. На именинах мамы в Натальин день Николай Николаевич мне шепчет:
– NN вернулся с юга, – я знала, что NN взял отпуск и уехал по настоянию Николая Николаевича «проветриться».
– Ну, так что же?
– Мне надо с вами поговорить без свидетелей, поедем завтра за город.
На следующий день наш разговор продолжается на некошеном лугу около пустынной станции, где наугад мы вышли из вагона. Я слушаю Николая Николаевича и грызу сладкие основания травинок. Николай Николаевич время от времени, не прерывая речи, ласково, но настойчиво их у меня отнимает: «Сколько здесь проходит народу, можете заразиться!» Я не возражаю, но вот снова рука тянется за стебельком. И снова Николай Николаевич его у меня отнимает. Пока Николай Николаевич говорит, я думаю о своем: слова его плохо до меня доходят – я не хочу возвращаться к пережитому. Его послал NN как друга убедить меня «в последний раз».
Меня утомляет борьба за травинки. Я ложусь на спину, закинув руки за голову, и смотрю в небо.
– Когда смотришь в безоблачное небо, кажется, будто оно опускается на тебя. Вам тоже?
Николай Николаевич укоризненно качает головой:
– Я вам о серьезном, а вы…
Я возмущенно взрываюсь:
– О чем вы печетесь? Вы же знаете, что он утешится очень скоро. Вы бы лучше пожалели меня!
Нет, напрасно я думаю, что на душе у меня покойно, это самообман. Мне очень больно от жалости к себе, мне кажется, что все, что меня манило в жизни – моя единственная любовь, все это теперь прогоркло для меня. Я ложусь ничком и прижимаюсь лицом к земле. Николай Николаевич долго молчит. Потом отрывает от земли мою голову, целует мое лицо, неловко, поспешно; гладит мою голову, плечи. Я знаю, он меня не понял, он вложил в мои слова свой какой-то смысл, и все же мне становится тепло на душе от его ласки. Тот ли это насмешливый и сдержанный человек? И тут он говорит мне:
– Вспомните наш разговор весной. Это была, конечно, у вас игра и шутка. А я не хотел тогда становиться на пути вашей молодости – я думал, что вы полюбите его. Но теперь… Я люблю вас давно… я буду счастлив… мы все забудем. Мы поедем вместе. Вы бросите службу, Наталья Аркадьевна успокоится за вас и расцветет. И у меня будут и сын и дочь – непременно двое!
– Почему, почему вы тогда не согласились! – с отчаянием вырывается у меня. – Поверьте, я тогда не шутила: я еще слушалась бы вас тогда…
Николай Николаевич понимает мои слова, как хочется ему – иного понимания он не допустит.
– Ничего, – великодушно утешает он меня, – я вас люблю еще крепче. На днях я вас представлю своей маме и сестре.
Он говорит, сияя от радости, он не считает нужным сдерживать ее: вопрос был решен им – мужчиной, какие могли быть еще сомнения? Так почему же в душе моей такая смута?
Через несколько дней Николай Николаевич, слегка взволнованный и гордый, повел меня домой на «смотрины».
– Я познакомлю вас с Людмилой Владимировной Маяковской, это преданный мне друг. «Неужели он считает, что Маяковской, влюбленной в него, это будет утешительно?» – думаю я и тут тревожно вспоминаю Александра Васильевича.
За старомодным столом в глубоком кресле полулежала слабая старушка. В ее глазах я прочла испуг, ревность, какую-то непонятную просьбу. Вот почему я свои глаза в тот вечер опускала и смотрела, не отрываясь, на скатерть.
Разливала чай женщина неопределенного возраста с резко выдвинутой нижней челюстью – сестра Николая Николаевича. Обдуманно-законченные фразы, любезно-настороженная, не сходящая с лица, точно нарисованная улыбка. Эта женщина завидно владела собой!
Николай Николаевич просит меня спеть. Сестра садится за рояль. Я не смею отказаться. Робко, как ученица на экзамене, я начинаю… Сестра берет, наконец, заключительные аккорды.
– А умеете ли вы делать нашу женскую работу? – спрашивает она со своей улыбкой. – Хотя бы так же, как петь?
«Нет, я больше не должна бороться, здесь моя судьба», – в отчаянии успокаиваю я себя.
– Валерия Дмитриевна будет отличным врачом-невропатологом, – решает за меня Николай Николаевич. – Хозяйство – вещь второстепенная.
– Нет, отчего же, – настаивает сестра, – время на все найдется, мы будем хозяйничать понедельно. – Она тоже, как и брат, все решает за меня.
Николай Николаевич показывает мне большую, уставленную множеством старых и ненужных вещей квартиру.
– Вот отдельная комната для Натальи Аркадьевны – она на солнце.
Я понимаю, я, конечно, должна быть ему благодарна…
Николай Николаевич провожает меня до дому и гладит время от времени мою руку. Какая темная, какая беззвездная ночь! Пусть он не видит в темноте моих слез, пусть он радуется, пусть ему будет хорошо: хоть кому-нибудь пусть будет около меня хорошо!
Вот она, эта страшная минута, пронесенная в памяти через всю жизнь, – глубина и утонченность падения: мне становится сладко подчиняться! Стихия женственности в природе: из нее вновь и вновь лепятся формы, чтоб снова растекаться в небытие. И это называется у людей счастьем?
– У тебя отчего-то соленые губы, – шепчет, прощаясь у моих дверей Николай Николаевич. Он даже не заметил моих слез. Он впервые сказал мне «ты»…
На следующий день он пришел к нам несколько смущенный: оказалось, вчера, возвратившись домой, он застал свою мать в нервном припадке, кончившимся обмороком. Придя в себя, она умоляла сына подождать с браком до ее смерти:
– Тебе недолго ждать, она добрая девушка, она еще так молода, что ей стоит подождать! Чует мое сердце – этот брак к беде, я не хочу его видеть.
– Это ревность, – говорит Николай Николаевич, – это пройдет. Поверьте, я преодолею в ней это своим вниманием. Осенью мы будем с вами заграницей.
«Вы не спросили меня о главном – люблю ли я вас. Вы только уверяли меня в своей ко мне любви. Я не дала вам еще своего обещания», – вот что надо мне решиться сказать. Надо оставить себе эту щель для спасенья…
– Николай Николаевич, – говорю я, – вы помните, как бывает в романах?
– Так и бывает.
– Нет, в романах он предлагает ей руку и сердце, а она ему говорит свое «да». Я вам своего «да» еще не сказала…
Николай Николаевич откровенно смеется:
– Мы с вами повенчаемся в церкви. Иначе вас не изловишь.
Если б он знал, как я радуюсь этой оттяжке, как я благодарна его матери! Я закрываю глаза на будущее.
А пока я с головой ухожу в открывающуюся мне новую жизнь. Это было не изучение, а вживание в учение древних подвижников о работе над внутренним человеком, которую они называли «искусством из искусств».
По учению христианских подвижников, все существо человека с его силами и способностями было поначалу совершенно, но вследствие общего падения природы свойства эти извратились, они как бы обернулись своей изнанкой. В этом состоянии они называются у аскетов «страстями» и подлежат выправлению, подобно тому, как негатив «выправляется» в позитив, но не уничтожается, как о том иногда ложно судят не знающие православной аскетики люди. У подвижников первых веков христианства, например, у преп. Иоанна Лествичника {124} , разработана система, или «лествица», по которой восходит человек в борьбе за очищение и полное восстановление первозданного гармонического существа своего. Вот где открывалась мне в новом значении «школа радости»! Стоять у порога сознания и не допускать туда недолжную мысль – в этом и заключается существо труднейшего «искусства из искусств». Учители «духовного делания» началом его полагали избрание себе руководителя, которому ученик должен открывать свои мысли с целью очищения сознания. Это называлось на языке аскетов «послушанием». Послушание есть отвержение своей воли и замена ее волей другого человека с целью освобождения от своей «самости».
Как ни велико было мое расхождение с о. Романом, я считала невозможным поиски иного руководителя: они могли стать бесконечными. К тому же дело заключалось не столько в качестве руководителя, сколько в искренности и самоотверженности ученика. К этому я была готова.
Михаил Александрович Новоселов как-то однажды сказал мне: «На страшном суде я буду свидетельствовать о твоем послушании». Сейчас я думаю: он ошибался, не зная всех извивов моей души. Я решилась на послушание, но не выполнила его. Незаметно для себя самой я отстаивала свою природу «козла» и не могла сделаться иной. Я бессознательно искала свой путь спасения, мне предназначенный, пусть даже и бесконечно трудный. До сих пор не знаю, была ли я права. Святой Иоанн Дамаскин {125} , поэт, поступил в подобном положении иначе. Но то был святой.
Вспоминая, я думала, что это время в моей жизни было недостойной игрой в аскетизм, и так об этом хотела писать. Но как только память пробилась сквозь все напластования и те годы предстали передо мной во всей своей правде, я увидала, что то была не игра. Это был самоотверженный труд, не заслуживающий иронии.
А в те дни на пороге православия я снова писала стихи, которые, хотя я этого еще не знала, были последней данью «теософичности» – больше стихов моих в этой книге не будет.
Ты Отец и Друг,
сокрытый в певучем сердце,
В нем обитавший, неведом
из долгих веков в века.
Ты воззвал меня
из слепых кружений к победам.
Мне не смыть отражений
Твоего непостижного света
в гордом сердце моем,
не желавшем с Тобой разделить
радость творческих сил —
в Тебе их святой водоем!
Ныне Ты улыбаясь
руку мне простираешь,
я прииму, побежден.
В долгое странствие наше
мы по мирам бесконечным
как дети, играя, пойдем.
(1923)
По требованию о. Романа я писала дневник. Все развлечения, светские книги, искусство, знакомства – все отпало, потому что перестало привлекать и казалось убогим. Александр Васильевич принес мне однажды диплом и значок института: я не пошла даже к раздаче их и на выпускной вечер. Я вспоминала, как сам Александр Васильевич три года назад точно так же бросил, не оглядываясь, свой Коммерческий институт.
Церковное искусство открывалось мне по мере вхождения в храмовое богослужение, посещение храма стало моим единственным «развлечением». Я поняла, что лучшие образы светского искусства отсюда. В богослужебных и библейских текстах поражали объемность художественных образов, смелость противопоставлений, богатство ассоциаций, иными словами – глубина поэзии. За мной пришел в Глинищевскую церковь Александр Васильевич. Он привел своего сослуживца Бориса Дмитриевича Удинцева. Сюда пришла за мной и Шура Попова, бездомная девушка, потерявшая в революцию семью. Она жила по знакомым и кормилась то как уличная продавщица-лотошница, то как преподавательница иностранных языков детям нэпманов. Устраивать свою практическую жизнь ей было трудно еще и потому, что она катастрофически теряла зрение. Шура окончила в конце двадцатых годов по нашему общему настоянию курсы медсестер и получила работу и комнату при подмосковной больнице. Раньше времени ей пришлось выйти на инвалидность, но она осталась деятельной и стойкой. Каким-то шестым чувством Шура угадывала, когда мне нужна была ее помощь, и я знала: как только заболеет моя мать и я не в силах справиться и с уходом, и с хозяйством, и со службой, не знаю, что делать – непременно откроется дверь, войдет Шура и молча примется за домашние дела.
В 30-е годы Шура взяла к себе старую женщину, скитавшуюся из дома в дом после лагеря. От нее отвернулись все, даже ближайшие родственники – это была семья крупного советского академика, по-видимому считавшая, что подобная связь была опасна. По своей доброте Шура всегда подкармливала окрестных кошек и собак, собирала хлеб и траву для больничной лошади, которая страдала от недобросовестного конюха…
«Мелкие, ничего не значащие факты, которыми полна жизнь», – скажет, может быть, читатель. Но как мне пройти мимо них? А «великое»… я не побоюсь положить его на одну чашу весов, а на другую – имя Шуры Поповой, и я не уверена, что первая перетянет.
Так проходило время. Серое ситцевое платье. Никаких украшений. Строгий пост. Раннее вставанье: в 6 утра начинается обедня, а оттуда прямо в Центросоюз. Вечером со службы прямо в церковь либо домой, где собираются друзья для совместного изучения какой-либо книги.
Зимой 1923/24 года в наш подвал приходил и Иван Васильевич Попов, которого мы нашли по завету Ильина в Троице-Сергиеве. Великий знаток староотеческой литературы – патристики, курс которой он нам и прочел, и скромнейший человек; впоследствии погиб в лагерях. Слушали его тогда мои новые друзья по церкви и кое-кто из бывших студентов ораторского факультета, среди которых был мешковатый молодой человек типа провинциального бухгалтера – Измаил Сверчков. Студентом он производил почти отталкивающее впечатление сухого скептика. Я была поражена, когда в конце той зимы он мне сказал однажды: «Сегодня я выполнил свой долг, чего не делал с детства». Это значило, что он исповедался и причастился. Помню, его слова показались мне тогда невозможно сухими и оскорбительными для события, о котором он мне сообщал. Только позднее я поняла, что Измаил так говорил от благоговения перед тем, чего боялся касаться словами. А через несколько лет я снова встретила его – уже священником. Это был редкий на моей памяти и поразивший меня пример полного перерождения: даже внешне Измаил стал неузнаваем. Он светился внутренним изяществом, мягкостью, во время службы в храме был вдохновенен. Знаю, что Измаил погиб в тяжких лагерях на Свири.
В подвал приходил еще наш бывший студент А. М. Бардыгин, образованный историк, с умом точным и собранным – типичный молодой ученый. Он также был сослан без права въезда в Москву и умер, как мне передавали, от тоски, измучившись от умственного одиночества, где-то в глуши.
Я называю отдельных пришедших мне сейчас на память людей того времени. Это были прекрасные люди, дети нашей родины, которая их не уберегла… «Горькая детоубийца – Русь!» {126} – пишет Максимилиан Волошин. А я пишу эти строки, как пишет верующая старуха свою поминальную записку с именами ушедших. Я пишу для вас, будущих людей, чтоб вы не забывали, какой ценой вы получили вашу, может быть, мирную, может быть, духовно богатую и прекрасную жизнь.
Мама не читала наших книг, мало вникала в смысл лекций, но ее покоряли сами люди, меня окружавшие. Она часто говорила впоследствии, что это было лучшее, что она встретила в жизни. Николай Николаевич по-прежнему в определенные дни и часы появлялся в нашем подвале. В наших лекциях и беседах он участия не принимал по причине деловой занятости, а вернее, по отсутствию к ним интереса. С мамой они крепкие союзники. И оба они не видят, как я, подобно воде, от них утекаю.
«После гибели отца Ляле открылся тот мир, где нет смерти, и в этом явилась ей небывалая радость, какой нет и не может быть на земле. С тех пор она стала на страже этой радости, стремясь, чтобы не подменил бы кто ее. И главный враг ее в этом отношении – ее собственная мать, стерегущая, наоборот, как бы только чем-нибудь „хорошим“ с ее точки зрения, нормальным, здоровым подменить высшую радость, понимаемую в глубине души как ненормальность», – записывает в дневнике Михаил Пришвин о моей жизни {127} . И это, конечно, правда, но я сама вряд ли это тогда понимала. Однако от Александра Васильевича я скрывала свой предстоящий брак, может быть, боясь его огорчить… Я знала, что он признавался о. Роману в своей мечте, но батюшка ему сказал: «Неужели ты не видишь, что вы не пара? Она твой друг, сестра, но женой твоей быть не может. Ты и не думай об этом». Так передал мне сам батюшка этот разговор.
Все еще шел тот единственный в моей жизни сентябрь 1923 года. События подгоняли друг друга, все стремительнее, все к одному, к одному… Невидимая цель этого движения стояла у моего порога, а я этого даже не предчувствовала. А тем временем – еще одна встреча на Цветном бульваре с Лилей Лавинской. И сейчас в точности я могла бы указать то место, где мы уселись с ней на скамейку, не разнимая рук, обрадованные. Лиля была уже матерью и, казалось бы, должна быть обогащена материнством. Но по лицу ее было видно иное. Лицо это утратило выражение устремленности и надежды, за которое я так его любила. Тот светлый огонь был притушен, а горел иной – мрачный огонь недоверия и опустошенности.
Я рассказала Лиле о своих находках, о православии, раскрывшемся мне, как самое прекрасное, что я видела у себя на родине. Лиля смотрела на меня сумрачно.
– Это мракобесие, – наконец бросила она мне раздраженно, – средневековый кошмар! Прочти Фейербаха, если только ты еще способна мыслить свободно, он тебя исцелит.
Я смотрела на свою подругу и не находила слов для возражения. Ведь я понимала ее до последней черты, я могла бы легко пересказать ей все ею же приготовленные мне слова, но сделать зримым для нее мое видение мира было невозможно: у нее не было для этого глаз.
– Ты говоришь о мраке Средневековья, но разве мы знаем подлинную историю, не искаженную в угоду веку? – пробую возразить я. – Ты подумай о другом: какую титаническую работу мысли проделали вандалы, разрушившие античную культуру и сами вынужденные потом выбираться из-под обломков, чтобы вновь ее создавать. И они создали средневековую школу мысли, презрительно называемую невеждами «схоластикой». Но мы с нашей современной логикой – ее наследники. Возьми хотя бы одного Николая Кузанского {128} … ты, наверно, о нем и не слышала… А это мост от классической древности к современности.
Лиля примирительно улыбнулась.
– Как это похоже на наши детские споры о Ницше, – сказала она.
– Неужели ты не видишь, – говорю я, – что из века в век строится, разрушается и исчезает бесчисленное множество схем понимания жизни. Все они строятся одинаково добросовестно. Люди за них идут на костер. Но сама жизнь шире нашего охвата, она вытекает из-под этих схем, как живая вода, не умещается в них. Неужели ты не видишь всех этих неразрешимых противоречий? Ты пробуешь залеплять рассудком эти бездны. Люди уничтожают друг друга и, может быть, окончательно когда-нибудь уничтожат все человечество из-за добросовестности и прямолинейности, из-за неспособности свести в единство разные идеи. Не думай, что это мои слова, так говорит один из моих учителей-«мракобесов».
Лиля слушает внимательно, но отчужденно. Я вижу опущенные углы ее рта, ранние морщины около глаз. У нее дрожит щека в нервном подергивании. И вдруг она делает мне невпопад признание:
– Я потеряла Антона. Он живет еще с нами, но он уже с другой женщиной. Это, впрочем, началось давно, еще когда ты приходила…
– А ты? – задаю я пустой вопрос.
– А я, – повторяет за мною Лиля, – работаю над плакатами с Володей.
– Скажи мне, как он? Я часто о нем вспоминаю: о его силе, о его любви…
– Володя? – Лиля криво усмехнулась, – помнишь, я говорила тебе о его любви. Так вот, мне самой, вот этими ушами довелось недавно услыхать, как любимая им женщина сказала: «Кто такой Володя? Это извозчик, на котором едем мы с Осей».
– Чем же тебе помог, что объяснил Фейербах? – восклицаю я. – Ваша жизнь ужасна!
– Прощай, – говорит вместо ответа Лиля и быстро, не оборачиваясь, уходит. Может быть, навсегда? Нет, через двадцать лет мы снова встретимся, и свидетелем и летописцем этой встречи будет уже Михаил Михайлович в своем дневнике. Но будущее закрыто от нас, и я пока с тоской смотрю вслед своей подруге. Как сейчас вижу стоптанный задник бедной старенькой туфли, ступающей в лужи, в грязь, без разбору: она не видит даже дороги, так торопливо убегает от меня.








