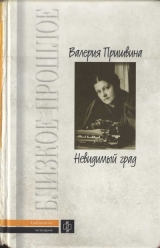
Текст книги "Невидимый град"
Автор книги: Валерия Пришвина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 38 страниц)
– У меня только что был товарищ из районного отдела НКВД. Он спрашивал о вас. Вы должны мне рассказать о себе всю правду.
Комната начинает медленно кружиться. Голос директора глухо доносится ко мне издалека, я почти что теряю сознание. Но это лишь мгновение. Стены останавливаются в своем движении, я застаю себя сидящей по-прежнему в кресле, откинувшись на спинку, спокойно глядящей на директора.
«Надо выиграть время», – проносится отчетливая мысль в голове. Для чего – еще самой неясно.
– Тут какое-то недоразумение, – говорю я. – Попросите их точнее навести справки и передайте, что мне нечего вам рассказать.
– Я так им и ответил, я был в этом уверен! – с облегчением говорит директор и трясет мою руку. Он искренно ко мне расположен, этот добрый человек.
– Что же мне делать дальше? – спрашиваю я, улыбаясь.
– Не беспокойтесь, – отвечает директор. – Они сами ко мне завтра придут за сведениями. Я вас вызову тогда.
С трудом досиживаю я рабочий день. Иду к матери, иду в последний раз: нам не вынести с ней вторичного испытания. Но я не должна раньше времени и виду подать о случившемся: мысленно прощаюсь, говоря о пустяках. Мать выходит в кухню, а я успеваю в эти минуты выхватить из шкафа смену белья, еще что-то, необходимое в тюрьме… Обнимаю мать, отводя глаза, боясь посмотреть в дорогое лицо.
Теперь найти Варю П., мою гимназическую подругу. Она меня устроила в школу на работу, ей за меня отвечать. Надо сговориться о показаниях на будущем допросе. И еще – пусть не оставит мою маму, недавно я делила ее горе – она хоронила любимого мужа, теперь ей придется делить мое.
Я уезжаю ночевать в Малаховку по месту своей прописки, где живу сейчас одна в пустующей даче. Я и не пытаюсь заснуть в эту последнюю, вероятно, на свободе ночь. И вот, второй раз в жизни я обращаюсь с мольбой к Богу. Опять прошу о спасении не ради себя – ради матери. И прошу, в сущности, о чуде. И удивительно – ко мне приходит полное спокойствие. Так наступает рассвет. Я освежаю водой воспаленное лицо, собираю маленький чемодан. Открываю на прощанье Евангелие. Читаю: «Посмотрите на полевые лилии… Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! Итак, не заботьтесь!» {199}
На улице тепло: погожий день ранней осени. В поезде я сажусь у открытого окна и жадно дышу: самое трудное в тюрьме – духота. Автобус приближается к школе. Я приглядываюсь, нет ли у входа ожидающих меня людей… Раздеваясь, прохожу в библиотеку. Директор встретился в коридоре, ответил хмуро на поклон, отвернулся… Плохой знак! Но сила терпенья, пришедшая ко мне на рассвете, меня не покидает. Так проходит весь томительный день. Меня к директору не вызывают. Наступает день второй. Я опять прошу милости ради матери. И в этот второй день ничего со мною нового не происходит. Наступает день третий. К маме я не показываюсь. И тут я чувствую, что нравственные силы истощаются, и я падаю духом. Мною овладевает та тоска черной безнадежности, в приступе которой люди, вероятно, накладывают на себя руки.
Я сижу одна в библиотеке, тупо уставившись на дверь. Она отворяется и входит Михаил Сергеевич У. – наш заместитель директора по хозяйственной части, проще говоря – завхоз. Он человек моих лет, сын сельского священника, бывший «лишенец», поэтому с трудом пробивается в жизни. Вуз ему не дали закончить, но ценят на работе. При школе у него однокомнатная квартира с отдельным входом. Все молодые учительницы в него влюблены, но ни одна из них не может похвалиться его особенным вниманием. Он безупречно строг в отношениях, со всеми подряд танцует на уроках западных танцев: вся Москва теперь учится танцевать.
Мы часто по-дружески перекидываемся с Михаилом Сергеевичем при встречах в коридоре незначительными словами. Я замечаю на себе иногда внимательный взгляд его добрых голубых глаз. От Михаила Сергеевича веет необычной чистотой и свежестью, как от деревенского луга.
Сейчас он входит очень серьезный, без улыбки, прикрывает плотно дверь и говорит:
– Я наблюдаю вас уже третий день, с вами что-то случилось. На вас лица нет. Доверьтесь мне, прошу вас! Я, может быть, вам пригожусь. Мне кажется, вам не с кем поделиться… Если я ошибаюсь – прогоните меня, я не обижусь.
– Пойдемте куда-нибудь отсюда, где нас никто не услышит и не застанет, – отвечаю я. Михаил Сергеевич ведет меня по коридорам, переходами, через множество дверей, к торцу здания. Он открывает последнюю дверь: это его отдельная квартира с выходом на улицу.
– Мы теперь одни, – говорит он, – я запер дверь на ключ!
И я рассказываю ему, незнакомому, всю свою жизнь. Рассказываю о нависшей надо мной новой беде. Он слушает, не перебивая. Я кончаю свой рассказ. Он берет меня за руку и говорит:
– Я вас запру сейчас на ключ, и никто кроме меня и вашей матери, не будет знать, где вы находитесь. Мы напишем с вами письмо директору, что у вас кто-то близкий умирает и вы вынуждены срочно уехать из Москвы: вы не знаете, вернетесь ли и просите уволить вас с работы. Он все так и сделает: я знаю, как он относится к вам. Вы уехали, не оставив адреса. Ставка на то, что следователи вам не придают особого значения – и не станут возиться по розыску следов: у них и без вас достаточно дела. Мы выгадаем время. Прошедшие трое суток – это уже шанс на спасение. Протянем еще. К матери вашей я схожу сейчас же и все объясню.
– Где же сами вы будете жить? – нашлась я только спросить.
– В кухне, – коротко ответил Михаил Сергеевич и ушел.
Так началось мое добровольное заключение. Через несколько дней Михаил Сергеевич выведал, что мое увольнение оформлено. По школе он распространил слух, что у меня умирает в провинции муж и, все бросив, я уехала к нему. Директор мне явно сочувствовал и держал мою сторону, он и не подозревал, что я в это время нахожусь с ним под одной крышей!
Вскоре Михаил Сергеевич явился ко мне с новым предложением: я перееду к его матери в деревню: это лучше, чем «одиночка!», и осень стоит на редкость теплая, и мама приедет ко мне.
В темноте с предосторожностями Михаил Сергеевич вывел меня из школьного здания, и вскоре я очутилась в деревенском домике бывшей попадьи – неграмотной деревенской старушки. Подозрительно и ревниво встретила она незнакомую молодую женщину, неизвестно в какой роли приехавшую к ней. Михаил Сергеевич ушел на ночь в избушку на маленький свой пчельник, мы остались со старушкой одни. Она легла на широкую кровать под божницей, мне положила прямо на пол сенник, долго ворочалась, вздыхала. Я тоже не сплю, и, как челнок у пряхи, снует и снует у меня одна и та же мысль: «Надо отсюда уехать, а сделать этого нельзя. Надо уехать – а нельзя…» Туда – назад, туда – назад…
Сна нет. Керосиновая лампочка подвернута, но не погашена и чадит. Старуха приподнимается на локте, вглядывается в полутьме сверху вниз на меня, лежащую на полу, садится и говорит, причитая, нараспев, покачиваясь в такт словам:
– Ты думаешь, я не вижу? Все вижу, матушка! Повисла ты на нем, бесстыдница, вижу – глаз с него не сводишь. Все вы такие теперь, ни стыда, ни совести, ни закона. Плох ли молодец мой? Статный, пригожий. Поживешь с ним, а потом на себе и окрутишь!
Все, все готовилась я вынести, только не такое! От оскорбления, от усталости я плачу, как малый ребенок, и, тем не менее, должна молчать об истинной причине моего здесь появления.
– Нечего плакать-то, – наставительно говорит старушка, – раньше надо было плакать, а уж коли честь потеряла…
Ты его только не вяжи, видишь, какой он у меня теленок, – говорит мать, и голос ее мягчеет от нежности к сыну. – До тебя он и женщин совсем не знал, все берег себя… А у тебя он не первый, по глазам вижу – не первый…
Наконец старуха засыпает. Я неслышно одеваюсь, беру свой чемодан, выхожу на улицу. Небо – в роскошных переливах восхода. Сияющий мир в природе и мрак на моей душе. Путь до станции лежит мимо пчельника. Михаил Сергеевич уже встал и бродит с дымарем между ульями. Вот он увидал меня, радостно и недоуменно машет мне рукой. Бежит ко мне, светловолосый, босой, по высокой росистой траве.
– Куда вы, что случилось?
Мне пришлось рассказать без утайки об этой ночи. Он отбирает у меня чемодан, уводит в омшаник, там пахнет воском, солнцем, свежим сеном. Михаил Сергеевич укладывает меня на сено, что-то ласково говорит. И тут я сразу проваливаюсь в крепкий сон без сновидений.
Было уже за полдень, когда я проснулась. Толкнула дверь – она заперта снаружи. Я оглядываюсь: на столе между рамок с искусственной вощиной стоял жбан с молоком, на тарелке куски сотов со свежим медом и деревенский хлеб, предупредительно разрезанный ломтями. На хлебе записка: «Увожу мать в город. Немедленно вернусь. Прошу потерпеть заключение. Ехать Вам некуда. Все будет хорошо».
Так и не пришлось мне бежать в тот раз из домика попадьи. Вскоре Михаил Сергеевич привез мою мать. И, наконец, пришел день, когда мы убедились, что обо мне забыли: безупречная машина опять дала осечку.
Передо мной встал новый вопрос: куда мне ехать и как жить? Проще всего было – за стокилометровую зону к Александру Васильевичу, но я с негодованием отбрасывала эту мысль. По месту прописки под Москвой было опасно. Тем временем наступали зимние холода. Я перебралась с пчельника в город, вернулась на работу в школу стахановцев, по-прежнему ночевала в разных местах. И тут Михаил Сергеевич совершает еще один героический поступок: пользуясь своими связями в милиции, как администратор школы, он добывает мне постоянную московскую прописку, он прописывает меня в своей квартире…
Через того же Михаила Сергеевича я получаю новый источник заработка – возможность заниматься с отстающими детьми. Я отваживаюсь теперь в определенные дни появляться в квартире Михаила Сергеевича, куда приходят после уроков мои ученики. Время все сглаживает: видно, что в школе о происшествии со мной забыли, а я стараюсь не попадаться директору на глаза.
Теперь я топлю свою жизнь в работе с утра и до позднего вечера. Мать Михаила Сергеевича живет вместе с сыном. Старушка и сам Михаил Сергеевич как дети радуются новому дивану, хорошей одежде – всему, чего им недоставало в дни их «лишенства».
– Вот и у нас жизнь, как у людей! – говорит теперь уже удовлетворенно старушка и мне с откровенной просьбой: – Не хватает только молодой хозяйки!
Я упорно молчу. Я понимаю, что обрела бы дом и покой для матери, но точно знаю: этого делать нельзя. Правда, Михаил Сергеевич мой «благодетель», но любви к нему, как бы я того ни желала, ничто не может во мне пробудить: теперь-то уж я не спутаю ее ни с чем! Ни благодарность свою, ни сочувствие, ни даже тоску по любви – за самую любовь мне больше не принять: «Любит человека тот, кто любит мысли его», а Михаилу Сергеевичу чужд мир моей мысли – я в его мире скучаю. Он настрадался от «идеализма», из-за которого погиб его отец, разорена семья. Он не променяет теперь свое право жить просто и благополучно на эти «фантазии». «М.С. в ответ на просьбу Ляли прочесть Евангелие назвал все это гнилью. – Гниль, – ответила Ляля, – это неплохо, это все равно, что навоз земле: без навоза не родит земля, и мысль не родится, если что-нибудь в себе не умрет, не сгниет» {200} , – записал в дневнике Пришвин.
Я знаю, что надо решиться и сразу резко сказать, но как скажешь, если я прописана на площади Михаила Сергеевича? Отнять надежду – значит вызвать его на борьбу: он прост, и потому самоуверен, он мягок, но настойчив. Как он настойчив! И я молчу – оттягиваю срок последнего объяснения до тех пор, когда удастся обменять комнату матери и в ней прописаться. Мне так легче – молчать и ждать.
Михаил Сергеевич временами сердится: какие могут быть еще вопросы в моем положении и при его преданности, молодости, его наружности. Он даже намекает, правда, осторожно, на мою неблагодарность… Так длится еще один, 1939 год.
Хотелось бы, да как покажешь свою «героиню» той прекрасной героиней в ореоле благородной решимости и прямоты? Как покажешь, когда приходится быть сейчас небрезгливой, неразборчивой, до предела терпеливой?! Надо жить, сжав зубы. Надо работать. Надо скрывать прошлое, лукавить и улыбаться. И, самое главное, – к матери приходить каждый раз со спокойным лицом. Так надо.
Летом 1939 года я поехала на Красную Поляну. За 10 лет здесь все переменилось, прежними оставались только горы. В поселке жили пришлые люди, старые насельники были либо высланы, либо сами разбежались. Некого, да и опасно было спросить о дороге к месту, где жили когда-то монахи.
Я излазила берега и склоны Монашки, разыскала развалины старой мельницы, мимо которой некогда шел наш путь. Дальше пройти прежней дорогой было невозможно: она исчезла. Вокруг обступали непроходимые заросли кустарника, новые мощные деревья выросли и стояли сплошной стеной. На сбитых о камни ногах, на ободранных о колючки руках не было живого места. Но найти остатки дороги мне не удалось. Я продолжала жить на Красной Поляне и осторожно расспрашивать жителей. Все чаще то от одного, то от другого удавалось услышать, что есть на склоне Ачишхо «на полгоре» поляна, вся заросшая молодым лесом. Там лежат обугленные бревна трех хат, и живут на поляне одичалые пчелы.
– Как мне туда добраться? – решилась я однажды спросить.
– Сами и не думайте – не дойдете! Есть у нас парнишка, он знает путь, он ходит туда за медом.
– Я разыскала мальчика, но мальчик лежал в припадке тяжелой малярии. Сколько он пролежит? Я решила ждать.
И тут настигла нас весть о начале войны с Финляндией. Приезжие люди бросились на машины. Рассказывали, что в Сочи ни за какие деньги невозможно достать билет на поезд, едут на крышах и на буферах. Мысль о матери перемогла, и я, не дождавшись выздоровления мальчика, уехала. Там, в дупле дерева, осталась лежать навеки последняя, никем не прочитанная работа Олега.
Единственным выходом соединиться с матерью и обрести себе дом было поменять мамину комнату. Хождение по обменным адресам стало моей новой и бесплодной работой. Михаил Сергеевич по-прежнему не верит моему решению, тем более что от него не укрыть: мы с матерью то ли устали друг от друга, то ли опустошились от постоянных друг за друга тревог. Увы! наша дружба перестала быть радостной, как в прежние, правдивые годы. Я берегу мамину записную книжку, там несколько адресов да еще строчка уже стирающимся карандашом: «Дружба, бывшая основой их земного счастья, стала уже не та».
От Александра Васильевича получаю изредка тоскливые письма. Он пишет:
«Расстояние и время – обычные помощники в разлуке – мне не помогают. И не могу теперь я дать тебе своего согласия на развод, что означало бы, что я отказываюсь от тебя и умываю руки. Нет, не отказываюсь!»
Он все еще считает наш брак действительностью, а не призрачным событием, каким он был для меня. Он так ничего и не понял в происшедшем.
Есть у Пришвина запись, сделанная им в конце первого года нашей с ним совместной жизни. Он пишет: «А. В. раскритиковал в письме „Фацелию“ и распростился с женой до встречи в Царстве Небесном. Эх, А. В., прожили вы с Лялей столько лет и не поняли, что ведь она не женщина в вашем смысле и ваши притязания к ней грубы и недостойны ее существа. И если вы действительно верите, что встретитесь с нею в загробном мире, то вы или не узнаете ее, или, узнав, впервые познаете и устыдитесь» {201} .
Я не решилась бы поместить эти слова Михаила Михайловича в свой рассказ, потому что они написаны в мою защиту и возвышение, я же вину свою знаю, знаю глубже, чем о ней пишу. В то же время я чувствую себя бессильной разобраться до конца в сложности пережитого и ищу одного – полного забвения наших прошлых общих страданий. Но, желая сжечь прошлое, я предварительно воскресила его. Значит, я должна сохранить и свидетельства единственного человека, который захотел понять пережитое нами, а не просто его осудить.
Трагедию моей жизни Михаил Михайлович разъясняет своими многочисленными записями, которые здесь все собрать и привести невозможно. Скажу одно: они были по существу раскрытием темы, поставленной мною в этом повествовании давным-давно «среди пыльных книг» в замоскворецкой комнатке Александра Васильевича где-то в начале двадцатых годов, темы – о женщине.
«Л. только тем и замечательна, что умела отстоять свои права на материнство, не отдаваясь… Лялина жизнь есть борьба за женщину в ее сокровенном значении как материнство личности (духовное материнство)». «Как Ляля проста в своей сущности, и как трудно было всем из-за этой простоты ее понять. В том-то и была ее непонятная простота, что она была мать без детей» {202} .
Я знала, с каким поездом Александр Васильевич приезжает по утрам из Можайска. Меня не раз тянуло на Белорусский вокзал ему навстречу. Вот я смешиваюсь с утренней толпой торопящихся на работу людей и вижу Александра Васильевича. Он идет, как всегда смотря себе под ноги и не видя ничего вокруг. В руках у него до предела раздутый знакомый потертый портфель. Александр Васильевич проходит близко от меня, но я могу быть спокойна – он меня не заметит. Я возвращаюсь с вокзала и думаю: надо поставить на своей жизни крест.
В этих мыслях тянутся первые дни новой зимы 1939/40 года, без видимых в моей жизни перемен. Однако они стоят уже на моем пороге, и мой рассказ, который под конец становился все мрачней и безнадежней, получает неожиданное продолжение: в мою загубленную жизнь пришел художник, понявший смысл этой жизни и страстно, убежденно пожелавший ее оправдать. Он записывает: «Если я оправдаю ее, то я тем самым и себя оправдаю. Как много в этом слове: оправдать. Положу все на это и Лялю свою оправдаю». «Наша любовь с Лялей дается нам в оправдание прошлого» {203} . Понять – значит найти в прошедшем смысл, и это делает рассказ о себе рассказом для всех.
«Ее память в отношении своей жизни работает как память художника-реалиста: утверждаются как реальность не все факты, а только те, которые характеризуют направление сознанья личности. Факты – это следы на песке существа, обладающего крыльями. Но вот следы ног кончаются, по обеим сторонам этих последних следов на песке виднеются удары маховых перьев крылатого существа, и дальнейшее преследование его по следам на земле невозможно. Камень от гроба отвален, книжники и фарисеи одурачены, земные следы крылатого существа потеряны… Христос воскрес и через какой-то необходимый срок переживаний обманчивой земной радости придет всех судить… Это суд Христов, в противоположность суду человеческому, будет совершаться уже не по земным только следам, а по тем существенным следам крылатой личности, которые ускользали от глаз земного следопыта» {204} .
Я хотела бы ответить себе еще на один вопрос: смогла ли я сохранить свою детскую веру в смысл нашей жизни, в любовь, Невидимый град. Школу радости, Остров Достоверности – в мир нравственного совершенства? Да. И если бы даже весь океан бытия мне удалось процедить сквозь решето своего рассудка, я все равно в нем ничего бы лучше не нашла, чем та жемчужина веры, что единственная лежала на весах моей совести и сознания с далекого детства. Но вот что новое узнала я за свою жизнь: вера становится уже невидимой тайной души, тайной личности.
«Есть только я и Тайна. Все остальное – счеты людей между собой», – записывает в дневнике Михаил Пришвин.
«Есть только Бог и мы. Больше нет ничего. Бог и человек относятся как Тайна и вниманье. А все прочее – тень и сон», – пишет в «Острове Достоверности» Олег.
Мы все идем общим путем рядом друг с другом, и иногда по пути вдруг тихо повеет чем-то знакомым, родным. Мы оборачиваемся, ищем и радостно догадываемся: это с полей нашего Китежа – Невидимого града нашей общей души, он рядом, он близко, невидимый – цветет.
ИЛЛЮСТРАЦИИ

Портрет В. Д. Пришвиной во время работы над книгой «Невидимый град». 1960.

Наталия Аркадьевна Лиорко. 1898.

Дмитрий Михайлович Лиорко.

Витебск конца XIX – начала XX в.

Ляле три года. Витебск. 1903.

Сестры отца Евгения и Ольга.

Наталия Алексеевна и Михаил Порфирьевич Лиорко.

Александра Андреевна Раздеришина.

На даче.

Ляля с кузенами на даче. 1905.

Ляля с подругой. Двинск. 1910.

Гикс «Фиалки». Литография из детской комнаты Ляли.

Семья Лиорко. 1908.

Ляля. 1907

Ляля с матерью и тетками на даче. Выборг. 1915 (?).

Ляля. 1907.

Валерия Дмитриевна возле своей гимназии. Двинск. 1978.

Дом в Двинске, где жили Лиорко.1978.

Двинск. Современное фото.

Наталия Аркадьевна. 1912.

Дмитрий Михайлович в форме Ленкоранского пехотного полка. 1912.

Ляля. 1912.

Ляля в группе детей. Рядом слева Лиля Лавинская. Выборг. 1911.

Наталия Аркадьевна и Дмитрий Михайлович Лиорко перед Первой мировой войной. 1914.

Лазарет при Северо-Западной железной дороге. 9–28 сентября 1914 г.

Д. М. Лиорко незадолго до ареста. Последняя фотография. 1918.

Зинаида Николаевна Барютина. 1917(?).

Пропуск в Моссовет – первое место работы Валерии Лиорко.

Берн-Джонс «Король Кафетуа и нищая».

Портрет Владимира Соловьева из комнаты в имении Узкое, где философ скончался в 1905 г.

Валерия Дмитриевна и Михаил Михайлович Пришвины.

Дом Пришвиных в Дунине, где в 1960–1962 гг. Валерия Дмитриевна работала над книгой «Невидимый град». Ныне музей М. М. Пришвина.

Вывеска детского дома, организованного Валерией Лиорко.

Айседора Дункан.

Михаил Александрович Новоселов.

о. Роман. Рис. З. Н. Барютиной.

Затворник Зосимовой пустыни о. Алексий.

Николай Николаевич Вознесенский

Александр Васильевич Лебедев.

Диплом В. Д. Лиорко.

Ляля с Наталией Аркадьевной в комнате на Мещанской, где бывал Олег.

Олег – ученик реального училища.

Афиша детского спектакля, выполненная Олегом.

Страничка из письма Олега.

Гимназистка. Москва. 1916.

Тюремная фотография Олега.

Иеромонахи Арсений, Даниил и Онисим на Змейке на Кавказе.

Крест из самшита работы Олега Поля, подаренный им Ляле.

На Змейке, где была келья Олега. Фото. 1955.

С матерью Олега Мариной Станиславовной. 1932.

Рисунок Олега «Остров Достоверности», присланный Ляле в письме.


В Колпашево. Нарым. 1934 (?).

В. Д. Лебедева в Колпашеве.

Кружка с Лубянки, сохранившаяся у Валерии Дмитриевны.

Справка об освобождении (дубликат).

Александр Николаевич Раттай.


Валерия Дмитриевна и Александр Васильевич Лебедев в лаборатории на строительстве Московского канала. Дмитров.

Московский канал.

Валерия Дмитриевна. 1938 (?).









